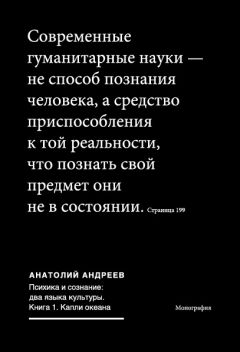
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Таким образом, всякое явление, имеющее эстетическую маркировку и ценность, реализует тип отношения к жизни, ибо мировоззрение как таковое есть обоснование определенного, избранного отношения к жизни. Нет духовно определенного отношения к жизни – неоткуда взяться и эстетической выразительности; с другой стороны, сама по себе духовная содержательность не влечет неизбежной эстетической оформленности. Иначе говоря, духовное без эстетического может существовать; эстетического без духовного попросту не бывает.
* * *
Прочтение литературных произведений превращается в научную дисциплину только тогда, когда читатель видит в произведении не то, что исключительно выражается словами «нравится», «близко», «согласен», «легко читается», «увлекательно» и т. д. (когда читатель увлечен сопереживанием), а тогда, когда литература исследуется как способ отражения и существования внелитературных отношений (иными словами, литература, система систем, сама мыслится в еще более сложной системе отношений). Интерпретировать и актуализировать смыслы в произвольных, случайных контекстах может всякий желающий (в меру своей просвещенности); выстраивать же смыслы в определенный порядок, уметь обнаруживать в смыслах систему, о которой часто не подозревает и сам творец, – дано лишь гуманитарно одаренным и образованным людям. Порядок, контекст, система, иерархия, целостность – вот направленность и сверхзадача прочтения, которое может претендовать на научность.
* * *
При художественном переводе литературного произведения с языка на язык перекодировке подвергается не только лексико-морфологический, интонационно-синтаксический, а также ритмический строй и звукоряд, но и образная ткань произведения. Однако самый важный семантический слой располагается как бы поверх образного ряда: это та причинно-следственная канва, тот рисунок мысли, который непосредственно организует образную ткань.
Иначе говоря, относительно самостоятельны в целостном произведении могут быть обладающие собственным смыслопроизводством язык, образы и менталитет (система духовно-психологических ценностей и ориентаций). В шедеврах эти три уровня органично спаяны. Следовательно, переводятся не слова, а – концепция личности. «Перевести» художественную модель означает воссоздать некий аналог оригинала – с помощью иных (во всех отношениях – иных) выразительных средств.
Отсюда, между прочим, следует: «копия» далеко не всегда может уступать оригиналу. На основе оригинала (по мотивам оригинала) может быть создано произведение, превосходящее оригинал.
Правда, произведения классического уровня и порядка чаще всего подтверждают иную закономерность: перевод дает лишь относительное представление о шедевре, так как потери при переводе ощутимы и невосполнимы. Органическая целостность живет в родной среде, на родной почве. Чем более органики – тем значительнее степень неконвертируемости оригинала.
* * *
Серьезный, научный подход к литературе начинается с того момента, когда литература осознается как феномен психологический.
* * *
Путь к философии пролегает через художественную литературу (к сознанию рефлектирующему – через моделирующее). Таково классическое движение развивающегося сознания.
Чтобы понять художественную литературу, надо обратиться к ее изучению с высот (и с возможностями) сознания рефлектирующего.
Литературу же упорно познают «любящие» литературу и «равнодушные» к философии художественные натуры. Они-то и создали классический миф о непознаваемости художественной литературы, которая, якобы, стоит или «выше», или вне философий.
Кого бог хочет лишить разума, того он награждает художественными способностями.
* * *
Что можно оказать в защиту мифа?
Из серии мифов об одном и том же явлении складывается уже во многом реальная картина. Реальность, отраженная только с одной стороны, и представляет собой классический миф. То есть миф – это все же реально отраженная реальность. Как не бывает дыма без огня, так нет мифа без реальности.
Справедливо и обратное: самый надежный способ запутаться в реальности – подойти к ней с мерками мифа.
Мифы создаются, случается, и не дураками; но именно миф есть лучший способ одурачивать.
* * *
Любое художественное произведение можно редуцировать до «голой» интеллектуальной схемы. И с точки зрения системы идей даже клинически вулканообразный Ф.М. Достоевский предстает если не убожеством, то «мыслителем», тривиальным до пошлости. В чем же его гениальность?
Он гениален в том, что создал художественную модель, воплотил интеллектуальную схему, оживил ее душевными борениями. В результате появилось нечто не сводимое к мысли. Вот этот душевный «остаток», растворенный в схеме, и обеспечивает жизнеспособность искусства. Только в этом отношении искусство чего-то стоит. Писатель, способный сотворить полнокровную модель жизни, воспринимается простыми смертными как чародей, волшебник, бог, создатель почти живых персонажей и почти самой жизни. Разве пристало такому богу стесняться убожества мысли?
Но с позиции «строгого» разума, нечеловечески устойчивого к чарам моделей, художественное творчество – это гимн интеллектуальной неполноценности человека. Вердикт убийственного по отношению к богам разума прост и безжалостен: искусство – это гимн гениальности и неполноценности человека одновременно.
* * *
Страны, в которых писатели и поэты через одного являются обладателями ученых степеней докторов наук, ученых званий «профессоров» и «академиков», поощряют варварскую мифологическую культуру.
Культурная зрелость начинается с того момента, когда писатели талантливы настолько, что перестают что-либо понимать в науке, а авторитет профессоров только возрастает от того, что они могут позволить себе иронически отнестись к собственной художественной бездарности.
* * *
Очень часто в качестве примеров, подтверждающих мою эстетическую концепцию, я привожу произведения Л.Н. Толстого. И дело тут, конечно, не в моем личном пристрастии. Дело в том, что Толстой близок к эталонной модели творца. Он удивительно совмещает собственно художественную и философскую одаренность. И ведь компоненты эти, из взаимоотношений которых выводятся все закономерности художественного творчества, не Толстым выдуманы или открыты. Но соотношение их таково, что писателю-философу удалось четко выявить их специфику. Он блестяще синтезировал духовное («Большие Идеи») и эстетическое (стиль).
Таким образом, дело не в личной его позиции, а в объективной истинности его позиции. И мне в одинаковой степени интересны как сам Толстой, так и воплощенные им глубокие закономерности. Он исключительно выразительно через индивидуальное воплотил всеобщее – не только в смысле духовных, но и творческих законов.
Вот почему в разговоре об искусстве, а тем более о литературе, практически невозможно не затронуть масштабную фигуру русского гения. Гений и объективность – вещи по-разному совместные. В данном случае Толстой, как, впрочем, всякий титан, интересен не только индивидуальностью, но и индивидуально выраженной всеобщностью.
Если абстрагироваться от «высших степеней» развития способностей (гений, титан и проч.), то в известном смысле я мог бы то же самое сказать и о себе, да и вообще о любом художнике или мыслителе. Если мне удалось «зацепиться» за логику (т. е. за причинно-следственный ряд, верно отражающий объективные отношения), то дело уже не во мне (или, скажем в Толстом), а в позиции, которую я отстаиваю. Моими устами, отчасти, уже говорит объективная истина. Подвергать критике меня – значит критиковать мою позицию, значит бесперспективно противостоять истине.
Простой пример. Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Он его именно открыл, но не выдумал. Если вам вздумается поспорить с Ньютоном, то следует принять к сведению, что спорить вы будете не только и не столько с автором открытия, сколько с логикой закона, к авторству которого Ньютон не имеет никакого отношения. Открытое явление существовало объективно, вне и помимо ученого.
К сожалению, не каждому это объяснишь. Не каждому дано понять твою правоту. Вот тут-то и срабатывает «довод к личности»: хочешь скомпрометировать позицию, концепцию, закон – скомпрометируй автора или приверженца этой позиции.
Гнуснее «доводов» не выдумаешь. Перевод научной дискуссии в психологическую область, превращение ее в поединок на языке пошлости – последнее прибежище недоумков, которые всегда виртуозно пользуются своим последним шансом.
Боюсь, что это один из законов человеческого мышления и поведения.
* * *
Требование объективности применительно к критериям художественности – диктует свою логику.
Искусство как таковое имеет свои пики, вершины, выше которых пока ничего нет. Такие Джомолунгмы духа и красоты – Л. Толстой и Чехов. Они продемонстрировали, видимо, возможности искусства, близкие к предельным (дали образцы симбиоза эстетической, нравственной и интеллектуальной мощи).
Все последующие гиганты духа в искусстве не могут не идти по уже проторенной дороге. Они неизбежно попадут в то проблемное и эстетическое поле, которое начали осваивать русские гении. Это не означает, конечно, что следующие за ними будут похожи на них. Это означает, что определенным проблемам должны соответствовать способы их решения. Художественная диалектика, что ни говори, стала достоянием мировой художественной культуры. Только диалектически устроенному сознанию сегодня по силам глубоко, серьезно и адекватно анализировать природу человека.
* * *
В искусстве нет линейного прогресса. «Позднее» отнюдь не всегда означает «лучшее»; часто оно означает «худшее». Это свидетельствует о том, что люди как бы застыли в развитии; об этом же недвусмысленно сигнализирует вечная потребность в магии и колдовстве.
Прогресс в сфере духа человеческого (что служит предпосылкой для прогрессивного рывка в искусстве) видится не в том, чтобы отменить реликтовую потребность и заменить ее модерновой, а в том, чтобы возникающие новые потребности вступали во взаимодействие со старыми, чем достигается эффект обновления. Тогда обеспечиваются единство и преемственность духа, тогда можно говорить о реальном прогрессе и о том, что это все же прогресс в рамках одной самотождественной природы.
В сфере духа ничто никуда не исчезает и вместе с тем постоянно обновляется.
Искусство само по себе, самим наличием своим «убеждает» в вечности мира, ибо собирание множественности мира в единичный целостный образ есть архетип архетипов жизни.
* * *
Не перестаю удивляться: как могут поэты, писатели, художники, музыканты – словом, люди высокой культуры – преклоняться перед народом – абсолютно варварским скопищем существ, живущих почти бессознательной жизнью?
Преклоняться, уважать, боготворить?
Убежден, что нормальная реакция у нормального (по меркам высокой культуры) человека на вынужденный контакт с так называемым простым народом колеблется в пределах от презрения и брезгливости до жалости. Но где взять отношение как к себе подобному, не ломая чувствительной комедии?
Если талантливый и живущий духовными потребностями человек искренне идеализирует культурный облик антипода – следовательно, мы имеем дело с аберрациями, замещениями, невольной подгонкой под желаемое – с фокусами психики.
Простой народ непосредственно любить невозможно (если, повторяю, ты прошел школу культуры чувств, мышления, поведения и т. д.). И если его все же любят, то, так сказать, опосредованно, испытывая естественную человеческую благодарность за предоставленную возможность стать личностью. Мы рождены народом, вышли из него – и стали его противоположностью. Такова логика пути. И все неумеренные восторги по поводу высокой духовности народа – это всего лишь комплекс неполноценности не способной мыслить «интеллигенции»: нельзя ведь презирать то, чему ты в определенном смысле обязан жизнью. Так народ наделяется чертами, которых он, темный и невежественный, сам в себе не разглядел: он и богоносец, и духовный, и добрый и проч.
Ничего не скажешь: мифы о народе – единственное, что может заставить его полюбить. Куда труднее отнестись к народу здраво: почитать его как колыбель и презирать как антипод культуре, как угрозу и невыносимую среду обитания для личности, ибо ничто в такой степени не противостоит культуре, как приложивший руку к ее появлению народ.
Таким образом, самозабвенная и беззаветная любовь к «своему народу» есть безошибочный признак недостаточной от него оторванности, т. е. недостаточной культуры. Уважающей себя личности подобает испытывать к «своему народу» смешанные чувства.
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» – честно сказано поэтом. Культурная личность тоже вырастает из невероятной грязи. Можно – и это вполне естественно – даже испытывать своеобразную нежность к «почве». Но грязь есть грязь, культура есть культура, и смешивать одно с другим – значит поддаться психологической слабости и поступиться истиной, одной из высших ценностей культуры.
Мифы, как всегда, более угрожают культуре, хотя и украшают ее.
* * *
Художники являются не умом нации, а ее душой, интуицией. Чувства снисхождения достойны народы, которые тщатся сделать своих художественных гениев олицетворением ума и мудрости. Уже само стремление это служит свидетельством того, что народ находится на ранней стадии своего духовного становления.
* * *
Как красота спасает мир
1.
Почему в природе нередко случается так, что самки невзрачны, неколоритны, эстетически невпечатляющи, а самцы, напротив, потрясают своим окрасом, блещут немыслимым по гамме оперением, завораживают формами и линиями?
Давайте заглянем в корень. Кто кого выбирает? Кто на кого – из кожи вон! – производит впечатление, кто кому старается понравиться?
Вопросы содержат ответ. Тот, кто по жребию природы оказывается стороной выбирающей, вместе с «позиционной» привилегией получает и невыразительную внешность; сторона выбираемая, которая, повинуясь мудрой генетике, заботится о продолжении рода привлечением внимания, получает привилегию щеголять броской внешностью.
В мире людей законы природы так же действенны, как и среди популяции павлинов. Достаточно взглянуть на любой престижный раут, где исключен дурной тон и поощряется хороший вкус, чтобы понять, кто кого выбирает. Лучшим украшением мужчины, обряженного в обезличивающую униформу, будь то смокинг, костюм или мундир, является женщина, которая ослепляет уникальностью и индивидуальностью; дурным тоном считается не отметить светским комплиментом искусно продемонстрированные прелести. Мало того, что природа сама позаботилась и о пышности форм, и о возбуждающей раскраске соответствующих зон; женщина все это «ненавязчиво» подчеркнет и умело сакцентирует. Товар – лицом. После этого не обратить внимание на достоинства прекрасной половины человечества – значит не выбирать ее, значит выбирать других, значит фактически признать ее невысокую конкурентоспособность. Вот почему ничто не приносит такую искреннюю радость женщине, как фальшивые комплименты.
Что касается природных критериев настоящего мужчины, то ему не обязательно походить на селезня, индюка, женщину или краснозадого павиана; рейтинг мужчины определяется тем, сколько лучших женщин наряжается ради него.
2.
Любопытно в свете сказанного коснуться природы эстетических отношений. Очевидно, что эстетическая маркировка особи выполняет определенную функцию, а именно: появление «красоты» вызвано необходимостью продолжения рода, следовательно, эстетическое чувство «привязано» к инстинктам.
Таким образом, в основе эстетических отношений лежат все те же «простые» природные императивы. В этом смысле красота спасала и, хочется надеяться, будет спасать мир.
Однако если остановиться на данном тезисе, то мы рискуем безнадежно вульгаризировать проблему и тем самым дискредитировать тезис, глубина которого просвечивает сквозь диалектические наслоения противоречий. Наивная попытка путем «честного», как инстинкт, умозаключения непосредственно вывести все из природы мало что прояснит в современном эстетическом сознании. Оно взращено не столько на наблюдениях за флорой и фауной, сколько на впечатлениях от поражающих своим совершенством рукотворных шедевров; искусство научилось поэтизировать стремление к познанию истины не менее живописно, чем отношения полов. Предметом искусства стало «все», а культурная сверхзадача эстетических отношений явно несводима к сексуальной озабоченности. Возможно ли в таком случае происхождение эстетического генетически связывать с отношениями полов, с функцией поддержания жизни?
Этот вопрос могут считать риторическим только те, кто воспитывал свое мышление средствами искусства. Возникнув по воле и согласно объективной логике «натуры», эстетическое, пройдя школу культуры, в принципе не может поменять свою природу: это было бы нарушением законов генетики.
Жизнеохранительную функцию искусства следует понимать не в том смысле, что искусство всегда замешано на узко трактуемом «эротическом» начале, а в более широком плане, как архетипическую модель отношений, где жизнь всегда торжествует, где то, что «работает» на идеологию жизни, всегда победит смерть; где эстетически изображенная смерть становится преображенной смертью, парадоксальным образом стимулирующей жизнь, а не уничтожающей ее.
Все, чего ни коснется «прекрасное», тотчас становится «эротическим» в широком смысле, т. е. чувственно воспринимаемым – следовательно, становится симптомом жизни. Вот почему «прекрасное есть жизнь»; вот почему цель художника, по словам Л.Н. Толстого, состоит в том, чтобы заставить человека «полюблять жизнь». Вот почему искусство как высшее проявление эстетического по определению является службой жизни. Поскольку «жизнь коротка, а искусство вечно», последнее стало едва ли не способом продления жизни, едва ли не заменой жизни…
Риторические вопросы звучат несколько иначе: где же следует искать механизм «сцепления» эстетического с жизнью – не в том ли звене, где непосредственно зарождается жизнь? не есть ли природа первый художник?
Если в искусстве высоком «механизм» завуалирован настолько, что сложно оперировать самим понятием «точка отсчета», то в искусстве массовом он предельно обнажен в своей функциональности. Незамысловатый эстетический ширпотреб просто-напросто является аранжировкой нехитрых духовных программ духовно неискушенных индивидов (или искушенных, но сознательно решивших раскрепоститься, расслабиться, «отвязаться»). Субкультура и не скрывает своей развлекательно-терапевтической и ярко выраженной сексуальной направленности, легко сочетающихся со всякого рода психологическими, и не только психологическими, наркотиками и транквилизаторами. Чем хуже – тем лучше: меньше культуры – больше жизни, ближе к природе. Простенькие ритм, звук, краски, запахи будоражат «эротическое» ощущение жизни. Массовые искусство и культура честно стоят на защите жизни.
Иное дело высокое искусство, где эстетическое во многом самоценно, автономно, отделено от первородной функции опосредующими духовно-психологическими мотивами; по поводу искусства одухотворенного культивируется миф о его божественном, неземном происхождении – и, следовательно, о мессианских функциях искусства. Эстетически воплощенный бог (эталонное представление человека о самом себе) комически пытается изменить самого человека. Комизм проистекает от наивной убежденности в наличии некоего не реализованного до поры до времени духовного потенциала, который непременно будет востребован в будущем. Сама же демонстрация реальных творческих возможностей личности отнюдь не комична. Следует признать, что духовное и эстетическое совершенство искусства хотя и не могут отменить наказ природы чтить ее превыше культуры, вместе с тем значительно облагораживают человека природного.
Таковы скрытые составляющие всякого явного эстетически значимого акта, делающие высокое искусство амбивалентным: оно стоит на страже жизни и в то же время прославляет духовного (максимально удаленного от природы) человека. Искусство странным образом не замечает, что оно облагораживает человека средствами, убивающими само искусство.
* * *
Красота спасет мир.
Если рассматривать это красивое, но бессмысленное изречение как оговорку гения и наделить его сокровенным смыслом, которого, конечно, Достоевский и не думал в него вкладывать, то мы получим достаточно глубокую философскую сентенцию.
Гении, особенно художественные гении, часто проговариваются, рождая словесные формулы, вмещающие действительно глубокий смысл, о котором творцы и не подозревали. Это, конечно, будет не Достоевский, но это будет иметь смысл.
Если учесть, что красота (противоположный от истины полюс) может существовать только в виде художественных моделей-образов, то надо признать, что «красота», понимаемая как эстетическое совершенство, никогда не сможет приблизиться к истине, что бы она ни «говорила». Ибо язык истины – язык понятий. А на этом языке красота попросту не может функционировать и прекращает свое существование, вымирает. Следовательно, «красота» всегда будет говорить не об истине, хотя ей будет казаться, что она делает именно это. Красота всегда говорит о том, что ей кажется истиной, об иллюзии – о прекрасной, но иллюзии.
Если согласиться с тем, что жизнь всецело зиждется на иллюзиях, жизнь есть осуществление потребностей (а логика потребностей не считается с логикой истины) – становится ясно, что жизнь совместима именно с красотой, но не с истиной. Поэтому красота действительно спасает мир – но только ценой отказа от истины.
Не знаю как кому, но мне лично такое спасение представляется в известной степени унизительным. Нет, я вовсе не разделяю экстремизм правдоискателей, я не за то, чтобы «пусть рухнет мир, не дайте мне истину». Нет. Но я за то, чтобы мы отдавали себе отчет: выживаем мы ценой отказа от истины. И унизительность видится мне в том, что изречения подобного типа выдаются за истину, понимаются буквально: красота как таковая спасет мир.
Мир требует лжи иллюзий, красота дает ее. Спасение возможно лишь ценой лжи. Перед чем тут благоговеть?
* * *
Высочайшие художественные достижения русских (прежде всего в области литературы), сделавшие их одним из лидеров мировой культуры, свидетельствуют об их слабости: неумении аналитически расчленять мир. Об этом же говорит былой и остаточный культ своеобразно понятой «интеллигентности», где чуткость к «художествам» была едва ли не определяющей чертой культурного человека.
Избыточная талантливость русских мешает им трезво жить. Искусство, замешанное на крайней скудности аналитических кондиций, является реликтом мифологического сознания, если уж не грешить против истины. Человек, склонный к поэзии (в широком смысле), отличается вечной детскостью и непосредственностью – иначе говоря, неумением мыслить. Поэзия как своеобразный заменитель наркотика позволяет, нейтрализуя разум, восторженно воспевать божий мир, ликовать от самой возможности контакта с миром постижимых и еще более непостижимых объектов, – контакта «непосредственного», порождающего гамму всевозможных ощущений. Контакт как возможность познания не представляет для поэзии большой ценности. Вот почему поэзия, по словам умного поэта, должна быть глуповата.
Сосредоточенность на факте соприкосновения с миром и приспособления к нему, составляющая смысловое ядро искусства, сама по себе, возможно, не такой уж большой порок. Плохо то, что мир неумолимо меняется в сторону, где ценятся умения и навыки не столько поэтизировать мир, пребывая с ним в гармонии, сколько способность преобразовывать невыдуманную, «грубую» реальность, предварительно лишив ее поэтической неприкосновенности, т. е. познав ее.
Прагматическому типу отношения к жизни свойственна известная сентиментальность, но не надо путать ее с художественно-мифологической ментальностью. Гуманистический флер сентиментальности прекрасно уживается с прагматической хваткой и деловитостью, компенсируя их жесткую функциональность, и выступает антиподом по отношению к поэтическому максимализму.
Вся так называемая «загадка» русской души яйца выеденного не стоит: она всего лишь в излишней, повышенной психологизированности (что можно рассматривать как «восточную» составляющую менталитета), чрезмерной возбудимости и развившемуся на этой основе художественно-поэтическому мировосприятию; достаточная предрасположенность к рациональному типу мышления («западная» составляющая) позволила образотворчеству русских стать интеллектуально насыщенным, однако недостаточная предрасположенность к тому же типу мышления не позволила им создать что-либо достойное внимания в гуманитарных областях, где надо собственно мыслить, т. е. не бессознательно синтезировать образы, а аналитически разлагать их. Даже философия русских – «религиозная философия» – есть все то же реликтовое мышление в образах, которое опутано пуповиной мифологического сознания. Отсюда и парадокс: будучи разнообразно талантливым народом, русские не в состоянии прагматически отладить свою жизнь; они не умеют блюсти выгоду или даже могут встать выше выгоды, что для нормального западного сознания является, конечно, пугающей «загадкой».
Таким образом, подлинную угрозу национальной безопасности русских следует усматривать в их ненормальной (по меркам сегодняшнего технотронного общества) склонности к «поэзии», в устройстве их духовного космоса, который требует особого трудового ритма, соответствующей организации труда, форм досуга – словом, комплекса мер социальной адаптации к своим природным данным. Правда, я как русский не уверен, что мировое сообщество, где поэты становятся национальным бедствием, устроено на разумных началах. И все же: надо не жаловаться, а выживать, сохраняя свою генетику и культурное лицо.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































