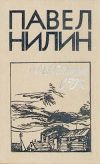Текст книги "Конец Хитрова рынка"

Автор книги: Анатолий Безуглов
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)
Тобольск, 1918 года, апреля 24 дня
Пишу ночью. Только что от меня ушел Кобылинский. Говорил он намеками, но в то же время достаточно определенно. Несколько раз повторил: «Василий Васильевич Яковлев не тот человек, за которого его принимают в Москве и Тобольске». С его слов, Яковлев (фамилия, кажется, ненастоящая) был когда-то морским офицером. После того как в Скатуддене он совершил политическое преступление и военный суд приговорил его к смертной казни, Яковлев написал на высочайшее имя, и смертную казнь заменили каторжными работами. Потом он бежал, был в Америке, а затем в Германии и Швейцарии.
– Знаете, – сказал Кобылинский, – на некоторых революционеров заграничный воздух действует благотворно…
Когда я заговорил о Екатеринбурге, он сказал:
– А почему обязательно Екатеринбург? По тем или иным причинам поезд с государем и государыней может направиться в другой город, с более здоровым климатом, ну, скажем, в Уфу… Правда, пока там тоже большевики, но в наше время нет ничего незыблемого. На днях в Челябинске состоялось совещание делегатов чехословацкого корпуса с представителями англо-французского командования и центрального штаба сибирских боевых дружин… Николай Александрович уже дал согласие на отъезд. С ним поедут Александра Федоровна, Мария Николаевна, Долгорукова и доктор Боткин. Наследник пока останется здесь.
– Но какие гарантии того, что… произойдет ошибка в маршруте?
– Мое честное слово…
– И слово большевистского комиссара Яковлева?
– Да, Яковлева, но не большевистского комиссара, а офицера и дворянина, – твердо сказал Кобылинский.
Тобольск, 1918 года, апреля 26 дня
Сегодня в четыре часа утра к губернаторскому дому подали кошевы[16]16
К о ш е в а – подвода (местное название).
[Закрыть] и крытый тарантас для Александры Федоровны и Марии Николаевны. Улица заполнилась конными красногвардейцами.
Было холодно, и во дворе разожгли костры. Государь, стоя на крыльце, зябко потирал руки. Он был в легкой шинели без погон и в фуражке. К нему подошел Яковлев, поднося ладонь к папахе, спросил:
– Что вы берете с собой теплого?
Когда государь сказал, что ничего, Яковлев распорядился положить в кошеву шубу и плащ.
– Иначе можно простудиться, Николай Александрович, – сказал он, – дорога долгая…
Потом Яковлев поинтересовался, как «маленький» провел ночь (Алексей Николаевич болен). Так же предупредителен он был с Александрой Федоровной и Марией Николаевной. В путь тронулись в шесть часов утра. Впереди – сорок верховых с пулеметами, а за ними в окружении всадников цепочка подвод. На первой – Николай Александрович с Яковлевым, затем тарантас с Александрой Федоровной и Марией Николаевной, кошевы с приближенными, с вещами и опять красногвардейцы на лошадях. Николай Александрович широко перекрестил сгрудившихся у ворот великих княжон. Анастасия Николаевна заплакала…
Когда конный поезд скрылся из виду, к нам подошел Гаман. Не приветствуя Кобылинского, он сказал:
– Пятьдесят офицеров вполне бы справились со всей этой сволочью!
– Возможно, прапорщик, – согласился Кобылинский. – Но еще более вероятно, что при первых же выстрелах Николай Александрович был бы убит охраной.
Тобольск, 1918 года, апреля 28 дня
Кобылинский получил от Яковлева телеграмму: «Едем благополучно. Христос с вами. Как здоровье маленького?»
Тобольск, 1918 года, мая 3 дня
Как обычно, зашел Кобылинский. По его расчетам, семья должна была уже быть в Уфе. Он ждал телеграмму от своего человека. И телеграмма пришла… Ее принес вестовой. Всего три слова: «Прибыли Екатеринбург Крючкин…»
Екатеринбург, 1918 года, мая 29 дня
Наконец мы в Екатеринбурге. Царская семья находится в особняке Ипатьева, который окружен двойным забором и называется большевиками «домом особого назначения». Охрану несут рабочие с фабрики братьев Злоказовых. Днями должен прибыть Думанский. Ожидают приезда высланных из Вятки великих князей Сергея Михайловича, Игоря Константиновича, Ивана Константиновича и князя Палея. Беседовали с нашими людьми. Все обстоит лучше, чем ожидали. Многие из слушателей Академии генерального штаба не считают нужным скрывать своих монархических убеждений, некоторые из них уже предлагали Кривошеину свои услуги. Гаман, как обычно, полон идеями, деятелен и горяч. О недалеком прошлом предпочитает не вспоминать.
– Поверьте мне, – сказал он после вечера, проведенного в одном из офицерских кружков, – перевод в Екатеринбург государя – перст Божий. Триста лет назад в Ипатьевском монастыре первый Романов согласился принять русскую корону, а теперь утерянная корона велением небесного промысла будет возвращена его потомку в ипатьевском доме. Ипатьевский монастырь и ипатьевский дом – такое совпадение не может быть случайностью…
На груди Гаман вытатуировал себе корону, а под ней цифру 1918. Да поможет нам бог!
Екатеринбург, 1918 года, июля 1 дня
Письмо, переданное государю
«С Божьей помощью и с Вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. Необходимо расклеить одно из Ваших окон, чтобы Вы могли его открыть. Я прошу точно указать мне окно. В случае, если маленький царевич не может идти, дело сильно осложнится, но мы и это взвесили, и я не считаю это непреодолимым препятствием. Напишите точно, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из вас. Нельзя ли было бы на один или два часа на это время усыпить «маленького» каким-нибудь наркотиком? Пусть решит это доктор, только надо вам точно предвидеть время. Мы доставим все нужное. Будьте спокойны. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем Вам в этом торжественное обещание перед лицом Бога, истории, перед собственной совестью».
Письмо от государя
«Второе окно от угла, выходящее на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна 7-е и 8-е около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно так же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощником. Внутренняя охрана состоит из 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами.
Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход ночью два раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами бряцает оружием. На балконе стоит один пулемет, а над балконом другой, на случай тревоги. Напротив наших окон, на той стороне улицы, помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ № 9 находятся у коменданта, который с нами обращается хорошо. Во всяком случае, известите нас, когда представится возможность. Ответь те, можем ли мы взять с собой наших людей. Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Если наши люди останутся, то можно ли быть уверенным, что с ними ничего не случится?»
Копии остальных писем к государю и от государя днями будут мне переданы. Эти документы помогут новому Нестору написать заключительную главу истории восстановления самодержавия в исстрадавшейся России.
Екатеринбург, 1918 года, июля 2 дня
Освобождение государя должно было состояться 15 июля, но, по сообщению офицера связи, благополучно перешедшего вчера линию фронта, Екатеринбург будет взят не позже 12 июля. Это все меняет. Большевики, не имея возможности эвакуировать царскую семью, могут пойти на крайние меры. Поэтому решено до минимума сократить срок подготовки и похитить царскую семью в ночь с 9 на 10 июля. Все детали предстоящего нападения на охрану «дома особого назначения» окончательно разработаны и доведены до исполнителей.
Екатеринбург, 1918 года, июля 8 дня
Над Россией опустилась ночь. Господь не остановил руку дьявола. Нет больше помазанника божьего. Свершилось самое страшное.
В ночь с 3 на 4-е (с 16 на 17 июля по новому стилю) по решению Уралсовета его императорское величество государь император всея Руси Николай Александрович Романов казнен. Всевышний отказался от нас.
Екатеринбург, 1918 года, июля 10 дня
Большевики покидают город, но у забора вокруг дома Ипатьева по-прежнему стоят часовые.
Днем был Думанский. Глядя в окно на отходящие обозы красных, сказал:
– Разделяю ваше горе. Но… Король умер. Да здравствует король! Мы потеряли царя, зато приобрели мученика. Это приобретение с лихвой компенсирует потерю.
Я указал ему на дверь. Думанский, кажется, даже не обиделся. Уходя, сказал:
– Борьба за Российскую империю только начинается. А будет империя – будет и царь. Главное – корона, а уж голову для нее мы отыщем, умную голову. О новом императоре никто не скажет, что самодержавие у нас неограниченное, зато самодержец ограниченный… Кровь бедного Ники пролита не зря: она скоро всю Россию зальет, за нее не одна тысяча мужиков и мастеровых своей кровью расплатится. Изучайте русскую историю, Николай Алексеевич.
16
Раньше я видел фотографии трупа Богоявленского. Дневник превратил его в живого человека. Но живой Богоявленский по-прежнему оставался для меня загадкой. Мне были понятны циничный Думанский, Борис Соловьев, Гермоген – такие мне встречались. Но Богоявленский… Трудно было понять чувства, которые он испытывал к царю, к тому самому Николаю II, который после Ходынки, когда через Москву тянулись телеги с трупами задавленных, развлекался тем, что стрелял ворон в саду, а перед ответственными совещаниями не забывал подержать образок в руках и несколько раз расчесать волосы гребенкой Распутина…
При жизни отца в нашем доме бывали люди самых различных убеждений: эсдеки, кадеты, эсеры. Не было только монархистов. Обычно терпимый к инакомыслящим, отец относился к ним с какой-то брезгливостью, считая верноподданичество позором для русской интеллигенции. С той же подчеркнутой брезгливостью относился он к Николаю II. Бывший земский врач, возлагавший на земства большие надежды в «деле возрождения России», отец до конца своей жизни не мог забыть Николаю слов, сказанных им в 1895 году на приеме депутаций от дворянства, земств, городов и казачьих войск. «Мне известно, – заявил тогда новый царь, – что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель…»
С того времени отец иначе не называл царя, как державным тупицей, привив нам с Верой с детства ироническое отношение к нему. Имя царя в нашем доме упоминалось только в связи с какими-либо политическими скандалами или анекдотами, до которых отец был великий охотник. Собирал он их повсюду. Хорошо помню, как он весь подобрался, когда во время воскресной поездки на Воробьевы горы расположившийся недалеко от нас на траве оборванец с озорными глазами и густой гривой нечесаных волос, видно поп-расстрига, поднимая шкалик, проговорил скороговорочкой: «Помяни, господи, царя Николашу, жену его Сашу, наследника Алешу косолапого, всех его деточек – косматых девочек, Гришу Распутяшу и всю поповскую братию нашу!»
«Вот оно, отношение к помазаннику Божьему, – сказал мне отец. – Очень характерно!»
И когда впоследствии один из гостей заговорил как-то о том, что в русском народе еще жива вера в Николая II, он сказал: «Бросьте, батенька! Можете у моего сына проконсультироваться. Он в позапрошлое воскресенье получил на Воробьевых горах достаточно полное представление об этой вере. О святынях прибауточек не сочиняют…» И потом еще долго, садясь за стол, он вспоминал: «Как этот лохматый говорил? Помяни, господи, царя Николашу и жену его Сашу?..»
По мнению отца, на всю Россию едва ли набралось бы больше ста тысяч искренних и убежденных монархистов. Я, конечно, понимал, что монархические идеи во время гражданской войны были популярны в стане белогвардейцев, но мне всегда казалось, что колчаковские, корниловские и деникинские офицеры прибегают к ним с той же целью, что и к спирту или кокаину. Уж слишком скомпрометировало себя самодержавие даже в глазах тех, кто враждебно относился к Советской власти. А сам Николай II ничем не был похож на того царя, о котором мечтали, идя навстречу своей гибели с винтовками наперевес, марковцы и дроздовцы… Трудно было предположить, что исступленная мечта о возврате к старому, к абсолютной монархии может для кого-либо воплотиться в образе маленького ординарного полковника, который в 1890 году с глубоким и нескрываемым удовлетворением гимназиста-второгодника записал в своем дневнике: «Закончил свое образование окончательно и навсегда…»
Дневник Богоявленского над многим заставлял задуматься. Но само собой понятно, что меня в первую очередь интересовало, можно ли будет его использовать в раскрытии убийства. Должен признаться, что его значение в этом смысле мне было тогда неясно и я еще не представлял, какое место он займет в цепи улик. Но что-то мне подсказывало, что этот документ пока невидимыми для меня нитями связан с трагедией, которая произошла в пригородном поезде. Во всяком случае, основываясь на нем, уже можно было выдвигать более или менее правдоподобные версии.
Перед отъездом из Петрограда побриться я не успел, а по неписаным, но строго соблюдаемым законам в МУР надлежало являться только чисто выбритым. С минуту поколебавшись, я все-таки решил, не заезжая домой, прямо с вокзала отправиться в розыск. Фреймана на месте не оказалось. Кемберовский с выскобленными до синевы щеками – живой для меня укор – доложил, что Фрейман будет через полтора часа и перед уходом просил, чтобы я оставил привезенные из Петрограда документы в его сейфе.
– Если желаете побриться, товарищ субинспектор, то у меня есть бритва…
По старой солдатской привычке Кемберовский всегда носил с собой нитки, иголку, бритву – все, что может потребоваться в походе и на отдыхе.
– Похабная морда?
– Не по форме, – деликатно сказал он.
Пока я брился, неловко приспособив на подоконнике маленькое зеркальце, Кемберовский молчал. И толь ко когда моя физиономия приобрела подобающий для моей должности и учреждения, в котором я служил, вид, он сказал:
– Сегодня ночью у нас ЧП было: обыск в подсобном помещении лавки Совкомхоза…
– В какой лавке?
– Совкомхоза… Там, где раньше Богоявленский жил…
– А кто и зачем обыскивал? – не понял я.
– Не могу знать, товарищ субинспектор.
– Значит, обыск не мы производили?
– Никак нет, посторонние. Личности установить не удалось. Хулиганский погром учинили: половицы в комнатах отодрали и стены попортили. Нанесен убыток на восемьдесят рублей пятьдесят четыре копейки…
Надо было, конечно, оставить на квартире покойного засаду. Но разве можно все предусмотреть? На всякий случай я спросил:
– Улики обнаружили?
– Никак нет.
– Ищейка была?
– Так точно. Только она ничего не унюхала. Покрутилась, покрутилась, и все… Керосин там разлит был, а собаки керосину не любят, он им в нос шибает…
– Ясно. По крайней мере, насчет собак и керосина… Передайте Фрейману, что я буду у Сухорукова.
Виктора я застал за неожиданным занятием: он сидел за столом, держа в руках громадную розовую куклу, и кончиком карандаша пытался открыть ей глаза. Он до такой степени был погружен в свою работу, что не сразу заметил мое присутствие.
– А, Саша, – сказал он, поспешно засовывая куклу в ящик стола, – заходи.
Так как я уже зашел, то его любезное приглашение несколько запоздало. Он внимательно посмотрел на меня, видимо пытаясь понять, заметил я куклу или нет, и на всякий случай сказал:
– Вот, куклой занимаюсь… Любопытная механика…
– Сыну купил?
– Сыну, хотя он у меня куклами уже не интересуется. Ему коня и саблю подавай.
Он придвинул стул к письменному столу, предложил мне папиросу и сам закурил. Он еще ничего не сказал, но я уже понял: беседа друзей окончена. Теперь в кабинете нет ни Виктора, ни Саши, здесь присутствуют начальник секретной части уголовного розыска Сухоруков и прибывший из командировки сотрудник. Это Виктору хорошо удавалось, он всегда умел без видимого нажима показать, что дружба дружбой, а служба службой и что для шуток и для дел у него в кабинете имеются отдельные ящики…
– Слушаю тебя.
Я рассказал про допрос Стрельницкого, про содержание дневника. Сухоруков слушал молча, но когда я упомянул фамилию Яковлева, он сказал, что встречался с ним на Восточном фронте.
– В девятнадцатом вместе с группой военспецов к белым перебежал… Пулеметчик у нас был неопытный, неправильно прицел взял. Все ушли. Только одного наш особист из маузера успел срезать. Кажется, Мячик его настоящая фамилия, а Яковлев – подпольная кличка…
Я спросил, действительно ли Яковлев пытался увезти царя и царицу в Уфу.
– Насчет Уфы не знаю, – сказал Виктор, – а то, что у него в Екатеринбург ехать желания не было, – это точно. Потом, когда в особом отделе спохватились и начали людей опрашивать, один паренек, бывший его адъютант, про всю эту петрушку рассказывал…
По словам Виктора, когда Яковлев прибыл ночью в Тюмень, его уже дожидался специальный поезд. Он поместил в вагон царскую семью, расставил часовых, а сам отправился на телеграф, якобы для того, чтобы связаться по прямому проводу с центром. Вернувшись, он сказал, что получены новые инструкции: необходимо доставить бывшего царя и бывшую царицу не в Екатеринбург, а в Москву. «Поэтому поезд, – сказал он, – поедет через Омск – Челябинск – Самару». Это сообщение было воспринято с недоверием, и один из екатеринбургских рабочих телеграфировал об изменении маршрута в Екатеринбург. Там срочно было созвано заседание президиума Уралсовета, и Яковлева объявили вне закона. Одновременно были разосланы телеграммы с требованием задержать его поезд. Из Омска на станцию Куломзино был выслан красногвардейский заградительный отряд с пушками и пулеметами. Узнав об этом, Яковлев остановил поезд на станции Люблинская, отцепил паровоз и на нем отправился в Омск на переговоры. Но в Омске отказались вступать с ним в какое-либо соглашение и пригрозили расстрелом. Тогда Яковлев распорядился ехать в Екатеринбург.
– И там никто не потребовал с него ответа?! – поразился я.
– Нет, почему же… Даже арестовали, но потом выпустили. Он сказал, что опасался нападений в дороге, ну и решил обходным путем… Может, поверили, а может, просто рукой махнули… Время, сам знаешь, какое было…
В отличие от меня Виктор не заинтересовался ни монархизмом Богоявленского, ни его преданностью Николаю II, ни попытками освобождения царской семьи. К дневнику он подходил только с одной точки зрения – как его можно использовать для расследования.
– Что у тебя за манера по каждому поводу психологические финтифлюшки лепить? – недовольно говорил он. – Что Индустриальный, что ты. Лепите, лепите… Психология Богоявленского!.. На кой она тебе? Что она тебе даст? Ты, Саша, не воевал, а фронт неплохо уму-разуму учит. Там все финтифлюшки побоку, там, что в бане, – голые все, без одежд красивых…
– И без психологии?
– Почему? С психологией. Только она там простая, без выкрутасов, тоже нагишом. По одну сторону мы, по другую – белые. Или ты убьешь, или тебя убьют. Твоя победа – твоя правда по земле ходит, он победил – его правда победила. А почему он в тебя целится – по дурости своей или по уму, – это не рассусоливали, разве что на отдыхе, когда вшей били…
– Но сейчас-то мы не на фронте…
– На фронте, Саша. И здесь фронт, и за кордоном. И Врангель жив, и Кутепов, и Деникин, и Керенский, и бывший великий князь Николай Николаевич пролезть в императоры надежды не растерял… У всех у них, наверно, психология. Но мне до нее дела нет. Я одно вижу – держат они палец на спусковом крючке. И я свой палец с этого крючка не спускаю. Понял?
– Понять-то понял, но все у тебя слишком просто…
Виктор усмехнулся:
– Не все плохо, что просто.
– А все-таки, что ты думаешь о Богоявленском?
– О его монархизме?
– Хотя бы.
– Среда, воспитание, традиции. Ну еще привычная точка зрения, о которой Думанский высказался, – на всю эту мишуру снизу вверх смотреть. Когда так глядишь, да еще на расстоянии, и Николай за наместника Бога на земле сойдет: одна корона видна блестящая… Здорово этот блеск слепит! От него слепли люди и поумней Богоявленского. А идеалы… У них свои, у нас свои. Идеалы, как говорил наш гример Леонид Исаакович, точно так же, как и платье, каждый по своему вкусу, а главное – по росту подбирает.
– В общем, в лилипуты Богоявленского определяешь?
– Не в великаны же…
Выходя из кабинета Сухорукова, я столкнулся в коридоре с Фрейманом.
– Доложился?
– Доложился.
– Ну и как? Молчит, конечно, аки сфинкс? А я тебя заждался. Идем ко мне, поговорим.
– Дневник и протокол допроса прочел?
– Не та формулировка, гладиолус: не прочел, а проглотил. Ну как Петроград? Была хоть иллюминация в честь твоего приезда? Нет? И это называется петроградское гостеприимство!
Илья, как обычно, шутил, привычно сорил словами, улыбался, но глаза его оставались серьезными, даже немножко грустными. Вне всякой связи с предыдущей фразой он вдруг спросил:
– Ты внимательно прочел дневник?
– Разумеется.
– Тебе не кажется, что Думанский и Таманский, о котором говорил приказчик, одно и то же лицо?
– Таманский и Думанский? Возможно… Фамилии созвучные. Приказчик, конечно, мог недослышать. Если Богоявленский и Лохтина говорили при встрече о шантаже Думанского, это зацепка, причем основательная зацепка. Хочешь допросить по этому вопросу Лохтину?
– Сейчас послал за ней Кемберовского.
Илья прошелся по кабинету, влез на подоконник, открыл форточку.
– Весной пахнет… Чего не куришь? Кури…
Я закурил. На столе Фреймана лежал дневник Богоявленского, из него торчали язычки бумажных закладок.
Илюша искоса посмотрел на меня.
– Ну ладно, выкладывай, – сказал я.
Он сделал удивленные глаза:
– Что выкладывать?
– То самое.
Фрейман усмехнулся, почесал переносицу и сказал:
– А знаешь, мы, кажется, неплохо изучили друг друга. Дневник действительно натолкнул меня на одну идею…
– Какую?
– Гениальную, конечно…
– А если конкретней?
– Давай немного пофантазируем, – предложил Илья. – Ты, конечно, помнишь, что Лохтина начисто отрицала свои встречи с Богоявленским в конце семнадцатого и в начале восемнадцатого?
– Разумеется.
– А из дневника видно, что они не только встречались, но и вместе участвовали в попытках освободить царскую семью. Почему Лохтина лгала?
– Видимо, не хотела компрометировать себя и Богоявленского.
– Неубедительно. Своих монархических взглядов она на допросах не скрывала, более того, разглагольствовала о жестокостях большевиков-безбожников и хвалила белогвардейцев. Терять ей нечего, а вся история с царской семьей – дело прошлое. Поэтому для нее более естественным было бы, скорей, афиширование своего участия в деятельности кружка Вырубовой или Кривошеина. А что касается Богоявленского, то ему уже ничего повредить не может…
– А как ты объясняешь этот факт?
– Минутку, не торопись. Ответь мне сначала на следующий вопрос: как ты считаешь, Лохтина знает убийцу Богоявленского или, на худой конец, подозревает кого-либо в его убийстве?
– Думаю, что да. Когда я ей сказал, что рассчитываю на ее помощь в розыске преступника, она ответила, что на все воля Божья, в том числе и на убийство… Потом ее поведение на допросах…
– Абсолютно верно, – сказал Илюша. – А теперь перебрось небольшой мостик от первого факта ко второму…
– Ты считаешь, что Лохтина отрицала свои встречи с Богоявленским в 1918 году и свое участие в попытках освободить Николая II только для того, чтобы не навести нас на след убийцы?
– Точнее будет сказать: не считаю, а предполагаю. Мне кажется, что убийца – кто-то из их друзей того времени… Кстати, могу биться с тобой об заклад, что сейчас Лохтина заявит, будто она впервые слышит фамилию Думанского…
В этом, как я через полчаса смог убедиться, Фрейман оказался прав: Лохтина призналась в своем знакомстве с Думанским только после того, как Илюша процитировал ей дневник Богоявленского. После этого у Лохтиной началась истерика, и допрос пришлось прервать.
Азанчевского Фрейман, дожидаясь моего приезда, еще не допрашивал. Племянник Стрельницкого должен был приехать в МУР завтра утром. Фрейман ничего мне не говорил о предстоящем допросе, но я и без того понимал, какие большие надежды он на него возлагает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.