Текст книги "Дело Саввы Морозова"
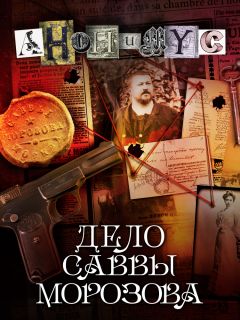
Автор книги: АНОНИМYС
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Она на полдороге вдруг встала как вкопанная и сказала строго:
– Не лезь! Погоди снаружи.
– Ты чего? – удивился Тихон. – Надо же поглядеть, как сядет.
– Сам погляжу, – отвечала она. – А будет сомнение, так выйду и у тебя спрошу.
– Эдак туда-сюда не находишься, – отвечал Тихон. – Ничего, я уж лучше рядом постою, так и проще, и быстрее.
– Стой, говорю, – крикнула она басом и топнула ногой. – Сказано – не ходи, значит, не ходи.
Он поглядел на нее с изумлением: мальчишка-то оказался с норовом.
– Стесняюсь я, – объяснила Ника.
Он засмеялся – где это видано, чтобы парень мужика стеснялся?
– Разные бывают мужики, – неприязненно отвечала Ника. – Сам оденусь, не ходи за мной.
И нырнула в примерочную. Свалила всю одежду на особую тумбочку. Несколько секунд стояла, борясь с ужасом. Потом выдохнула: сначала надо было успокоиться и только потом – начинать примерку.
И правильно, что замешкалась, потому что через полминуты вдруг откинулась в сторону занавеска примерочной, и внутрь заглянул Тихон. Глаза его светились подозрением.
– Что-то ты странно себя ведешь, паря, – проговорил он, не сводя глаз с Ники. – Нет ли у тебя дурной болезни, или какой другой кожной хворобы? А ну, Никанор, оголись!
Сердце у Ники провалилось в пятки. Неужто придется все бросить и с позором бежать? Невозможно, никак невозможно. Но ведь еще хуже будет, если по слову Тихона взять и оголиться. Это уж тогда всему конец: и в полицию заметут, и ночное неудавшееся ограбление припомнят, и уже, пожалуй, ни Рудников, ни сам Нестор Васильевич не спасут. Но что же делать, что делать?
– Давай, давай, оголяйся, – повторил великан нетерпеливо и, дернув ее за правую руку, завернул вверх рукав.
Она было хотела закричать и вырваться, но он держал ее крепко, словно стальными тисками, и внимательно изучал руку, голую до самого плеча.
– Теперь другую, – сказал и на левой руке проделал ту же операцию с рукавом и осмотром.
И тут до нее дошло. Тихон сказал: оголяйся, а не заголяйся. То есть до потайных мест добраться он не планировал. Ну, коли так…
– Я сама, – сказала она, когда он собрался осмотреть ее ноги, и прикусила язык: это же надо так глупо себя выдать.
– Чего? – спросил он, видно решив, что ослышался.
– Сам оголюсь, – в одно слово пробормотала Ника и скорей-скорей закатала одну штанину, а за ней и другую. Следом пришел черед живота, а за ним – спины. К счастью, ни груди, ни ягодицы Тихон на публике разглядывать не решился: они, хоть и были небольшими и субтильными, все же на мужские совсем не походили.
С некоторым сомнением Тихон пробормотал, что вроде бы все чисто, и разрешил Нике-Никанору примерять одежду в одиночестве. В какие-то полчаса все было перемеряно и нужная одежда отобрана. Тихон ворчал, что уж больно долго мальчишка в примерочной возится, а как по Нике, были побиты все рекорды скорости. Имелась в лавке симпатичная одежда и для барышень тоже, но мимо нее пришлось пройти с подчеркнутым равнодушием. Ничего, придет и ее час…
С этого дня началась у Ники-Никанора совершенно новая, странная и незнакомая – камердинерская – жизнь. Премудростям профессии учил ее все тот же Тихон. Держался при этом весьма строго и даже сурово. Никанору, говорил, доверена высокая честь – постоянно состоять при особе Саввы Тимофеевича. Камердинер – это не то, что обычный лакей, который сейчас при кухне, а через час на улице дорожки метет. Камердинер – человек приближенный, человек, от которого жизнь хозяйская зависит. И потому он и сам должен быть готов в любой миг свою жизнь за хозяина отдать.
Еще одна важная вещь – камердинер становится поверенным тайн хозяина. Например, бывает такое, что барину нужно передать секретную записочку…
– Кому? – невинно любопытствовал Никанор. – Кому записочку?
– Неважно кому, – сердился Тихон. – Важно, что передать. И важно, что секретная.
– А по почте? – дурашливо осведомлялся новоиспеченный камердинер. – Нешто по почте нельзя?
– Ты слушаешь, что говорю? – вид у дворецкого делался грозным. – Секретная записка – это раз. А второе – срочность. Бывает нужно, чтобы очень срочно, никакая почта не успеет, только живой человек.
Никанор кивал: все верно, дяденька Тихон, ваша, стало быть, правда, мы с вами вместе – сила, за хозяина горло любому перегрызем.
Стоит заметить, что людей себе в услужение Савва Тимофеевич брал, ни с кем не советуясь. Во всяком случае, тех, кто на его, мужской, половине обретался. Скажем, Никанор к жене его и деткам Морозова только по наказу хозяина мог отправиться. Когда Савва Тимофеевич представил жене нового камердинера, Зинаида Григорьевна лишь мазнула по Никанору безразличным взглядом, да и отвернулась.
И слава Богу, надо сказать. Очень Никанор опасался рядом с женщинами оказаться – те нюхастые, приметливые, враз свою сестру учуют. Вот уж где был бы скандал: в первую очередь, конечно, самому мануфактур-советнику досталось бы – для каких надобностей в дом девку переодетую принял? А что касается Ники-Никанора, так его бы и вовсе со свету сжили, ему бы сидение в кутузке за счастье тогда показалось.
Но, как уже говорилось, жена Саввы Тимофеевича им не заинтересовалась. Другое дело – мать. Прослышав, что у сына новый камердинер, невесть почему истребовала она его к себе на погляд.
– Не дрейфь, – сказал Никанору хозяин, – сам повезу тебя показывать. Мамаша у меня – женщина старого закала, суровая, как тигр, так что постарайся ей понравиться, покуртуазнее с ней, вежливых слов не жалей.
Мария Федоровна, точно, оказалась женщина строгая, прежних еще, старообрядческих правил. Даже электричеством в своем доме пользоваться не желала, сидела у себя в комнате, а точнее сказать, в зале своем, при свечах. В лице ее видна была некоторая суровая надменность – не купчиха первой гильдии, а вылитая Виктория, королева британская и ирландская. Левый глаз ее широко выпучивался, а правый, напротив, прищуривался, как если бы она целилась в собеседника из ружья, и не только целилась, но уже и выстрелить собиралась. Такой прищуренный глаз Никанор уже встречал на Хитровке, это бывало с людьми, которых хватил кондратий[8]8
Кондратий, кондрашка – апоплексический удар, инсульт, паралич.
[Закрыть]. Вот только на Хитровке такие люди долго не заживались и в скором времени отправлялись на тот свет, а Мария Федоровна, по причине ли больших денег, или по причине необыкновенной твердости характера, оставалась жива и энергична. Впрочем, может быть и такое, что никакой кондратий с ней не случался, а было это просто такое выражение лица, чего, конечно, не дай Бог никому.
Про матушку морозовскую было известно всей Москве, что женщина она железного нрава, который, с одной стороны, передался ей от родителей, староверов-поповцев, с другой, выкован был нелегкой и даже драматической жизнью. Несколько детей ее, нажитых с отцом Саввы Тимофеевича, Тимофеем Саввичем, умерли в младенческих летах, а одна, Алевтина, наложила на себя руки, что и вообще было тяжело пережить любой матери, а тем более исповедующей старую, истинную веру.
Мария Федоровна была наследницей и распорядительницей всех морозовских миллионов, оставшихся ей от мужа, в том числе и Никольской мануфактуры, а старший сын ее, Савва, на мануфактуре этой был лишь директором и управителем. В ее дом в Трехсвятительском переулке постоянно являлись самые разные люди – от чиновников и деловых людей самого высокого полета до разного рода просителей и попрошаек.
С Саввой, которого она любила и втайне гордилась его умом и распорядительностью, какового не было в младшем сыне, болезненном и слабовольном Сергее, в последние годы находилась она в серьезных разногласиях. Все не могла простить ему, что женился он на разведенной женщине: до того как выйти замуж за Савву, Зинаида Григорьевна была замужем за его племянником, Сергеем Викуловичем Морозовым. Несмотря на суровый материн нрав, Савва Тимофеевич ее все-таки любил, хотя, бывало, и попрекал жестокосердием.
– Благотворительностью занимается, а никого не любит, – говорил мануфактур-советник с раздражением. – Все у нее от ума, а не от сердца. Отец-покойник души в ней не чаял, а умер – она даже из приличия не поплакала!
И вот такая женщина прочему-то вдруг заинтересовалась ничтожной фигурой камердинера.
– Да что тебе мой камердинер, – уговаривал ее сын, – не сват, не брат, не двоюродный дядюшка. Ты его, скорее всего, даже и не увидишь никогда…
– Глуп ты, Савва, хоть и умный человек, – сурово отвечала мать. – Врагов у тебя много, убийцу могут подослать.
Морозов только плечами пожимал – мысль о том, что подосланным убийцей может стать мальчишка-камердинер, казалась ему смехотворной. Гораздо проще было бы выстрелить в него из пистолета или где-нибудь в переулке зарезать. Да и кому будет выгодно его убийство, ведь все наследство останется ближайшим родственникам.
– Родственники самые супостаты и есть, – разумно отвечала Мария Федоровна, – ибо сказано в Писании: «Враги человеку – домашние его».
Савва Тимофеевич посмеивался, но Никанора на посмотрение матери все-таки привез: ему интересно было, что скажет о мальчишке мудрая старуха. Однако камердинер сорвал все представление в самом начале. Он вышел в самый центр зала, где вокруг неровно мерцали, разгоняя мрак, многочисленные свечи и поклонился Марии Федоровне поясным старорусским поклоном.
– Исполать, – сказал, – благословите, бабуся!
Старая купчиха при этих словах так побагровела, что мануфактур-советник испугался, как бы ее удар не хватил.
– Во-он! – закричала Мария Федоровна, едва только к ней вернулся дар речи. – Вон отсюда, шаромыжник!
Никанор зайцем порскнул за дверь, вслед ему неслись крики Морозовой и хохот Саввы Тимофеевича.
– Позабавил ты меня, братец, – посмеиваясь, говорил ему купец, когда спустя полчаса возвращались они домой. – Однако не злоупотребляй такими фокусами, люди разные бывают. Моя мамаша вот сурова, да отходчива. А другой и виду не покажет, а злобу затаит и до тех пор не успокоится, пока со свету не сживет.
– Да я от чистого сердца, – пискнул Никанор, – в толк не возьму, чего они на меня так взъелись!
– Если от чистого сердца, тем более глупо, – объяснял ему Морозов. – Дамы, брат, не любят, когда про их преклонный возраст говорят, а тем более когда бабусями величают. Тут тебе не Хитровка, тут нужно приличное обхождение.
Никанор исправно моргал голубыми от усердия глазами, а сам думал, что операция удалась как нельзя лучше: подойди он к ушлой старухе еще на пару шагов ближе, она бы непременно распознала в нем девицу. И уж тогда его миссии настал бы безусловный и окончательный карачун.
Глава восьмая. В гостях у Терпсихоры
Нестор Васильевич сидел в своем кабинете над списком подозреваемых. Собственно говоря, правильнее было бы назвать его «списком незаслуженно обиженных», потому что никаких серьезных оснований подозревать ущемленных артистов и прочих театральных деятелей в покушении на Морозова у него пока не было. Те скорее бы уже предъявили претензии режиссеру, а купец для них инстанция слишком далекая. Кроме того, кто-то же убил филера, а с какой бы стати артисту его убивать?
С точки зрения Загорского, вся театральная версия казалась весьма и весьма сомнительной, если не сказать – неправдоподобной. И в самом деле, если предположить, что какой-то обиженный актер мог покуситься на жизнь Морозова, из-за которого он потерял место, тогда уж надо идти дальше и разрабатывать Станиславского и Немировича-Данченко, которые сильнее кого бы то ни было пострадали от ухода Саввы Тимофеевича из Художественного театра. Образы Станиславского с ножом в зубах и бородатого Немировича, по-пластунски ползущего к дому мануфактур-советника, могли, конечно, вызвать здоровый смех у театральной публики, но никак не могли помочь в расследовании.
Гораздо более правдоподобной казалась большевистская, террористическая линия. Убитый филер, как уже говорилось, работал как раз по части социал-демократов. Тот факт, что убили его в тот миг, когда он, по словам Вероники, следил за Красиным, делал эту версию еще более правдоподобной. Другое дело, что убил его, скорее всего, не сам Красин – не стал бы он так глупо рисковать. Убил его, вероятно, какой-то подпольщик, поставленный охранять члена большевистского ЦК. Так или иначе, это давало дополнительные козыри в руки статского советника: убийство сотрудника жандармского корпуса – серьезное преступление. Это, друзья мои, не какая-то там брань, которая на вороту не виснет, и не кража серебряных ложечек, за такое Российская империя пошлет исполнителя на каторгу, да и вдохновителям достанется как следует.
Таким образом, шантажируя большевиков тем, что они убили филера, можно будет узнать кое-что и об их планах на Савву Тимофеевича и, вероятно, даже отменить эти планы. Впрочем, в сложившейся ситуации жизнь Морозова, как ни странно, отходила на второй план. У Нестора Васильевича были гораздо более серьезные основания опасаться за свою жизнь. Как известно, именно по его вине этой зимой вся российская часть ЦК большевиков оказалась в заключении. Те поклялись отомстить и, несмотря на то что Загорский вел себя крайне осторожно, все-таки смогли его подстрелить. Рана была не очень опасной, но все равно неприятной. Были все основания полагать, что на этом большевики не остановятся. Именно поэтому статский советник удалил из дома всю прислугу и вдвоем с Ганцзалином остался ждать прихода мстителей.
Мстители, однако, не торопились. Шли дни, недели, а все было тихо. Тем не менее Нестор Васильевич полагал, что не мытьем, так катаньем надо вызвать огонь на себя и обезвредить мстителей.
– В противном случае, – объяснял он Ганцзалину, – большевики ударят в самый неожиданный момент. Гораздо лучше, если они появятся теперь, когда мы готовы и можем с ними справиться.
– Нашему бы теляти козла заломати, – мрачно комментировал китаец, по своей всегдашней привычке безбожно перевирая пословицу.
Вдобавок ко всему Ганцзалин дополнительно разозлил Загорского, устроив ему весьма своеобразный подарок. Как-то раз утром, поднявшись с кровати, статский советник обнаружил у себя на столе пулю. Некоторое время он ее внимательно разглядывал, ломая голову, что это за пуля и как она могла оказаться на его столе.
Явившийся на зов хозяина Ганцзалин быстро все объяснил.
– Это ваша пуля, – сказал он с гордостью в голосе.
– Что ты имеешь в виду?
Оказалось, после того как большевистскую пулю вынули у Загорского из руки, помощник не выбросил ее, а перелил заново. По его мнению, Нестор Васильевич должен был этой самой пулей застрелить своего обидчика – большевика, который пытался его убить. Идея эта Загорскому совершенно не понравилась.
– Во-первых, – сказал статский советник, – я даже не знаю, кто в меня стрелял. Во-вторых, это дурной вкус. И наконец, в-третьих, если пуля будет в пистолете, как я подгадаю, чтобы именно ей выстрелить в большевика? А если до этого придется стрелять в кого-то другого?
– Ганцзалин все предусмотрел, – гордо отвечал китаец. – Господин теперь будет носить два пистолета. Один – с обычными пулями, другой – только с этой одной. Когда появится большевик, вы вытащите второй пистолет и убьете его этой пулей.
К сожалению, господин наотрез отказался следовать этой мстительной идее.
– Никого я убивать не буду, – отвечал он, – если хочешь, сам его убей. И вообще, не донимай меня дурацкими выдумками, мне не до того.
Китаец был смертельно обижен и после этого до конца дня с хозяином не разговаривал.
Однако, когда шеф взялся за дело Морозова, помощник внезапно воспрянул духом.
– Савва наживкой будет? – догадливо поинтересовался он. – Большевики на него клюнут, а мы посадим их уже надолго.
– То, что ты говоришь, безнравственно, – нахмурился Нестор Васильевич. – Впрочем, по некотором размышлении могу сказать, что в твоих словах есть кое-какой смысл.
Китаец важно отвечал, что в его словах всегда есть смысл, а то, что он предлагает, по-русски называется «одним я́йцем убить двух зайцев». Загорский покачал головой и заметил, что русский фольклор не идет ему на пользу и что, если дело пойдет так дальше, с Ганцзалином очень скоро уже стыдно будет появиться в приличном обществе.
– Между прочим, – сварливо заметил помощник, – Ника ваша приказа не исполнила. Пробралась в дом к Морозову и устроилась его личным камердинером…
– Это говорит только о том, что я в ней не ошибся, – кивнул Загорский. – Молодец девчонка, а будь она мальчишкой, в нашем деле вполне могла бы достигнуть высот.
Ганцзалин пробурчал, что мир полон глупостей. Взять хотя бы ту же Россию: императрицей женщина тут может стать, а сыщиком – нет. Загорский на это отвечал, что, как говорили древние, времена меняются, и когда-нибудь, лет через сто, в России, вероятно, появятся женщины-сыщики. Сейчас же, действительно, рассчитывать на это сложно.
– Женщины думают сердцем, – буркнул помощник. – Вы дали ей приказ, а она на него наплевала.
– Вовсе нет, – отвечал Загорский. – Ты же помнишь, что говорил Конфуций относительно благородного мужа? Благородный муж может использовать людей. Но благородный муж использует людей, не принуждая их. Он устраивает все так, что люди делают все по своей воле. Вот так же и с Никой вышло.
Физиономия Ганцзалина немного просветлела, он взглянул на хозяина.
– Вы очень хитрый, – проговорил он. – Вам надо было родиться китайцем.
– После стольких лет общения с тобой я уже фактически стал китайцем, – проворчал Нестор Васильевич. – Однако хватит пустых разговоров. Мне срочно нужно познакомиться с мадемуазель Терпсихоровой.
Амалия Терпсихорова, с которой так спешил познакомиться статский советник, была молодая актриса из списка Цимпер. Она входила в число тех, кто, по мнению Андромахи Егоровны, сильно пострадал из-за того, что студия новых форм Станиславского так и не начала свою работу.
Могло показаться странным, что за десять минут до этого Загорский решил, что участие в травле Морозова со стороны театральных людей представляется маловероятным, и тут же собрался расследовать эту сомнительную версию. Однако статский советник не руководствовался только разумом, он ориентировался и на свою интуицию. И эта самая интуиция говорила ему, что дело обстоит не так просто и что на, казалось бы, совершенно тупиковом пути могут ждать его неожиданные и важные открытия.
– Если в театре убивают человека, то к этому причастны либо его товарищи-актеры, либо публика, – заметил Загорский. – Вряд ли кто-то заявится в театр со стороны…
– Да, но в театре как раз пока еще никого не убили, – возразил ему Ганцзалин.
– Лиха беда начало, – отвечал статский советник, привычным движением засовывая браунинг в карман пиджака.
– Мне пойти с вами? – спросил помощник.
– Полагаешь, я не справлюсь с актрисой?
– Смотря по тому, что вы собираетесь с ней делать, – ухмыльнулся китаец.
Нестор Васильевич сказал, что это вряд ли будет репетиция пьесы «Ромео и Джульетта», скорее уж сцена из «Отелло», где венецианский мавр допытывается у жены, куда она девала его платок. Впрочем, как обычно бывает с женщинами, наверняка придется импровизировать.
И он вышел из кабинета.
– Баба с возу – кобыле приятно, – заметил помощник, устремляясь следом за господином…
* * *
Актриса Амалия Терпсихорова, по паспорту – Татьяна Петровна Пустельга, жила в доходном доме Малюшиных на Садовой-Спасской.
Трехэтажное кирпичное здание пребывало в явном запустении: облупившаяся до кирпичей штукатурка, грязные окна, рассохшаяся дверь парадного входа, который в любом другом доме легко мог сойти за черный. Чтобы дверь не стояла полуоткрытой, находчивые хозяева приспособили к ней несколько кирпичей, висевших на веревке и представлявших некоторую угрозу для входящих и выходящих из здания.
– Артисты русские до сих пор получают совсем небольшое жалованье, – заметил Нестор Васильевич, – вот им и приходится жить бог весть где, если не выразиться еще более определенно.
Поднявшись по шаткой нечистой лестнице на второй этаж, они постучали в нужную квартиру. При столкновении с кулаком дверь произвела какой-то пустой и вместе с тем жалобный звук.
– Ну что еще?! – раздался из-за двери раздраженный женский голос. – Что же вы всё беспокоите меня, я же сказала, деньги за жилье будут на следующей неделе!
Статский советник никак не прокомментировал это заявление, но лишь постучал еще раз.
Спустя несколько секунд дверь открылась, и Загорский оказался лицом к лицу с молодой миловидной женщиной с заплаканными глазами. Она была одета в скромное, несколько поношенное серое платье с отложным воротником и, если бы не выражение лица, одновременно дерзкое и испуганное, вполне могла бы сойти за монашенку или какую-нибудь послушницу в монастыре.
– Я же говорила вам… – воскликнула она, но тут, разглядев в полутьме лица двух незнакомых мужчин, один из которых выглядел весьма пугающе, ойкнула и попыталась захлопнуть дверь у них перед носом. Однако ей это не удалось: Ганцзалин чрезвычайно проворно поставил ногу на порог.
– Госпожа Терпсихорова? – осведомился статский советник, вежливо приподнимая шляпу. – Или вернее обращаться к вам мадемуазель Пустельга?
– Что? Что такое? – испуганно заговорила барышня, пятясь назад. – Вы из овощной лавки? Я им говорила, что пришлю деньги в конце месяца, а они все никак не возьмут в толк, что я актриса, существо эфирное. Мне надо хорошо питаться, иначе я не смогу убедительно представлять на сцене. А если я не смогу играть на театре, то к чему вообще мое бренное существование?
– Мы не из лавки, – внушительно сказал Нестор Васильевич, делая шаг в комнату, – и даже не из магазина. Позвольте представиться, статский советник Загорский. А это мой помощник, Ганцзалин.
– Японец? – с неожиданным любопытством осведомилась Терпсихорова.
– Скорее уж китаец, – отвечал Нестор Васильевич, оглядывая комнату.
Обстановка в квартире была самая скромная: белые оштукатуренные стены, узкая девичья кровать под сиреневым покрывалом, обшарпанный платяной шкаф, два деревянных стула. Даже письменного стола или бюро тут не имелось. Единственным указанием на то, что здесь живет барышня, да к тому же актриса, было большое зеркало у стены.
– А зачем мне письменный стол? – чирикнула мадемуазель Амалия. – Я ведь не драматург, не Чехов какой-нибудь и не Горький даже. Актриса должна хорошо спать и хорошо питаться, все остальное – от лукавого.
Не дожидаясь приглашения, Загорский сел на один из двух стульев и положил ногу на ногу. На другой стул незамедлительно уселся Ганцзалин и тоже забросил одну ногу на другую. Терпсихорова в растерянности заморгала глазами.
– Сударыня, – сказал статский советник с необыкновенным достоинством, – я большой поклонник театрального искусства вообще и вашего таланта в частности.
– Вот уж нет, – живо отвечала актриса, – ничего у вас не выйдет, даже не рассчитывайте! Тут уже ходил один такой любитель театральной натуры, за все время подарил мне один только чахлый букетик георгин. И за этот самый букетик такого хотел от меня добиться, что я, как честная девушка, не решаюсь даже высказать при дружественных нашему государству китайцах.
Нестор Васильевич отвечал, что его китаец – человек закаленный и на своем веку слышал еще и не такое. Однако он не по этой части. Он не из тех, кто смотрит на актрис как на клубничку…
– А как же вы на них смотрите? – озадаченно спросила барышня.
Он, Загорский, видит в актрисах исключительно служительниц муз. Он ценит талант, искусство, проникновение в роль, то экстатическое состояние, которого добиваются они, погружаясь в образ.
– Да, – кивнула мадемуазель Амалия, – по части экстазов и погружений нет мне равных среди московских актрис. Вот только режиссеры не все это понимают.
– Но где же вас можно увидеть? – спросил Нестор Васильевич. – Как насладиться вашим необыкновенным искусством?
Она хмуро отвечала, что прямо сейчас ее нельзя увидеть нигде, нигде совершенно. Некоторое время назад она надеялась играть в студии новых форм, которую затеял Станиславский. Однако надежды ее не сбылись. Известный миллионщик Морозов, узнав, что его любовница Андреева не хочет более работать со Станиславским, отказался финансировать его студию, и все дело распалось. И вот теперь она сидит в дешевейшем из московских доходных домов и не имеет денег даже за овощи заплатить.
– О, как это печально, – с невыразимой грустью в голосе покивал статский советник. – Какая безумная подлость, какое надругательство над искусством!..
Терпсихорова сверкнула на него глазами: в нем сразу видно человека тонко чувствующего! Возможно, он бы и сам мог играть на театральных подмостках – у него благородные черты лица, изящные руки и вообще вид человека не только обеспеченного, но и глубоко интеллигентного.
– Если бы я был актером и со мной поступили столь ужасно, я не знаю, что бы я сделал с виновником, – продолжал Загорский. – Такого человека я бы просто стер с лица земли.
Она посмотрела на него с некоторым испугом: он тоже так считает? Нестор Васильевич кивнул – на свете нет кары столь суровой, чтобы подвергнуть ей Морозова, после того как он отказался финансировать театр. А что бы сделала мадемуазель Амалия на ее месте? Неужели не захотела бы отомстить?
– Что бы я сделала на моем месте? – удивилась Терпсихорова. – Этого я не знаю. Но уж во всяком случае, не стала бы на Морозова охотиться. Да и что я смогу сделать? Если передо мной поставить злейшего врага, дать мне в руки револьвер и сказать: «Делай с ним что хочешь!», я бы даже не знала, в какой глаз ему стрелять – левый или правый.
– Стреляйте в переносицу, не ошибетесь, – внезапно вмешался в разговор Ганцзалин.
Барышня кокетливо покосилась в его сторону: а что, в Китае тоже есть театр? Да, есть, отвечал китаец, только он совсем не похож на русский театр, да и вообще ни на какой не похож. Театр этот называется цзи́нцзюй, то есть столичная опера, там поют, танцуют и скачут, как ненормальные.
Загорский поморщился: не слушайте его, он хоть и китаец, а китайской оперы не любит. Это чрезвычайно любопытное зрелище, требующее от артиста необыкновенных навыков: вокала, мимики, хореографического мастерства и даже боевого искусства.
– Ах, боже мой, – сказала Терпсихорова, – у нас в театре тоже иногда бьют пощечины.
– У нас, – важно сказал Ганцзалин, – бьют не пощечины, у нас в театре бьют кирпичи, причем делают это головой.
С трудом Загорскому удалось вернуться к теме мщения. После небольшого, но крайне тонко выстроенного разговора выяснилось, что о мести говорят не они первые. У барышни Терпсихоровой есть один знакомый. Когда она осталась без места, он прямо загорелся идеей возмездия.
– Что за знакомый? – спросил Нестор Васильевич, несколько насторожившись. – Тоже актер…
– Нет, он не совсем актер, – отвечала барышня, – он, как бы это сказать, влюблен в меня. Но сразу заявляю, что влюбленность эта безответная.
Из дальнейшей беседы выяснилось, что поклонника зовут Мисаил, фамилия его Оганезов, ему около тридцати, и он имеет очень, очень взрывной темперамент.
– Мисаил Оганезов? – удивился статский советник. – Редкое сочетание. Фамилия указывает на армянское происхождение, а имя скорее древнееврейское. У нас в России его носят в основном священнослужители или дети таковых.
– Он мне ничего не говорил о своих родителях, – отвечала Терпсихорова, – но он тоже поклонник моего таланта. Честно говоря, я так и не разобралась, чего ему от меня надо. Мне кажется, он немного не в себе.
Загорский полюбопытствовал, зачем же она имеет с ним дело? Актриса замялась: все дело в том, что господин Оганезов оказывает ей некоторую материальную помощь, при этом ничего не требуя взамен.
– Редкий тип поклонника, – заметил статский советник.
Терпсихорова с ним не согласилась: почему же – вот, например, сам господин Загорский тоже ведь ничего от нее не требует.
– Да, но я вам материальной помощи не оказываю, – возразил Нестор Васильевич.
– Лиха беда начало. – И она кокетливо разгладила на коленках свое серое платье, вызвав, кажется, у собеседника некоторое смущение.
– Скажите, а как выглядит ваш Оганезов?
Оганезов выглядит… Она внезапно задумалась. Даже сложно сказать, как он выглядит, у него такие… жгучие черные глаза, которые отвлекают на себя все внимание. Впрочем, если подумать, вспомнить все-таки можно. У него короткие курчавые темные волосы, усы подковой и небольшая окладистая борода. Лицо скорее круглое, брови сросшиеся у переносицы. Вообще-то он весьма интересный мужчина, но его сильно портит буйный темперамент – неизвестно, чего от него ждать.
– А скажите, он человек со средствами? – осторожно осведомился Загорский.
Это трудный вопрос, она, разумеется, о подобных деликатных материях у него не спрашивала. Но, судя по костюму, скорее нет, чем да. Да и деньги, которые он дает ей в долг – ну да, чему тут удивляться, разумеется, это деньги в долг, ведь когда-нибудь она должна будет их вернуть, хоть он и никаких сроков не устанавливал, – да, так вот, деньги он дает тоже небольшие. Хотя она и за это благодарна.
– А каков характер господина Оганезова? – внезапно спросил Ганцзалин.
Актриса замотала головой. У господина Оганезова совершенно невозможный характер: он склонен к буйству и вдобавок великий ревнивец. Это тем более странно, что он почти ничего не требует от Терпсихоровой, но при этом не переносит, если рядом с ней находятся другие мужчины. Она снова посмотрела на часы, потом на дверь – видно было, что она нервничает.
– А скажите, – невозмутимо продолжал Загорский, – как, по-вашему, может этот Оганезов убить человека?
Она вздрогнула. Убить? Ну, это уж, пожалуй, было бы слишком. Да и зачем ему кого-то убивать?
– Не зачем, а почему. Вот, например, вы говорите, что он очень ревнив. Он, скажем, увидел вас с другим мужчиной, которому вы оказываете явные знаки внимания… Как далеко может зайти его ревность?
Она заволновалась: ей трудно сказать, она не настолько хорошо его знает. И вообще, ей очень жаль, но ей нужно срочно по делам…
– По делам ей нужно, – буркнул Ганцзалин, когда они вышли из дома, едва не ударившись головою о привешенные на дверь кирпичи. – Знаю я эти дела – поклонника ждет.
Загорский рассеянно кивнул, поглядывая по сторонам. Очень может быть. И более того, возможно, что этот поклонник как раз и есть господин Оганезов. Госпожа Терпсихорова, конечно, актриса и человек свободной морали, но даже актриса едва ли стала бы брать деньги у совсем чужого человека, ведь хочешь не хочешь, это ее обязывает. Пожалуй, им стоит перейти на ту сторону улицы и подождать немного: любопытно взглянуть, что это за гость такой должен прийти к госпоже актрисе.
– Думаете, это Оганезов пытался убить Морозова? – спросил китаец.
Нестор Васильевич пожал плечами: сложно сказать. Пока из совпадений с внешностью убийцы в наличии имеется только борода. Конечно, если бы тут был сам Савва Тимофеевич, он бы наверняка узнал своего супостата.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































