Текст книги "Дело Саввы Морозова"
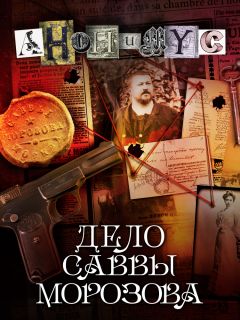
Автор книги: АНОНИМYС
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– А может, и не узнал бы, – заметил Ганцзалин. – Когда в тебя стреляют, как-то трудно разглядеть лицо убийцы в деталях.
Нестор Васильевич покачал головой – по-разному бывает. Многое зависит от того, как устроена психика конкретного человека. Один от страха ничего не помнит, у другого, напротив, все запечатлевается очень ясно. Впрочем, это все пустые разговоры, потому что Морозова тут все равно нет. Можно, конечно, арестовать господина Оганезова и отправить на опознание. Однако, если не Оганезов покушался на купца, его арест может спугнуть настоящего убийцу. Не говоря уже о разных сопутствующих неприятностях вроде законного возмущения ни в чем не повинного человека.
Они ждали где-то с полчаса, однако за все это время из подъезда никто не вышел и никто туда не входил.
– Что-то не торопится наш Ромео, – пробурчал Ганцзалин. – Сколько, интересно, еще будем ждать?
– Кажется, мы сделали ошибку, – озабоченно проговорил статский советник. – Конечно, такой ревнивый и подозрительный господин, как этот Оганезов, мог зайти и с черного хода. Надо было присматривать за домом с обеих сторон.
Китаец кивнул: ему тоже пришла в голову эта мысль, но они ведь поначалу не собирались никого выслеживать, а решили остаться и понаблюдать, только отойдя от дома. Впрочем, это все детали, важно понять, что делать сейчас.
– Придется возвратиться, – решил Нестор Васильевич. – К счастью, я на всякий случай забыл у мадемуазель Терпсихоровой перчатки, так что повод снова заглянуть к госпоже актрисе у нас имеется.
Они решительно перешли дорогу и двинулись к доходному дому.
Спустя минуту Загорский уже стучал в знакомую дверь. Однако внутри было тихо, как в склепе.
– Все-таки ушла по делам? – предположил Ганцзалин.
Нестор Васильевич нахмурился и постучал сильнее. Ответом было полное молчание.
– Тихо, – сказал статский советник. – Подозрительно тихо для пустой квартиры.
– Выбьем дверь? – деловито спросил помощник.
Господин только головой покачал. Похоже, выбивать ничего не придется. Похоже… Тут он осторожно толкнул дверь, и она неторопливо приоткрылась сама…
– Госпожа Терпсихорова? – негромко позвал статский советник. – Амалия Петровна?
Не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана браунинг и проскользнул внутрь. Ганцзалин пару секунд подождал, потом вошел следом за хозяином. Тот замер в центре комнаты прямо над телом Терпсихоровой. Под левой грудью у нее был воткнут нож, на пол натекла лужица темной крови. Лицо мертвой актрисы сделалось белым, словно у злодейки из пекинской оперы. Еще полчаса назад легкая, кокетливая, очаровательная, теперь она лежала, лишенная неизвестным негодяем души и жизни.
– Минут пятнадцать уже лежит, – наметанным глазом определил китаец.
– Невинные на первый взгляд ошибки подчас приводят к ужасным последствиям, – печально проговорил статский советник. – Наверняка она что-то чувствовала, чего-то опасалась. Всего-то, что требовалось, – это попросить нас подождать, пока явится гость. Однако она не решилась нам довериться. Люди даже в экстраординарных обстоятельствах действуют привычным для них образом.
Он перевел взгляд на Ганцзалина: надо осмотреть комнату, пока не явилась полиция и по слоновьему своему обыкновению все тут не затоптала. Ганцзалин кивнул, однако к осмотру приступить не успел. За дверью послышался женский голос, топот ног, и в комнату вломился усатый околоточный надзиратель в сопровождении двух городовых.
Увидев окровавленное тело на полу и стоявшего над ним статского советника, околоточный схватился за кобуру и вытянул оттуда видавший виды «смит-вессон». Городовые немедленно взялись за шашки. Из-за их спин высунулась любопытная остренькая мордочка женщины лет пятидесяти, очевидно соседки, она округлила глаза, ойкнула и в ужасе закрестилась.
– А ну, руки вверх! – грубо скомандовал околоточный, наводя револьвер на Загорского.
– Руки я, конечно, подниму, – спокойно отвечал тот, – но, уверяю вас, в оружии нет никакой необходимости. Я сам – страж закона, расследовал порученное мне дело и обнаружил убитую за минуту до того, как вы появились. Чтобы рассеять все подозрения, готов показать вам свои документы. Они у меня в правом внутреннем кармане пиджака.
Околоточный моргнул ближнему городовому. Тот, высоко, словно цапля, поднимая ноги, как будто боялся запачкаться в крови, проследовал к статскому советнику и аккуратно вытащил у него из кармана удостоверение. После чего, все так же поднимая ноги, добрался до околоточного, который не спускал с Загорского глаз, развернул удостоверение, сунул его под нос начальству. Тот насупился, прочитал, как показалось Загорскому, сначала слева направо, потом справа налево, потом как будто попытался прочитать наискось, но плюнул и перевел суровые свои очи на Нестора Васильевича.
– Господин статский советник? – переспросил он.
– Именно, – кивнул Загорский.
– Прощения просим, – сказал околоточный. – Сами понимаете, служба.
Он опустил револьвер, опустил руки и статский советник. Мигнул городовому, тот на цыпочках подошел к Нестору Васильевичу, с неуклюжим полупоклоном вручил ему удостоверение. Тот улыбнулся, спрятал его в карман.
– Так и осмелюсь спросить, что же тут произошло? – городовой мялся, не зная, видимо, где в данном случае кончаются границы его полномочий.
– Знаю об этом не больше вашего, – коротко отвечал Загорский, который уже присел на корточки и осматривал нож. – Как я уже сказал, явился прямо перед вашим приходом.
От двери внезапно раздалось какое-то странное шипение. Околоточный живо обернулся. Стоявшая на пороге комнаты остромордая дамочка-соседка почти беззвучно открывала рот, глаза у нее были круглыми от ужаса.
– Что такое? – строго переспросил околоточный.
Шипение наконец оформилось в слово.
– Вру-ут-с, – еле слышно проговорила женщина. – Как есть врут-с!
Околоточный заморгал глазами, Загорский слегка нахмурился. Городовой незаметно пихнул тетку, выжимая ее из комнаты, но та уцепилась руками за дверной косяк, почти повисла на нем и заговорила уже во весь голос, быстро и суетливо, очевидно опасаясь, что ее вытеснят раньше, чем она выскажет все, что хотела.
– Врут, врут, – говорила она торопливо. – Не минуту назад, а час уже как тут. Я сама, своими глазами видела. Вот он, и при нем еще желтый такой был, на татарина похож, только совсем косенький, оба вошли сюда и с полчаса разговоры разговаривали. О чем, не слышала, но уж точно разговаривали, как Бог свят. А потом крики раздались, шум, и я к вам побежала – сообщить, как я есть подданная Его Императорского Величества Николая Второго, и супруги его Александры Федоровны, и матушки ихней Марии Федоровны…
– Ну, жену приплела, мать приплела – бабушку еще приплети, – недовольно пробурчал околоточный, однако все-таки повернулся к статскому советнику, который уже выпрямился и находился в очень удобном положении, чтобы ударом «хвост дракона» сбить с ног околоточного, разбросать городовых и вырваться из комнаты, тем более что Ганцзалин давно уже тайно успел покинуть ее через окно.
И хотя ситуация складывалась крайне неприятная, прорываться наружу Загорский все-таки не стал. Во-первых, потому что полицейским уже известна была его личность и отыскать его при желании не составит никакого труда. Во-вторых… что же во-вторых? Ах, вот что! Как говорили древние, во-вторых, достаточно и того, что во-первых.
Статский советник обезоруживающе улыбнулся околоточному.
– Я все объясню… – начал было он, но полицейский, похоже, был не в настроении вести дружеские беседы.
– Объясните в участке, ваше высокородие, – сказал он, с подозрением оглядывая Загорского. – Оружие имеется?
Нестор Васильевич отвечал, что оружие у него, само собой, имеется, да и где вы видели человека его профессии без оружия, разве что на том свете, но лично он туда совершенно не торопится. С этими словами он вытащил и передал городовому свой браунинг.
– Зачем же вы, ваше высокородие, врали? – укоризненно спросил его длинный, как жердь, городовой, надевая на него наручники.
А он вовсе не врал, просто тут кое-что нужно уточнить. Впрочем, прямо сейчас он делать это не намерен, это разговор с начальством. А пока… что ж, пока, похоже, придется немного посидеть в участке. Не лучшее времяпрепровождение, но, во всяком случае, Ганцзалин на свободе. Будем надеяться, он времени зря терять не станет. Потому что если в похожих обстоятельствах Нику из участка вызволил лично он, Загорский, то должен же кто-то вызволить и его…
Глава девятая. Агнец Божий
Обязанности у Никанора в доме Морозова были, что называется, не бей лежачего, а также сидячего и стоячего. Бегал он по разным мелким поручениям, подметал хозяйскую комнату, чистил одежду и обувь, при случае помогал одеться и раздеться, если хозяин желал обедать или завтракать в одиночестве, подавал ему на стол. А в целом было даже почти скучно – совершенно непонятно, за что Морозов решил платить Никанору такие деньги, которые и рабочий не всякий на тяжелом производстве получает. Впрочем, может быть, он таким образом пытался отблагодарить его за то, что Никанор спас Савву Тимофеевича от грабителя. Которого, добавим от себя, тот сам же и привел к нему в дом.
Справедливости ради заметим, что Никанор совершенно не мучился угрызениями совести. Обман свой он обманом не считал, потому что делалось все для безопасности самого же Морозова. Гораздо больше волнений приносила ему мысль, как на всю эту историю посмотрит Нестор Васильевич Загорский, ведь что там ни говори, а это было прямое нарушение приказа. А кому, скажите, и зачем нужен агент, который не выполняет приказы? Такой агент того и гляди не только наломает самых непозволительных дров, но и нанимателя своего поставит в идиотское положение.
То, что Загорский очень быстро узнает о его своевольстве, в этом Ника-Никанор не сомневался ни секунды. Вряд ли, конечно, Ганцзалин будет круглые сутки за Морозовым присматривать, но время от времени, нет сомнений, будет поглядывать в эту сторону. И поскольку глаз у него зоркий, непременно увидит и распознает Никанора, Ганцзалину никакой камуфляж глаза не застит. Тут хоть в трех мужчин переоденься, а все распознает. А распознав, доложит Загорскому. Конечно, статский советник Никанора не выдаст, но будет, наверное, сильно недоволен. А может, и не будет. Он человек умный, поймет, наверное, что так оно лучше всего. Уж он-то, Никанор, по старинке спит у хозяйской двери и через себя никакого убийцу или другого какого башибузука нипочем не пропустит. Только, как пишут в романах, через свой труп. А поскольку помирать Никанор совершенно не торопится, то, значит, и Савве Тимофеевичу ничего не грозит.
Правда, неожиданно возникла одна неприятность. Новый камердинер, мальчонка симпатичный да бойкий, приглянулся горничной Зинаиды Григорьевны, Евдокии, или, попросту говоря, Дуняше. Девушка она была высокая, в теле, чем ее привлек малолетка, сложно даже сказать. Впрочем, пожалуй, что и нет, не сложно. Ника-Никанор и в девичьем облике была симпатичной, а уж когда она в мальчика переоделась, то и вовсе глаз было не отвести – чистый ангелочек. И хоть передвигался Никанор подчеркнуто неуклюже, по-мужичьи, и голосом старался говорить хриплым и низким, все же выглядел он весьма привлекательно.
Это-то и сгубило Дуню. Жили они на разных половинах дома: Никанор на мужской, Дуня на женской, поэтому поначалу почти не встречались. Однако Морозов часто завтракал вместе с женой и детьми, тут они и пересеклись волей-неволей. И видимо, пока Никанор, стоя за стулом хозяина, скучливо озирал комнату, откуда-то с потолка слетел древнегреческий амур – толстенький, голенький, крылатый – и выстрелил разомлевшей Дуняше прямо в нестойкое ее девичье сердце.
Как говорит старинная пословица, любовь зла, полюбишь и козла. Так оно примерно и вышло с Дуней, только в качестве зловредного парнокопытного совершенно неожиданно выступила барышня. В оправдание Дуни можем сказать, что она никак не могла знать, что за бойким видом четырнадцатилетнего юнца скрывается женщина, как это, скажем, делают в театрах, когда хотят изобразить подростка, а мужчины все либо слишком грубы, либо старообразны. Вот тогда-то берется барышня посубтильнее и одевается в мальчонку. Но этого ничего, опять же, не знала да и знать не могла горничная госпожи Морозовой.
Очень скоро Никанор стал ловить на себе нежные и даже прямо поощрительные взгляды Дуняши. Может, конечно, настоящий мальчишка-подросток и не распознал бы эти взгляды или не понял их тайного значения, но Нике они были совершенно ясны и категорически ей не понравились. И дело было не в том, что Дуняша была какая-нибудь там некрасивая или и вовсе кривобокая. Нет, она была статная высокая девушка с русыми волосами, небольшим пухлым ртом, серыми глазами и соболиными бровями такой формы, как будто она все время на что-то удивляется или даже чего-то очень приятного ждет от окружающего мира. На таких девушек очень хорошо откликаются среднего возраста мужчины, полагая, что приятного ждут именно от них. Но загвоздка состояла в том, что Никанор не был мужчиной среднего возраста и вообще не был мужчиной, так что девушки, пусть даже и самые красивые, никак не могли быть ему интересны, да и он сам ничего особенно приятного дать им не мог. Вот потому и делал он вид, что либо не понимает всех этих взглядов, либо и вовсе их не замечает.
Дуняша, однако, не сдалась. Она взяла в обычай забегать на мужскую половину как будто по делам, хотя, между нами говоря, никаких дел у нее там не было и быть не могло. Завидев Никанора, она вдруг заливалась громким смехом, ужасно глупым, на его взгляд, или спрашивала что-то бестолковое или просто, проходя мимо, пыталась задеть его плечом.
Разумеется, никакой обычный мальчишка не смог бы вытерпеть такого внимания и очень скоро наверняка совершил бы грехопадение с назойливой прелестницей. Но Ника-Никанор терпела это все почти безмятежно и только время от времени с легким беспокойством думала о том, как далеко может пойти Дуняша в своих притязаниях?
Очень скоро выяснилось, что далеко и даже весьма далеко. Раз, пробегая мимо, она как бы ненароком схватила камердинера за передок. Рука ее, как и следовало, легко проскользнула по ровному месту, не дававшему даже намеков на героический мужской орган. Горничная застыла на месте и выпучила глаза от изумления. В глазах этих тайный агент Никанор явственно прочитал свой немедленный провал.
К счастью, соображал он быстро. Повернулся к девушке и нарочито грубо сказал:
– Ну, чего уставилась? Агнец я Божий…
Дуняша хлопала ресницами, не понимая.
– Голубь белый, – попытался растолковать Никанор.
Но глаза горничной глядели на него все так же – испуганно и бессмысленно.
– Скопец я, скопец, – не выдержал Никанор.
В глазах ее наконец мелькнуло какое-то понимание. Она в ужасе закрыла рот руками.
– Господи, стыд-то какой!
И помчалась прочь. Однако далеко убежать не успела – где уж ей соперничать с Никой, которая полжизни провела на Хитровке, а там, знаете, от резвости ног иной раз само существование зависит.
В два счета догнал юный камердинер Дуняшу, схватил за запястье, сжал так, что та вскрикнула, остановил. Заговорил ровно, успокаивающе.
– Ты вот что, девка. Ты не волнуйся так, слышишь. Это не я так решил, это родичи мои в скопческую секту вошли и меня за ради богоугодного дела мужского естества лишили. Я уж потом от них сбежал, как постарше стал, но, сама понимаешь, изменить ничего не могу. Ты девушка хорошая, добрая, красивая, но ответить на любовь я тебе никак не способен, теперь, поди, и сама это понимаешь.
Она быстро-быстро закивала головой, видно было, что ей уж не до разговоров, поскорее бы сбежать на женскую половину, а там пошушукаться с подружками, рассказать об удивительном деле, может, даже и самой Зинаиде Григорьевне. Вот этого никак нельзя было допустить. Поэтому и вцепился в нее сейчас Никанор, словно клещ, потому и держал железной хваткой.
– Ты вот теперь что, – голос его звучал очень внушительно, – ты никому об этом не болтай. Конечно, Савва Тимофеевич об этом моем состоянии знает, ему-то я рассказал. Но не хочу, чтобы остальные прочие об этом языки чесали, понимаешь меня?
Она снова закивала. Но кивки эти, понимал Никанор, ничего не значили и молчания вовсе не гарантировали. Тут нужно было средство более надежное. Он придвинулся к ней почти вплотную, сказал, глядя своими пугающе расширенными глазами в ее испуганные.
– Ты, девка, поклянись сейчас самой страшной клятвой, что никому и никогда об этом моем состоянии не проговоришься…
– Пусти, – пискнула она, пытаясь выломать свою руку из его. Но Никанор уже вцепился мертвой воровской хваткой в ее палец, чуть-чуть надавил на него на изгибе. Хватка эта настолько надежная, что ей можно держать даже человека, который гораздо тебя сильнее. Если же он попытается вырываться, то испытает адскую боль, да еще и, скорее всего, палец себе сломает.
Палец ломать Дуняша не захотела, поэтому после короткого размышления тут же повторила за Никанором слова наспех сочиненной им страшной клятвы, где фигурировали Иисус Христос, Дева Мария, все святые и ангелы, а также ужасные болезни, которым должна была подвергнуться незадачливая горничная, если вдруг вольно или невольно выдаст тайну юного камердинера.
Слегка успокоенный, Ника-Никанор наконец отпустил девушку и задумался над дальнейшими перспективами. Предстояло решить, как вести себя дальше. На клятву девичью он не очень рассчитывал – он и сам был девушкой и понимал, что надолго ее терпения все равно не хватит. А значит, вставал вопрос – как подготовиться ему к грядущему разоблачению? В конце концов, можно было самому явиться к Морозову и признаться в том, что он скопец. Старообрядцы скопцов чем-то чрезвычайным не считали, за врагов их не держали и относились к ним, в общем, спокойно. Но Савва Тимофеевич не был обычным старообрядцем, да и вообще, неизвестно, веровал ли в Бога. Это скопцы считали себя чистыми, а обычные современные люди скорее испытывали перед ними легкий страх и некоторую брезгливость. Морозов, вне всяких сомнений, был человеком современным. Хватит ли ему широты воззрений, чтобы держать рядом с собой сектанта, натура которого исковеркана столь ужасным образом?
Впрочем, окончательное решение этого вопроса можно было пока отложить: пару дней, по расчетам Никанора, Дуняша вполне могла выдержать. На горизонте замаячила иная опасность. По субботам вся прислуга ходила в баню – мужчины в мужскую, а женщины, как легко догадаться, в женскую. Об этом Никанору сообщил Тихон, который, кажется, все-таки начал подозревать хозяйского камердинера после памятного их похода в магазин, когда Никанор не позволил тому присутствовать при переодевании.
Здесь же дело было куда серьезнее: предстояло не просто разоблачиться перед мужчиной, а раздеться донага в мужской бане. Тут уж никакая хитрость не выдержала бы подобного испытания – всех мужиков из помывочного отделения все равно не выгонишь.
Полдня ломала себе голову Ника и наконец придумала какой-никакой выход. Она решила заболеть – не по-настоящему, конечно, а понарошку. Сделать это было не так трудно. Хитровка учила человека многим хитростям, в том числе и хитроумной симуляции. Один старый вор в доме Румянцева умел даже мертвым прикидываться – и так, что ни один почти врач распознать не мог.
– Как же ты это делаешь? – спрашивали его любопытствующие.
– Сердце останавливаю, – важно отвечал тот. – Ляжешь, замрешь – ни один коновал не дознается.
Сердце, правда, Ника останавливать не умела, однако устроить себе болезнь горла и повышенную температуру – это для нее было раз плюнуть. Так она и поступила, решив поваляться пару дней, а потом отправиться в баню самой, приватным образом.
Одного только Ника не учла – повышенного человеколюбия Саввы Тимофеевича, который и о рабочих своих, и о прислуге пекся, как о родных. Эта, в общем, вполне симпатичная его человеческая черта поставила под удар все шпионское начинание Ники.
Узнав, что камердинер его заболел, Морозов, во-первых, отстранил его от всякой работы и изолировал в отдельной комнате, против чего Ника в общем-то не возражала. Однако хозяин сделал еще одну вещь, которая для Ники представляла опасность почти смертельную, а именно вызвал домашнего врача семьи Морозовых, доктора Селивановского.
Об этом Морозов Нике ничего не сказал, и потому, когда дверь в комнату раскрылась и на пороге возник доктор, она от ужаса просто оледенела.
– Ну-с, молодой человек, что там у вас болит? – бодро улыбнувшись, доктор приставил к кровати стул и сел на него.
Пару секунд Ника только губами беззвучно шлепала, как выброшенная на берег рыба, потом собралась с силами и просипела:
– Ничего!
– Так уж и ничего? – усмехнулся Селивановский, вытаскивая из докторского своего саквояжа стетоскоп и медицинскую ложечку, с помощью которой все доктора осматривают горло пациентам. – А что же голос такой сиплый?
– А это я квасу холодного вчера дернул, – соврала Ника. – Вот голос и сел. Но не болит совсем ни капельки, честно-честно.
Доктор, однако, велел ей показать горло. Втайне надеясь, что этим дело и ограничится, Ника послушно открыла рот. Доктор недолгое время изучал открывшуюся перед ним картину, вид у него сделался озабоченным.
– Н-да, – сказал он, – горло у нас красное. Давай-ка легкие послушаем…
И он взялся за стетоскоп. Мозг у Ники работал лихорадочно.
– Что сидишь, – сказал доктор, – поднимай рубашку.
И выжидательно посмотрел на пациента. Тот, однако, оголяться не спешил.
– Доктор, – просипел жалобно, – а можно прямо через рубашку меня выслушать? Уж очень я щекотки боюсь, прямо со мной припадок может сделаться.
– Через рубашку? – переспросил Селивановский, лоб его прорезала задумчивая морщина. – Ну, давай через рубашку, что с тобой поделаешь.
Когда стетоскоп коснулся груди Ники, хоть и через рубашку, ей почудилось, что он как-то странно замер и даже завибрировал. Но это она списала на свое волнение, тем более что врач осмотрел ее довольно быстро и деловито.
– Ну, что ж, – сказал, – хрипов в легких нет, бронхи как будто тоже здоровы. Но надо лечиться, чтобы воспаление не опустилось дальше. Ты пока полежи, я выйду, выпишу тебе рецепт: будешь пить микстуру и горло полоскать.
И он оставил Нику в одиночестве. Та наконец выдохнула с облегчением: кажется, эскулап ничего не заметил. Даже погордилась собой немного – ловко это она выдумала со щекоткой. Впрочем, долго гордиться ей не пришлось – в дверь постучали.
Это ее удивило – чего стучать-то, чай, не ночь-полночь, открывай да заходи!
– Открыто, – сказала, – входите.
Дверь раскрылась, и в комнату вошел сам Савва Тимофеевич, а за ним – и доктор Селивановский.
– Ну, как здоровье, Никанор? – спросил Морозов без улыбки и как-то так странно выделил голосом имя камердинера, что у того не по-хорошему заныло сердце.
– Крайне странная история, – заметил доктор. – Я, видите ли, врач опытный, но такого со мной еще не случалось. Пришел лечить молодого человека, а он при ближайшем рассмотрении оказался барышней…
Услышав такое, Ника, как была, в одной нижней рубашке, бросилась к окну. Второй этаж, высоко, но уж лучше шею себе сломать, чем такой позор терпеть!
Однако выпрыгнуть в окно ей не удалось, Савва Тимофеевич перехватил ее крепкими своими ручищами и посадил обратно на кровать.
– Сиди тихо, – предупредил он. – Еще раз дернешься – свяжу!
Потом посмотрел на доктора. Вообще-то Морозов был удивлен не меньше эскулапа, он ведь и сам не знал, что под видом мальчишки Никанора работает у него красная девица.
– Как же она к вам проникла? – удивился Селивановский. – И главное, зачем?
Как проникла – это отдельная история, а вот зачем – это как раз и предстоит выяснить. Он бы хотел попросить уважаемого доктора, чтоб то, что тут сегодня случилось, оставалось бы между ними. То есть по возможности ни одной живой душе.
– Буду нем, как могила, – пообещал врач. – Однако рецепт оставлю: вашей барышне-крестьянке, кем бы она там ни была, необходимо лечение.
Мануфактур-советник сердечно поблагодарил доктора, и тот, несколько озадаченный, покинул комнату. Савва Тимофеевич сел на стул рядом с кроватью, посмотрел на Нику чрезвычайно внимательно и проговорил:
– Ну, рассказывай, Никанор, как ты дошел до жизни такой, что из мальчишки в девчонку перекидываешься без стыда и совести.
– Да не перекидываюсь я… – начала было Ника, но, посмотрев в глаза Морозову, умолкла.
Случилось все-таки то, чего она опасалась. И случилось, кажется, в худшем виде. Что можно ответить на такой прямой вопрос? Что не сама по себе втерлась она к Савве Тимофеевичу в доверие, а по наущению статского советника Загорского? Во-первых, не поверит он, скорее всего, а во-вторых, вранье это будет: ничего ей Загорский не говорил насчет того, чтобы лезть в дом Морозова, а, напротив, говорил, чтобы никуда не лезть. Она не послушалась – и вот сидит тут, как дурак на именинах. Да и что это значит – сказать про Загорского? Это значит выдать его со всеми потрохами, предать, когда он ей поверил. Нет, дорогие мои, совершенно это невозможно, просто никак.
Но что-то ведь все равно сказать надо, иначе явится сейчас полиция, городовой возьмет ее в наручники, а там следствие, суд – да и вперед на каторгу. А что такое каторга, знала она отлично. Время от времени появлялись на Хитровке бежавшие с каторги люди, и были это люди совсем отдельные, отличавшиеся даже от старых воров. Что-то вынуто было из этих людей, вернее всего – душа, из-за чего пребывали они большую часть времени в странной задумчивости, словно внутрь себя глядели, искали что-то – и не могли найти.
– Есть две каторги – плохая и хорошая, – говорил один такой сбежавший, приняв на грудь столько водки, что хватило бы взвод солдат упоить до смерти, а у него только глаз сверкал чуть сильнее обычного. Был он каторжным первого разряда, то есть в его случае – бессрочным. И умереть должен был на каторге, но чудом сбежал. Как именно выглядело это чудо, никто не спрашивал, боялись.
Плохая каторга, по словам каторжанина, состояла в том, что люди ели друг друга. А хорошая – это когда помирали так, без съедания, от одних только от естественных причин.
Слова эти ужаснули Нику. Снились ей потом страшные сны, как бритые каторжане чинно садятся друг напротив друга, отрезают один у другого руки, ноги и отдельные части тела и, пожелавши друг другу приятного аппетита, начинают чинно есть отрезанные куски, перемазывая лица и рты в красной жидкой крови и желтоватом жире.
Не выдержав наконец таких видений, она обратилась за окончательными разъяснениями к дяде, Авессалому Валериановичу Петухатому.
Дядя Авессалом Валерианович успокоил ее, сказав, что слова о поедании друг друга есть, очевидно, не более чем символ плохого отношения, вспомнил даже фразу, приписываемую какому-то старинному монаху: «Русские люди друг друга едят и тем сыты бывают». В действительности же ни о чем подобном речи быть не может, людоедов не потерпели бы даже на каторге.
После этого Ника немного успокоилась, и кошмары перестали ее терзать. Но даже и так, без людоедства, то, что рассказывали о каторге знающие люди, было вполне достаточно, чтобы до икоты напугать любого, в ком имелось хотя бы самое малое воображение. У Ники воображение было богатое, так что она для себя еще какое-то время назад определила, что лучше уж умрет, чем пойдет на каторгу. Сейчас, однако, умирать ей совсем не хотелось, сейчас надо было выкручиваться.
– Я… – Она потупила глаза. – Вы меня лучше убейте, Савва Тимофеевич, только не думайте, что я вас обворовать пришла.
А зачем же она пришла в таком случае?
– Я… – Она все никак не могла поднять на него глаз, губы у нее шевелились с трудом, будто свинцом налились. – Я… вы меня только не браните, пожалуйста… А дело-то в том, что я… что полюбила я вас без памяти!
Последние слова она выкрикнула, как будто в бреду. Тут же схватилась за голову, отвернулась, упала на постель. Худенькие плечи ее вздрагивали. Ошарашенный Морозов несколько секунд смотрел на нее с изумлением.
– Ты что, ты плачешь, что ли?
Она шмыгнула носом.
– Плачу, – сказала сердито, – а то не видно, что ли? Вот до чего вы меня довели, такие слова говорю взрослому женатому человеку, совсем стыд потеряла. А только знаете что?
Она повернулась к нему лицом, села на кровати, глядела мокрыми глазищами так, что оторопь брала.
– Сердцу-то не прикажешь, Савва Тимофеевич. Люблю я вас, люблю и за ради вас на все готова, а не только мальчишкой прикинуться…
Видя, что он еще колеблется, может, хочет ей поверить, да боится, сомневается, она схватила его руку, большую, теплую купеческую руку и порывисто прижала к маленькой своей девичьей груди.
– Слышите, как сердце бьется? – прошептала она. – Это оно из-за вас бьется. Из-за вашей суровости, что не хотите вы меня замечать…
Морозов заморгал ресницами, на миг лицо у него сделалось растерянным. Однако в следующее мгновение он опомнился и вырвал у нее руку. Дышал тяжело, хмурился, хотел погрозить кулаком, но Ника такое жалостное лицо сделала, что передумал.
– С ума сошла! – сказал он сердито. – Ребенок, девчонка, какая еще тебе любовь? Нос не дорос, да и вообще…
Что это за «вообще», он не знал, знал только, что все происходящее неверно, неправильно и должно быть пресечено прямо сейчас, потому что чем дальше, тем вся эта история становится для них обоих опаснее.
– Выгоните меня теперь? – заплакала Ника, закрывая лицо руками, а сама тихонечко подглядывала за купцом. – На Хитровку отправите? В полицию меня сдадите, да? Не гоните, ради Христа, на Хитровке мне смерть, меня там Шило зарежет.
Савва Тимофеевич только отмахнулся с досадой. Никуда он ее не сдаст и никуда не погонит, разумеется. Однако ситуация дурацкая: как, интересно, ее угораздило в него влюбиться?
– Увидела – и влюбилась, – упрямо отвечала Ника.
Морозов только руками развел: глупость, глупость несусветная! Да как это в него можно влюбиться, что он за Аполлон такой?
– А как в вас другие женщины влюблялись? – ядовито спросила Ника. – Жена ваша как влюбилась, актерка Желябужская – как, да и другие-прочие?
Морозов опять нахмурился: что-то уж больно много она о нем знает! Она кивнула: много, очень много. Она ведь не сразу к нему пришла, следила сперва, сведения собирала. А что влюбиться в него можно, это любой скажет. Он ведь собой видный, добрый, умный – как не влюбиться?
– Ох, девка, с огнем играешь, – покачал головой Морозов.
Ника рухнула на колени: не выгоняйте, умоляю! Он поморщился: да обещал же не выгонять, и довольно об этом. Другой вопрос: что с ней теперь делать? Не может же он у себя в камердинерах девушку держать, это же уму непостижимо, это какой-то Древний Рим выходит, бани, термы и прочий разврат.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































