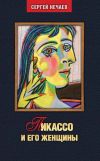Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Не очень ясно, может ли быть «русофобом» человек, для которого (как для Сорина) даже французы, работающие у Дягилева, все еще «иностранцы», но слово хорошее – «русофоб», зацепилось в эмиграции на доброе столетие как синоним кличек «сионист», «жид» и «космополит». Что до Сорина, то он, может, и впрямь с годами становился все больше похож на еврея. Вот и возлюбленной И. А. Бунина так показалось, о чем она не умолчала в своем полном умолчаний «Грасском дневнике».
За два месяца до смерти Григорьев снова написал Судейкину и его новой жене Джин Палмер-Судейкиной, благодаря их за помощь: «Тебя и Gin обнимаю и целую, благодарю в такую минуту, целую Сорина за сот ню и желаю ему миллион. Иной раз (даже не верится) вдруг среди мучений, пролежней и полного упадка духа хочется радостно крикнуть, начать молиться, писать кистью – но далеко еще мое выздоровление…».
Через три месяца после смерти Григорьева Сорин написал из Лондона Судейкину:
«Дорогой милый Сережа, сообщаю тебе очень грустную весть. Умирает Саша Яковлев. Будучи в Париже, я к нему заходил, он был в отъезде. Бенуа мне сказал, что он отлично себя чувствовал, отложил немного денег и работает для себя. Приехал из Голландии – но чувствовал сам какую-то опухоль в животе, и доктор решил немедленно операцию сделать. Когда вскрыли живот, оказалось, что оперировать уже не стоит – страшный рак распространился по внутренностям, который невозможно уже удалить. Какая несправедливость. Мне это сообщила Саломея Андроникова, которая сейчас в Лондоне, она говорит, что на чудо надеяться нельзя, и мы его потеряем, какая досада в такие годы уйти из жизни! Мне все-таки не верится и думаю, что будет чудо – вот в медицине бывают неожиданности, может быть, врачи ошиблись.
Напиши о себе – главное, береги здоровье – ведь ты все легкомыслен.
…Целую и обнимаю тебя крепко-крепко. Привет Григорьеву, если он еще в Нью-Йорке. Твой Савелий».
Как отметили, читая эти письма, люди внимательные, с годами Судейкин все чаще думает о друзьях по мастерской Кардовского, да и собственные его картины сближаются с тем, что делают «неоакадемики».
За неполные четверть века своей работы в Америке Сергей Судейкин оформил огромное количество «великих» и «средних» театральных спектаклей, исполнил декорации для Голливуда (фильм «Воскресенье» по роману Л. Толстого), написал множество портретов, панно, композиций, картин (среди которых – «Американская панорама», «Русская идиллия», «Двойной семейный портрет», «Моя жизнь»…).
Даже неполный перечень спектаклей, которые оформлял в эти годы Судейкин, грозит сделать наш, уже подходящий к концу, очерк бесконечным – «Петрушка» Стравинского (Метрополитен Опера, труппа Анны Павловой, 1924–1925), «Свадебка» Стравинского (Метрополитен Опера, 1929), «Волшебная флейта» Моцарта (Метрополитен Опера, 1926), «Садко» Римского-Корсакова (Метрополитен Опера, 1929), «Летучий голландец» Вагнера (Метрополитен Опера, 1930), «Сорочинская ярмарка» Мусоргского (Метрополитен Опера, 1931), три балета для знаменитой нью-йоркской труппы Мих. Мордкина – «Тщетная предосторожность», «Жизель», «Золотая рыбка» (1937–1938), «Паганини» на музыку Рахманинова (Original Ballet Russe, Covent-Garden, Лондон, 1939, пост. М. Фокина) и еще, и еще, и еще.
Отметив в одной из своих статей, что русские театральные художники, работавшие во Франции, «повлияли на сценические постановки, стиль одежды, моду в ювелирных изделиях», Н. Лобанов-Ростовский добавляет: «То же самое можно сказать о Судейкине и Ремизове, живших в США, – они повлияли на театр (оперу) и моду».
Дальше страстный коллекционер Лобанов-Ростовский рассказывает, какой большой был спрос на русские работы среди многочисленных парижских и нью-йоркских торговцев русской живописью.
Что до искусствоведов, то они из театральных работ позднего Судейкина выделяют оформление спектаклей на музыку Стравинского, где судейкинская гротесковость, по мнению некоторых, в большей степени соответствует «гротесковости, заложенной в музыке композитора», чем, скажем, стиль Бенуа (первым оформлявшего «Петрушку»).
Вот как пишет об этом Д. Коган: «А. Н. Бенуа, воскрешая со всей яркостью свои детские воспоминания о балаганах, акцентирует бытовую характерность и остроту образов композитора, оставаясь в пределах изображения и отражения натуры. Опираясь, подобно Стравинскому, на уличное и дворовое искусство, Судейкин и понимает его во многом сходно со Стравинским… Образам Судейкина присуща более острая гротесковая выразительность. При их большей иллюзорности они глубже и всестороннее пронизаны стихией мистификации. В этом смысле… направление творческих исканий художника, его интересы, как это показала работа над “Петрушкой”, были в некотором отношении близки композитору». Что касается «Свадебки» Стравинского, оформленной Судейкиным для «Метрополитен Опера» четыре года спустя, то здесь Судейкин (по мнению той же Д. Коган) «снова обращается к кубизму, на сей раз видя пластическую аналогию музыке Стравинского в соединении кубистических форм с формами русской иконописи и лубка». И, как сам выразился Судейкин, «с русской иконописью камаринскими красками».
Из других театральных работ Судейкина в США весьма важным считается его оформление спектакля по пьесе Евреинова «Самое главное», поставленной в 1926 году в «Гилдтеатре». Евреиновская идея «театрализации жизни» с давних времен близка была Судейкину, а пафос знаменитой пьесы Евреинова заключался в почти полном слиянии театра и жизни. И форма этого слияния была, по мнению критики, «аналогична тенденциям искусства Судейкина».
Четверть века пролетели в трудах, любовях и хлопотах. Мир был тем временем потрясен новой войной, в которой опять больше всех горя выпало на долю уже пережившей и ленинское, и сталинское кровопускание далекой России. Вспоминались ли процветающему нью-йоркскому художнику в те последние годы недолгой его жизни родные смоленские дали, Москва, Питер, «Бродячая собака», русские друзья и жены? Похоже, что вспоминались. Удивительную историю рассказал в своих очерках о русских художниках лондонский коллекционер Никита Лобанов-Ростовский. Через двенадцать лет после смерти Судейкина, то есть в 1958 году, ему довелось познакомиться с известным американским торговцем картинами Семеном Боланом, от которого Лобанов-Ростовский узнал, что «этому Болану Судейкин передал тысячу своих работ, чтобы они были переправлены в Советский Союз».
Выполнить эту просьбу Болану оказалось не так просто: «Тогда контакты были сложны, и первая попытка установить какую-то связь была предпринята Боланом в 50-х годах, когда в США появился балет Большого театра. Он встретился с Улановой и сказал ей, что у него большое собрание – все работы Судейкина, которые тот выполнял для Метрополитен Опера и других трупп… Разговор ничего не дал. Болан как-то разочаровался и начал продавать кому попало».
Так же стремился к соотечественникам и его друг Савелий Сорин. Он умер на семь лет позже Судейкина, и его вдова Анна Степановна Сорина передала советским музеям двадцать картин мужа. Через два десятка лет после его смерти картины этого полузабытого в России прекрасного портретиста были показаны в Москве и Питере (тогда еще «городе Ленина»).
В последних станковых картинах Судейкина, в частности в картине «Моя жизнь», исследователи обнаруживают близость к «неоклассицизму», к сближению со стилем соученика Судейкина по мастерской Кардовского Александра Яковлева. Здесь уже знакомое нам судейкинское «уподобление жизни человека, его судьбы в мире некоему спектаклю». Главный персонаж судейкинского жизненного спектакля, сам художник – в центре полотна со своей палитрой. Он красив и печален. Рядом с ним – его последняя жена, Джин, в ренессансном костюме, а за спиной у него – прелестная и чуть манекенная Олечка в шляпке, в платье судейкинского кроя, облегающем ее бесценную грудь. (Оля еще была жива в ту пору. В 1945 году Сергей Судейкин и Артур Лурье послали деньги на ее надгробие в Сен-Женевьев-де-Буа. Сам Судейкин пережил ее на полтора года.) В похожей на телеэкран или на сцену кабаре клеточке странного картинного сооружения – Дягилев в цилиндре и прочие знакомцы былых лет. А в тени, близ Оли, столько раз им рисованный прекрасный лик Веры Судейкиной-Стравинской. Она пережила своего третьего мужа на тридцать шесть лет. Впрочем, четвертого она пережила только на одиннадцать. После отъезда Судейкина в США у нее было в Париже художественно-театральное ателье. Она делала костюмы для Дягилева по своим рисункам, хотя чаще, конечно, по рисункам Матисса, Лоренсен, Гончаровой, Руо…
В 1939 году за несколько месяцев умерли мать, дочь и жена И. Ф. Стравинского, и в 1940 году Вера смогла, наконец, выйти замуж за композитора. Они переехали в Голливуд, где Вера открыла художественную галерею. Там выставлялись Пикассо, Шагал, Дали, Челищев, но можно было увидеть и коллажи самой Веры, расписанные ею камни и сухие губки. Стравинские почти сразу по приезде получили американское подданство, а в 1962 году композитор Стравинский посетил с авторскими концертами Москву и Ленинград. Его муза была с ним.
На седьмом десятке лет Вера начала писать полуабстрактные пейзажи, а в шестьдесят семь лет провела в Италии первую персональную выставку своих картин. В девяносто лет от роду она провела персональные выставки в Париже, Лондоне и Берлине, а после этого в последние четыре года своей жизни еще занималась подготовкой к печати своих дневников, альбомов, воспоминаний… В 1982 году художница Вера Стравинская-Судейкина-Шиллинг-Лури (Боссэ) умерла в возрасте девяноста четырех лет.
Такая жизнь – есть о чем вспомнить в мемуарах. Впрочем, для мемуарной литературы, как и для всякой литературы и живописи, не слишком даже важна длина земного пути. Важны насыщенность каждого дня, верный глаз, чуткое ухо и чуткое сердце – важен талант.
Глава III
Честный дадаист из Бугуруслана, загадочный тифлисский страдатель, чистокровные жеребцы счастливого художника, парижский ЛЕФ и слезы дев
Андреенко-Нечитайло Михаил (1894–1982)
Анненков Юрий (1889–1974)
Баранов-Россине Владимир (1888–1944)
Барт Виктор (1887–1954)
Блюм (Блонд) Морис (1899–1974)
Богуславская Ксения (1892–1971)
Гончарова Наталья (1881–1962)
Карская Ида (1905–1990)
Карский Сергей (1902–1950)
Лукомский Георгий (1884–1952)
Минчин Абрам (1898–1931)
Пикельный Роберт (1904–1986)
Ромов Сергей (1888–1939)
Сюрваж Леопольд (1879–1968)
Терешкович Константин (1902–1978)
Шаршун Сергей (1888–1975)
В грустном межвоенном Париже (считалось, что он бешено-веселый), в той среде, где обнищавшие русские жили, по наблюдению Тэффи, «как собаки на Сене», сообщение о том, что заумный кубист-дадаист Шаршун на самом деле всего-навсего купеческий сын из захудалого Бугуруслана, считалось недурной шуткой. Заправские остряки даже добавляли на французский манер: «И такое бывает? Се посибль? Неспа́?». Шаршун и сам представлял это неоднократно как некий парадокс. На самом деле в этом ничего парадоксального не было. Ну да, из Бугуруслана Оренбургской области (одно время – Чкаловской; это где Орск и Бугульма, где потом нашли нефть и где даже был пединститут, впрочем один). Подумаешь, из Бугуруслана – сам Малявин был из-под Бузулука, а откуда явились в наш ретроградный, устаревший мир прочие сотрясатели устоев и противники всего устаревшего, откуда явились на авансцену русские (да и зарубежные) авангардисты? Дягилев – из Пензы (откуда и эгерия Маяковского Т. Яковлева), Ларионов – из Тирасполя, Кремень – из деревни Желудок, Сутин – из Смиловичей, Бурлюк – с хутора Семиротовщина, Экстер – из Белостока, Маяковский – из села Багдади, Пикассо – из Малаги, Бретон – из Тишенбре, Метценже – из Нанта, Майоль – из пиренейского Банюля, Сегонзак – из Буси-Сент-Антуана, Тристан Тцара (Сами Розеншток) – из какой-то румынской дыры, остальные тоже – из Бердянска или Локронана, похоже, что только Глез да Пикабиа видели в детстве Париж, а Терешкович – Москву. В этом нет ничего загадочного, и это вполне объяснимо. Движимый честолюбием, полный сил, провинциал приезжает на завоевание мировых столиц и целого мира; иногда он продвигается постепенно – через Киев, Харьков и Минск, иногда въезжает сразу – через парижские или нью-йоркские окраины. Там, в центре, в столицах, засели дряхлеющие сорокалетние мэтры, они устарели, устали, обленились, им пора на свалку. Их искусство – тоже на свалку. Дорогу новому искусству, пусть даже это новое будет тысячелетней давности (забытое старое) – тем лучше, пусть оно будет изощренным или примитивным (лучше пусть все же примитивным – меньше учиться). Главное – пусть освободят место новым людям, уж они-то принесут свое, новое, они найдут, чтό им нести, они ищут, уже почти что нашли…
А что за новое они нашли? Неважно что, пока что мысль их выражается в двух словах: долой старое! Выразительнее будет даже сказать «старье» – долой старье! Долой старье и дорогу молодым! («Молодым везде у нас дорога!» – пели старики из сталинского политбюро.)
Конечно, молодые авангардисты тоже с годами старятся, но они до смерти будут называть себя молодыми. И чувствовать себя молодыми. Мемуаристы будут с изумлением описывать их «дар вечной молодости», дар их нестареющей наивности, их пленительную незрелость – как у Шагала, Кременя, Шкловского, Пастернака, Зданевича, Ларионова… Да и главный герой нашего очерка, Сергей Иванович Шаршун, еще и восьмидесяти пяти лет от роду отправился в первую свою турпоездку – аж на Галапагосские острова, а затем снова обратился к новому стилю живописи, хотя потом, конечно, вскоре – конец…
Впрочем, не с конца же нам начинать. Начнем с молодых ногтей, с Бугуруслана, где наш будущий знаменитый художник-дадаист Сергей Иванович Шаршун родился в семье купца-словака и купеческой дочки Марины Ивановны Саламатиной. До девятнадцати лет он маялся в симбирском торговом училище, а потом поплыл в Казань учиться на художника. В художественное училище его не приняли, а кабы приняли, кабы сочли достойным, может быть, по-другому сложилась бы творческая и прочая судьба. Но что пользы гадать, она и без того в конечном-то итоге сложилась…
Из неласковой Казани купеческий сын прямым ходом двинул в 1909 году в Москву и стал там заниматься сразу в двух студиях (не задаром, конечно) – у знаменитого Константина Юона и не менее знаменитого Ильи Машкова, одного из основателей «Бубнового валета». Оба знатные были педагоги, оба нашли у него то ли слух, то ли нюх, то ли «чувство цвета» (как же иначе ученику?), да только учиться Шаршуну пришлось недолго – один год. А все же он успел познакомиться за этот судьбоносный год с самим Михаилом Ларионовым, с самой Натальей Гончаровой и с поэтом-заумником Алексеем Крученых, так что краткое пребывание Шаршуна в Москве было плодотворным, он пообщался с лидерами молодого русского авангарда и все понял. Через год его, увы, забрали проходить воинскую службу, но вот тут-то и сказался его живой и вполне активный характер, который вывел его в конце концов к славе. Люди слабые и пассивные ждут, что с ними дальше будет (как вот ждал худшего художник Сутин – и дождался), а люди умные и активные предпринимают какие-нибудь шаги и даже иногда побеждают. Помню, как, встречая меня в годы моей солдатской службы на улице приграничного армянского городка Эчмиадзина, сочувственно кричали мне милые друзья-аборигены: «Э-э, ара, зачем служить пошел? Отчего не сбежал? Деньги жалел?». И крутили пальцем у виска. Так вот, Шаршун со службы сбежал, так сказать, дезертировал, и даже перебрался через госграницу. Тогда, впрочем, граница была еще не совсем на замке (в тот же самый год точно так же сбежали в Париж без документов и М. Кикоин с П. Кременем).
Через Польшу и Германию добрался купеческий сын Шаршун в Париж и стал посещать там Русскую академию, а также передовую академию Ла Палет (Палитра), учился у самого Фоконье, у самого Метценже, у са мого Сегонзака – все очень «левые» художники, столпы модернизма. В 1913 году Шаршун уже показал свои кубистские «Пластические композиции» в Салоне Независимых. Но тут началась война, и Шаршун решил уехать еще дальше – в Барселону. Это было мудрое решение, тем более что поехал он не один. С ним была милая скульпторша Елена Грюнхоф, ученица Бурделя и рус ского скульптора-кубиста Александра Архипенко. Шаршун был в то время тоже художник-кубист. В Барселоне он знакомится с испано-мавританской майоликой и под ее влиянием разрабатывает свой «орнаментальный кубизм». Позднее он так вспоминал об этом: «Цветные фаянсовые квадраты изменили мою концепцию живописи, дав волю моей исконно славянской натуре – мои картины стали красочными и орнаментальными».
В 1916 году в барселонской галерее Дальмо прошла выставка картин Шаршуна и скульптур Елены Грюнхоф. Еще через год Шаршун выставлялся в той же галерее один. Он даже сделал в Барселоне два рисованных фильма, и один из них, «Гитара», был навеян истинно русской темой – цыганскими песнями.
В Барселоне же произошло первое знакомство Шаршуна с дадаистами – с писателем Артуром Краваном и поэтом Максимилианом Готье. От них, как полагают, и получил Шаршун первые уроки дадаистского антиэстетизма. Впрочем, я думаю, он уже и в Москве это все мог подцепить – и российский дадаизм-футуризм, и антиэстетизм.
Главный смысл движения, которое называют дадаизм или просто Дада (игрушечная лошадка для несмышленышей) и которое зародилось в страшные годы Великой войны в мирном городе Цюрихе, сводился ко вполне «истерическому» (как считает британский справочник) и вполне категорическому отрицанию – отрицанию всего, прежде всего любого смысла и любого искусства. Люди ученые спорят о том, кто придумал это замечательное слово «Дада». Большинство экспертов утверждает, что его придумал румынский еврей Тцара в цюрихском кафе «Де ла Террас» 6 февраля 1916 года. Впрочем, есть и предположение, что придумали это слово веселый актер Балл и его веселая подруга в кафе «Вольтер» в Цюрихе, где Тцара читал стихи по-румынски, а балалаечный оркестр исполнял русские мелодии (то есть без русского влияния и тут не обошлось). С другой стороны, люди еще более серьезные отмечают, что великий Дюшан выставил свои знаменитые шедевры искусства еще тогда, когда и слово «Дада» не было пущено в обиход. Точнее говоря, он выставил обыкновенный унитаз, но сделал к нему подпись «Фонтан», чем прославил на века свое имя. Еще он выставил репродукцию Моны Лизы, как известно, не им нарисованной, но зато он ей пририсовал усы, а сбоку сделал очень похабную приписку, правда зашифрованную аббревиатурой. Что-то в этом духе изготовили в ту пору и другие отцы-основатели Дада. В общем, процесс пошел, как любил говорить «отец перестройки».
А тем временем, между прочим, в Европе шла война, а в России еще грянула вдобавок Февральская революция. Рассчитывая вернуться после войны в Россию, Шаршун решил дослужить что ему было положено, записался в Русский экспедиционный корпус, воевавший на стороне Франции, и был отправлен на фронт, но на фронте он подхватил грипп, был демобилизован и в 1919 году вернулся в Париж. И вот если из России Шаршун так неудачно бежал перед самым расцветом русского авангарда (даже «Парикмахера» Ивана Пуни он не увидел), то уж в Париж-то он подгадал в самый раз, вернулся вовремя. В 1919 году из мирного Цюриха переехал в безопасный Париж Франсис Пикабиа, а чуть позже – сам Тристан Тцара. Этих отцов дадаизма с нетерпением ждали молодые поэты Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Супо, уже затеявшие свой журнал. Тцара сразу возвестил об открытии «фестиваля Дада» или «сезона Дада». Это была серия капустников с музыкальными, литературными номерами, конферансами, выносом и уносом картин и чтением манифестов, с «хождением по грани запрещенного», с хилыми покушениями на «абсурдный юмор» и верным расчетом на шок, на вызов, на скандал. Присутствовали на спектаклях «сливки литературного общества», «весь Париж», все тусовщики-завсегдатаи. Пошел на такое действо-хэппенинг и наш впечатлительный бугурусланец Шаршун. Он был в полном восторге и стал атаковать самого Пикабиа письмами, настоятельно и ласково прося старших (наподобие одного русского поэта-диссидента): «Старшие из поколения, возьмите меня трубачом». Не получив ответа, Шаршун вспомнил, что он все же бунтарь, и написал так: «Глава школы, плевать я хотел, нравится вам или не нравится наличие поклонников и последователей. Я один из них…». Упорство Шаршуна было вознаграждено, таланты его оценены. Он попал в гостиную мадам Эверлинг, ставшую штаб-квартирой Тристана Тцары, и ему разрешили даже расписаться на полотне (пока почти чистом) «Кокодилатный глаз», где расписывались все дадаисты. Так Шаршун вошел в историю французского дадаизма – о чем еще мог мечтать мальчик из Бугуруслана?
«Кокодилатный глаз» считается великим творением Пикабиа. Собственно, творить никому ничего не пришлось. Пикабиа вывесил чистый лист бумаги, и каждый на нем расписался. В отличие от прочих дадаистов наш находчивый Шаршун не только расписался дважды, вдоль и поперек, но и приписал по-французски два слова: «Русское солнце». Как он объяснил позднее, надпись эта должна была воспеть приход всемирной пролетарской революции, которой он тогда восхищался.
Однако и попав в центр самого передового движения, Шаршун не забывал свою «малую родину», помнил о своем провинциальном происхождении. Когда румын Тцара поручил ему составить очередной манифест, Шаршун написал так (орфографические и синтаксические ошибки не случайны: в них все остроумие):
«Манифест Некрасивчик Мать научила 113 превращений Больше считать неумела Слышала за Ригой Владивостоком Туркестаном есть люди. Считаю пишу подо мной другой стороны стоит такой же человек Родился Бугуруслане умру Уитмунтмане сея семя с авиона на землю. Гвинейский Идол смешать Венерой Милосской Римский Папа Ротшильдом Стрельчатый глаз инкрустировать испанский чернослив… Велосипед создал св. инженер. Воинские поезда привезли твоим мощам миллионы русских азиатов африканцев. Россия убила кротость. Заразилась точностью. Глаза преврати хронометр. Мозг сноси аптекарю. Рука застучит Нога догонит. Сергей Шаршун».
На наше счастье, он написал этот прославленный текст на двух языках, так что вы имеете здесь дело с оригиналом, а не с обычными невнятными восторгами историков искусства. Впрочем, можете не сомневаться, что Тцара пришел в восторг и от французского варианта, который, вероятно, все же был послабее русского. «Отцу дадаизма» текст так понравился, что Шаршуну заказали новое воззвание. Вот его начало:
«Для частного собрания
Дадаистская Партия
Воззвание нашего дорогого представителя в Парламенте,
Сергея Шаршуна
Друзья
Его Величество король Франции здесь!
По пути в Рим, чтобы лично руководить похищением своего трона-писсуара памятника Эммануилу II…»
Был еще сочиненный Шаршуном пригласительный билет на «похороны кубизма», где «похоронную службу будут править:
«С. Шаршун – раввин
Тристан Цара – муедзин…
Негритянский православный хор Кокто».
Такой вот юмор, такие капустники, приводившие в восторг литературную элиту послевоенного Парижа и ставшие позднее предметом высокоученых исследований (для которых существуют во всем мире «научные гуманитарные фонды»). Припоминается мне, что и новый русский авангард еще полвека спустя тяготел к тому же уровню дурачеств и хэппенингов.
Шаршун еще и три десятка лет спустя все выпускал и выпускал (на листочках) или печатал за свой счет в журналах небольшие произведения, хранящие отголоски того же абсурдного юмора и близкого его сердцу дадаизма. Что же касается его живописи, то о ее некой удаленности от дадаистской заданности и антиэстетизма известный эстонский поэт, каллиграф и искусствовед Алексис Раннит рассуждал так:
«Шаршун примыкал к дадаистам, но его дадаизм не утверждал установку на заявляющий протест, иррационализм или очевидный антиэстетизм. Будучи изначально и природно одаренным художником, он оставался стилистически далеким от производства псевдотехнических премедитированных чертежей-импровизаций или бессмысленных сочетаний случайных предметов, линий и красок. С его врожденным романтическим талантом Шаршун не мог стать надуманным маньеристом, он просто тяготел, самым естественным образом, к абстрактному и фантастическому, к напевности волнообразных линейных и цветовых созвучий, наивности выразительного рисунка, символической таинственности мотивов и знаков».
На сборища дадаистов у Пикабиа Шаршун приходил одетым в форму русского солдата, перекрашенную в черный цвет: красиво и практично. Исследовательница Т. Пахмус сообщает, что на выставке дадаистского антиискусства в театре «Комеди де Шанз-Элизе» Шаршун выставил свою работу «Сальпенжитная Дева Мария»: «Она представляла собой маленькую деревянную скульптуру “Танец” с развешанными вокруг нее воротничками и галстуками. “Высоко, по всему карнизу, – с ностальгической нежностью вспоминал Шаршун, – расклеили бумажную ленту с восклицаниями и изречениями…”».
Шаршун на этой ленте написал по-русски «Я здесь».
Напомню, что «тут же выступал со своим номером русский поэт и танцор Валентин Яковлевич Парнах, который танцевал на столе под музыку, исполняемую Тристаном Тцара».
В 1921 году Шаршун впервые опубликовал собственную дадаистскую поэму «Неподвижная толпа» (написал он ее по-французски – «Foule immobile», а поэт Филипп Супо помог ее отредактировать). Тцара был от поэмы в восторге и даже ее переиздал. Понятно, что Шаршун перезнакомился уже к тому времени со всеми столпами дадаизма – и с Арпом, и с Марселем Дюшаном (тем самым, который послал на выставку настоящий писсуар и пририсовал усы с похабщиной Моне Лизе), и с Максом Эрнстом. Шаршун теперь и сам выставлялся без конца с дадаистами – то в книжном магазине Форни, то в салонах, то в галерее Монтэнь. Иногда он привлекал к дадаистским спектаклям русских знакомых – скажем, критика Сергея Ромова, эмигранта еще той, настоящей первой русской волны в Париже, после 1905 года.
Весной 1921 года у русских художников и поэтов возникло в Париже и свое «общество левого искусства», названное «Гатарапак». Название это теперь уже расшифровать трудно, но большинство участников общества пришли в него из нового парижского Союза русских художников, первое собрание которого состоялось 4 мая 1921 года в знаменитом кафе «Клозери де Лила» в конце бульвара Монпарнас (дом № 171). И самое возникновение Союза русских художников, и создание кружка «Гатарапак», как позднее и создание группы «Через», и сплочение русских авангардистов в Париже вокруг журнала «Удар», и вскоре последовавший раскол Союза – все это любопытнейшие эпизоды художественной жизни русской эмиграции в Париже, увы, до сих пор не слишком хорошо знакомые даже тем читателям, что уже немало начитались об эмиграции всякого. Для нашего же очерка немаловажным является участие во всех этих эпизодах героев нашей книги – Сергея Шаршуна, Константина Терешковича, Ильи Зданевича, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Виктора Барта, Бориса Поплавского, Осипа Цадкина, Хаима Сутина, Лазаря Воловика, Сэма Грановского, Жака Липшица, Пинхуса Кременя, Ладо Гудиашвили, Давида Какабадзе, Сергея Карского, Иды Шрайбман-Карской…
Историк Л. Ливак в своей работе, опубликованной недавно в альманахе «Диаспора», среди специфических особенностей этих объединений молодых русских художников, возникших в Париже в 1921–1925 годах, выделил: 1) отсутствие в них антисоветских настроений; 2) популярность в их среде футуризма и конструктивизма (то бишь советского авангарда); 3) их связи с французским авангардом.
Напомню, о чем здесь идет речь.
Первых заграничных русских авангардистов-единомышленников Сергей Шаршун нашел себе еще в парижской «Палате поэтов» в лице парижских старожилов – поэта и танцора Валентина Парнаха и критика Сергея Ромова, к которым вскоре примкнули новоприбывшие поэты Евангулов и Гингер. И в «Палате поэтов» и в «Гатарапаке» поэты сотрудничали с художниками и музыкантами по принципу «синтетизма» – как принято было во французских кружках дадаистов или, скажем, в петербургских кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». О последних двух я вспомнил не случайно. Осенью 1921 года добрался, наконец, до Парижа после долгого ожидания французской визы в Константинополе энергичный поэт и художник Илья Зданевич, еще недавно шокировавший «фармацевтов» из «Бродячей собаки» или тифлисского «Фантастического кабачка» лекциями о преимуществах башмака перед Венерой Милосской. Он добрался вовремя: один из его тифлисских друзей – Ладо Гудиашвили, расписывавший когда-то кафе «Химериони» вместе с Какабадзе и Судейкиным, расписывал теперь на Монпарнасе штаб-квартиру «Гатарапака» кафе «Хамелеон». Знаменитое кафе…
Был когда-то, например,
На бульваре Монпарнасе,
На углу Campagne Premiere,
Кабачок (исчезнул он)
С вывеской «Хамелеон»…
Ах, для тех, кто не забыл
Нашей молодости пыл,
Кто и сам тогда был молод
(Кафе-крем, стихи и голод!),
Многое напомнит он,
Кабачок «Хамелеон»!
Так ностальгически вспоминал о первых «боевых» временах «Гатарапака», Союза художников и группы «Через» другой кавказец – Георгий Евангулов, но было бы жаль пренебречь в нашем очерке следами от знаменитого башмака Зданевича, ведущими нас на этот парижский перекресток, где сходились теперь вместе французские дадаисты, вечный протестант из Бугуруслана, русские молодые бунтари и, возможно, уже и кое-какие их московские наставники.
Итак, Зданевич, как уже было сказано, прибыл вовремя: все затевалось в том бурном 1921 году в Париже – и Союз русских художников, и «Гатарапак», и журнал «Удар», и подготовка монархической «Молодой России», и массовая высылка (уж не без «засылки», наверное) интеллигенции из Советской России, и левое евразийство, и безошибочные, умелые маневры лубянской провокации «Трест»…
В бурной деятельности, которую развил тогда Союз русских художников, новый помощник Ромова и Ларионова, Илья Зданевич, сыграл не малую роль, так что пришло самое время рассказать подробнее об этом заметном художественном деятеле, которого новая (минского издания) энциклопедия русского авангарда лестно характеризует как «одного из самых радикальных авангардистов, поэта-заумника, прозаика, живописца, теоретика искусства, издателя, драматурга…».
Родился «радикальный авангардист» Илья Михайлович Зданевич в 1894 году в Тифлисе в польско-грузинской семье учителя французского языка и пианистки Валентины Гамкрелидзе. Он был младшим из сыновей, всего на два года младше брата Кирилла, будущего художника и искусствоведа. Едва окончив тифлисскую гимназию, семнадцатилетний Илья Зданевич поехал в Петербург, поступил там на юридический факультет, но вряд ли часто обременял факультет своим присутствием, ибо вскоре по приезде общительный юноша познакомился с только что закончившим московское училище живописи Виктором Бартом, который свел его с Гончаровой и Ларионовым, с Михаилом Ле Дантю и Маяковским – молодыми авангардистами, которые тогда еще все как есть назывались футуристами. Как писал лет двадцать спустя (впрочем, еще за шесть лет до того, как он был расстрелян большевиками) просвещенный футурист Бенедикт Лившиц, название свое столичные бунтари взяли с потолка (скорей все же с заграничного, итальянского потолка): «Термин “футуризм” у нас появился на свет незаконно: движение было потоком разнородных и разноустремленных воль, характеризовавшихся прежде всего единством отрицательной цели».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.