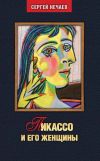Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Надолго умолкал брат Кирилл… Зато успел передать письмишко в Париж уехавший в Москву комсомолец Свешников. Писал так: «Перестаньте ссориться между собой, ни в коем случае не возвращайтесь в Россию, отговаривайте всех, кто хочет это сделать: здесь духовно даже не кладбище, хуже…».
А что лихой танцор Парнах?.. Советский драматург А. Гладков встретил его в начале войны в Чистополе, в который эвакуировали московских литераторов и близ которого повесилась Цветаева. Оставил грустное описание былого живчика, уехавшего через Берлин на завоевание русской публики стихами и джаз-бандом: «В прошлом танцор и музыкант Парнах, похожий в своей видавшей виды заграничной шляпе на большого попугая, за пару мисок пустых щей следил в столовке Литфонда за тем, чтобы входящие плотно закрывали двери, сидел в ней с утра до часа, когда столовка закрывалась, с застывшим лицом, с поднятым воротником, ни с кем не разговаривая».
Именно в эту пору у практичного Зданевича нашлись в немецком Париже деньги, чтобы возродить свое разорительное издательство «41°» и выпустить небольшим тиражом несколько редких книг. Пикассо не забыл своего левого друга, сделал иллюстрации к его «Афету». Левый друг Элюар умно перевел его заумь, а Сюрваж проиллюстрировал его «Рахель». Художественная жизнь била ключом в оккупированной столице Франции, но, может, это уже называлось тогда «резистансом» (еще, впрочем, писали это слово в кавычках и со строчной буквы). Позднее Пикассо сделал также иллюстрации к поэме Зданевича «Письмо» и книге «Пиросманишвили», вышедшей в последний раз за два года до смерти Зданевича, уже в 70-е годы.
Как же, как же, Пикассо… Помнится знаменитая послевоенная фотография, на ней два старика сидят на диванчике. Старенький коммунист-миллионер Пикассо рассматривает золотую медальку с профилем Сталина, которую привез ему престарелый Эренбург вместе со званием лауреата Сталинской премии. Эренбург, наверное, помнил еще по концу 30-х, что значит «сталинская борьба за мир» – подготовка к завоеванию мира, сосредоточенье несметных войск на границе… Новая сталинская «борьба за мир» помогла Эренбургу снова уцелеть, когда расстреляли весь этот ихний комитет сталинских евреев-миротворцев. О чем он думает, ушлый уцелевший Эренбург, глядя на смущенного Пикассо? О том, что, удайся эта новая «война за мир», камня на камне не останется от старой доброй Европы, куда он так любит ездить, где его ждет молодая Лотхен из Стокгольма… А о чем думает старенький Пикассо? Ни о чем. Он просто смущен и растроган лаской вождя. Он художник. Он коммунист. Ни тому ни другому не положено думать.
В оформлении новых книг Зданевича приняли также участие Брак и Джакометти. Сам Зданевич сделал гравюры для книг Элюара и Османа. Он тщательно разрабатывал композицию каждой книги, подбирал шрифты, рисунки, делал раскладку листов. Выпустил Зданевич и антологию «заумной» поэзии – «Поэзия неузнанных слов» («Poésie des mots inconnus»).
Нетрудно догадаться, что книги эти стали усладой коллекционеров-библиофилов, их выставляют в музеях, о них пишут.
Что касается текстов самого Зданевича (и «заумных», и традиционных), они были недавно напечатаны на родном языке и, может, даже кем-нибудь прочитаны. Во всяком случае, нет причины лишать вас этой возможности. Вот отрывки из напечатанной не так давно поэмы «Письмо», написанной зрелым (пятидесятилетним) поэтом, оформленной Пикассо и посвященной бывшей жене эсера Чернова Ольге Черновой:
…тепла и крови радуюсь уходу
освобожден от внешнего дремой
в деревню потаенному в угоду
навеки ворочусь к себе домой
существовать без обязательств просто
без прошлого под снегом без прикрас
подумай за оградами погоста
мы встретимся и не последний раз
прислушайся моих пернатых граю
что навсегда уверен и умен
пустяк изменчивый не умираю
взойду землей без собственных имен
морские табуны свистать по гривам
в озерах ледяных терпеть на дне
на высоте безумной над обрывом
моей расположиться седине
туманом навалюсь и что ни делай
не убирается с крыльца прохвост
но вот к полуночи похолодело
рассеян стрелами падучих звезд.
Может, ради этого и не стоило «сбрасывать с корабля поэзии» Тютчева с Пушкиным, но чего не потребуешь сгоряча. Так или иначе, вот финал поэмы:
…возьмешь немного не щадя минуты
когда последние слова темня
на стол падут в единственный сомкнуты
цветы оставшиеся от меня
мне самому искорениться вскоре
всего прохватывает благодать
не заподазривай меня в укоре
при жизни ждал могу бессмертный ждать
мы не впустую согласить молили
разводит наяву судьба силач
но будет хорошо мечтать в могиле
не надо бедная моя не плачь.
Зданевич умер в 1975 году на девятом десятке лет, и уже год спустя после его смерти парижский Музей современного искусства открыл выставку, посвященную его памяти. Потом выставок было много.
Ну, а что происходило с «левыми» художниками-парижанами в 20-е годы, после Берлина, после ларионовско-зданевичевской «лояльной» акции в Союзе?
Часть из них отхлынула от Союза художников, но вовсе не от Союза Социалистических Республик, не от «свободной России» и великого соблазна общесоветской славы. В середине 30-х художники еще с энтузиазмом тусовались вокруг Союза возвращения и журнала «Наш Союз», а уж после войны и вовсе льнули к Союзу советских патриотов.
В 30-е годы в Союзе возвращения и в журнале «Наш Союз» верховодили симпатичный, по мнению одних, и вполне отвратительный, по мнению самых привередливых, муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон и ее вполне симпатичная дочь Ариадна. И отец, и дочь были агентами НКВД. Впрочем, Ариадна Сергеевна предпочитала, чтоб их называли «разведчиками», и уточняла (в интимном письме тов. Андропову, преданом гласности в Москве), что отец ее был «вербовщиком и наводчиком». Активная Ариадна устраивала художественные выставки и вечера с участием парижских художников, и все русские парижские художники соглашались не только выставляться у Ариадны, но и бесплатно работать для оформления ее агитвечеров, потому что средства разведки ей надо было экономить.
На дворе стояла уже середина 30-х годов, Россия плавала в крови Большого террора, но до художников сведения об этом отчего-то не доходили. Они черпали правдивые сведения из журнала НКВД «Наш Союз». Более того, иные из них решили, что самое время возвращаться в Россию. И поехали, наконец, – как Барт, как Билибин, как Шухаев, как композитор Прокофьев… Билибин погиб в блокадном Ленинграде, Шухаев выжил, несмотря на 10 лет Колымы и вечное ожидание добавки «по рогам», Барт сидел тихо и строгал учебные пособия, Прокофьев сдал первую жену в концлагерь и обмирал от страха со второй. В 1935 году провинциал Хаим-Якоб-Жак Липшиц впервые посетил столичную Москву. Вопреки обещаниям, никаких скульптур для московского шедевра Корбюзье ему не заказали, но пишут, что он получил там все же почетный и выгодный заказ – изваять самого тов. Дзержинского. Заказ, возможно, оформляли прямо на Лубянке, может, он содержал и какие-нибудь условия о дополнительных услугах за гонорар, потому что Липшиц вернулся в Париж крайне испуганным. Никогда не мог отказаться от явных и тайных «левых» денег и талантливый шустряк Юрий Анненков.

Молодой Липшиц
Так, может, он все-таки прав был, знаток души художника, английский коллекционер Никита Лобанов-Ростовский, когда сказал, что «художников вообще-то не интересует, что происходит вокруг. Каждый художник… интересуется своей жизнью, своей работой». Так что и мы оставим в покое то, что «происходит вокруг», и вернемся к жизни и работе молодых художников из окружения Терешковича и Поплавского, а также к трудам немолодого уже, но юного душой авангардиста из Бугуруслана.

Художник Сергей Карский с женой-художницей и свояченицей Диной (будущей графиней Татищевой). Из архива Мишеля Карского
После возвращения из Берлина Борис Поплавский поселился с семьей (братом-таксистом и родителями) в квартирке-вигваме на улице Барро (дом № 22). Это и нынче один из самых экзотических уголков 13-го округа Парижа, овеянных эмигрантскими тенями, оставивших следы в романах, поэмах, дневниках, письмах (а теперь уж и в научных исследованиях). Войдя в подъезд на улице Барро, без труда миновав дверь с кнопками и кодами, любопытный турист из России (кого ж еще сюда занесет?) поднимется по лестнице и попадет на крышу гаража «Тойота», былого гаража «Ситроен», где стояли в те годы такси.
По периметру крыши вытянулись два ряда одинаковых островерхих двухэтажных домиков былой «Маленькой России». (Они, кстати, хорошо видны из садика «Маленького Эльзаса», что выходит на улицу Давьель.) На крыше этой жили небогатые русские, по большей части – таксисты. Один из вигвамов и снимали Поплавские. Часть нижней комнаты в домике занимает лестница, ведущая на второй (по-французски это первый) этаж. Внизу, у стены, была койка Бориса. На ней он проводил много времени – в молитвах, в ожидании «встречи с Богом», в медитации, в сочинении стихов, в чтении и сне… Здесь бывали и друзья-художники (Терешкович, Блюм, Минчин, Карский), и друзья-поэты (Закович, Гингер, Дряхлов). Здесь Поплавский прожил последние десять лет жизни, здесь он стал знаменитым, здесь и умер тридцати двух лет от роду вполне загадочной смертью.

«Маленькая Россия» на крыше былого гаража фирмы «Ситроен» (нынче там «Тойота»). В гараже стояли машины, а в двухэтажных островерхих домиках жили русские таксисты. Здесь жил с родителями и братом-шофером «царства монпарнасского царевич» Борис Поплавский, здесь жила Дина, здесь разыгрывались духовные и сексуальные драмы поколения (читай роман «Аполлон Безобразов»). Здесь Борис и погиб…
Фото Бориса Гесселя
В одном из соседних домиков «Маленькой России» снимала комнату прелестная Дина Шрайбман, Дина-утешительница, Дина-спасительница, Дина-любовь… Однажды Поплавский написал письмо-завещание: «Прошу Дину и Папу, которых больше всего на свете люблю…».
Три юные дочери состоятельного папы Шрайбмана покинули в начале 20-х бессарабские Бендеры и приехали покорять Париж. Они оставили сытый, обеспеченный родительский дом, книги, верховую езду, тихие Бендеры и уехали в чужой, неприветливый город. Две из них (Дина Татищева и Бетти Шрайбман) погибли в годы войны, третья (Ида Карская) дожила до преклонного возраста и стала известной художницей. Перед самой смертью она записала на пленку свои раздумья над прожитой жизнью, кое-какие воспоминания. Мне довелось слушать эту пленку в ее экзотической мастерской на парижской улице Шарло, забитой ее странными работами и невиданными музыкальными инструментами (ее сын-физик с увлечением сочиняет музыку, конечно авангардную), через полтора десятка лет после ее смерти. Ее хриплый, прокуренный, удивительно симпатичный голос переносит в богемные компании 20-х и 30-х, туда, где были Поплавский, Терешкович, Гингер, Минчин, Дряхлов, Блюм, Присманова, Сутин, – в «Маленькую Россию» на гаражной крыше, на заседания «Зеленой лампы», в квартиру Гиппиус и Мережковского, на лекции Шестова, на инструктажи Ромова и Зданевича, на сборища художников, в картежные ночные застолья. Вот он, нищий молодежный Париж 20-х и 30-х, вот что им снилось потом во снах (тем, конечно, кто выжил)…
«Среда, из которой я вышла, была мне абсолютно чужда, и я никогда не раскаивалась, что оставила родной дом навсегда. Именно Париж стал для меня моим настоящим домом, естественной средой обитания… – вспоминала шестьдесят лет спустя блистательная Ида-Морелла Карская. – Мы были, как беспризорные дети. Покинув Россию, мы искали свободы – и здесь ее обрели. Но можно ли было предполагать, что желанная свобода так непроста и трагична?»
Талантливая и красивая Ида Шрайбман училась на медицинском факультете, а зарабатывала на жизнь всякими декоративными поделками – раскрашивала шарфы, делала декоративные панно, работала в мастерской дизайна.
Одно время, как и ее сестра Дина, она влюблена была в Поплавского. Это она и есть Морелла из самого знаменитого его стихотворения. Она отошла, оставив поэта сопернице – без памяти в него влюбленной и нежно ею самой любимой чахоточной сестре Дине. Она была умная девочка, Ида, она знала, как ненадежен влюбчивый, нервный Борис, но и она, умирая, помнила его руки: «…обнять вас за плечи, как Поплавский, не умел никто. (А ей было с кем сравнивать: «Мы были все несколько имморалисты и могли бы занять достойное место в романах Андре Жида», – пишет она. – Б. Н.). Когда у него было меланхолическое настроение, он мог истерически поплакать на вашем плече, объясниться в любви, но всерьез этого не принимали: ему никто не верил, когда он говорил, что хочет завести семью».

Знаменитая художница Ида Карская. Она пережила сестер, мужа, Поплавского, Сутина, почти всех друзей из ее лихого «незамеченного поколения»…
А любой женщине, даже очень современной и богемной, хочется, чтоб было «по-настоящему», чтоб были семья, дети…
В Иду был влюблен молодой художник Сергей Карский. Она поверила в его надежность, вышла за него замуж в 1930-м и еще добрых сорок лет после его смерти вспоминала его с нежностью. И похоже – с непроходящим чувством вины: «Мне необычайно повезло в судьбе: я встретила Карского. Со мной рядом был умный, тонкий человек. Светловолосый, с красивыми светло-серыми глазами… Он великолепно знал языки, делал талантливые переводы (например, переводил на французский Мандельштама), работал в редакциях различных газет… сотрудничал с Альбером Камю. Был он также художником».
Сергей Карский родился в Приуралье, в семье ссыльного журналиста, социал-демократа. Потом семья уехала в Париж, где Сергей начал учиться. Но отец не вынес трудностей семейной и эмигрантской жизни, «пошел в Булонский лес и застрелился». Сергею было восемь лет. Мать вернулась с сыном в Россию и поселилась на Дальнем Востоке. Как видите, жизнь будущего художника и журналиста начиналась с немалых бед и странствий. Гимназию он окончил в Уссурийске, в Гражданскую войну жил у дяди, русского консула, в Шанхае, потом добрался до Парижа и поступил в Школу восточных языков. Это было в 1922 году – тогда имя его и появляется в дневниках Поплавского: они были в одной компании – Карский, Терешкович, Ланской, Минчин, сестры Шрайбман. Сергей занимался живописью еще с начала 20-х годов, ходил в академию, выставлял картины в салонах и кафе «Ротонда» – в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 …Он входил в группу «Через», участвовал в устройстве благотворительных балов. Семейная жизнь оказалась непредвиденно трудной, не из-за денег – на жизнь они худо-бедно зарабатывали: «Зарабатывал Сергей мало в редакциях газет, даже когда работал в “Монде”, подрабатывал тем, что иногда продавал свои картины. Я на своих декоративных заказах имела тогда больше. Только потом, когда муж стал зарабатывать получше, он попросил меня остаться дома. И, бросив все, я осталась…»
Вот тогда и случилось непредвиденное, то, о чем она думала до конца жизни со смутным чувством вины. Но пусть она расскажет сама – чудный, прокуренный голос с парижским и с откуда-то вдруг всплывающим то ли бессарабским, то ли южнорусским, то ли французским акцентом: «Я часто позировала мужу. Вот так сидишь, позируешь, несколько часов, а потом ему надо уходить на работу, и он поручал мне приводить в порядок его мольберты, мыть кисти. Я столько мыла его кисти, как никогда не мою свои. Часами позируй, потом кисти мой с мылом, суши их. Мне все это так надоело, что я взялась сама делать свои автопортреты.
В живописи в те годы я разбиралась меньше мужа, но она меня интересовала… Первый автопортрет дался мне нелегко… Однако я упрямо продолжала искать, работала несколько часов, и что-то вышло… Я побежала к соседке: “Васса, пойдемте, я покажу Вам мою картину”. Она пришла и была удивлена. Потом пришел муж со своим приятелем-художником. Я повесила портрет и напряженно ждала, что же он скажет, ведь художником был он, а я была курсисткой. Они долго смотрели, потом приятель сказал: “Сергей, на Вашем месте я бы ей запретил заниматься живописью. Для Вас это – конец”. Тогда мы отнеслись к этому как к шутке, и муж, конечно, продолжал рисовать, продолжала немного и я. Но однажды Сергей получил открытку от известного парижского критика, хотевшего посмотреть новые его работы. Он любил живопись мужа и даже покупал некоторые его картины. Сергей отправился к нему и вернулся совершенно бледный. “Что случилось? Он Вас выругал?..” – “Хуже. Я вместе со своими картинами прихватил одну из Ваших”. И произошло… следующее: когда критик взял мою картину в руки, он воскликнул: “Господин Карский, это не Вы! Чья эта работа? У этого автора дьявольский темперамент! Кто он? Он далеко пойдет”. Когда “господин Карский” вернулся домой, на нем не было лица, и он сказал: “Флаг живописи поднят высоко в воздухе, и несете его Вы, а не я”. Что я испытала в этот момент? Мне стало как-то больно и жутко: я поняла, что на сей раз действительно конец. Любимый мой человек, художник, бросает живопись, из-за меня. Я все же надеялась, что это только временно, что он все-таки вернется. Но он никогда больше к живописи так и не вернулся. К счастью, со временем эти переживания сгладились: Сергей полностью ушел в журналистскую… деятельность. Было ли это к лучшему для него, не знаю. Судить об этом я не вправе.
…Это мучило меня всегда. Сергей Карский был как художник лучше, чем я, – я это всегда сознавала. Вернее, он знал живопись, ее технику, лучше, чем я, а у меня не было никакой культуры…
Позволю себе провести параллель с Робером и Соней Делоне… у него была культура, а у нее была возможность делать и декоративные панно, и костюмы. Она была, вероятно, более приспособленной к жизни, более ловкой. В конце концов она-то и содержала семью. Она не живописец, а именно декоратор. Это была очень интересная, независимая, творческая личность. Очень трудно жить с мужем, который менее способен, чем жена: он плохо принимает это, ведь он привык руководить. Мужчина не прощает женщине победы над ним. У нас с Сергеем были странные отношения…».
Тема эта неотвязно всплывает в воспоминаниях Иды Карской. Вот она заговаривает о своих парижских соседях – о Гончаровой и Ларионове, с которыми она дружила:
«Отношения между ними были довольно странные. Внешне должно было показаться, что они недолюбливали друг друга, но жить один без другого не могли… Между ними было какое-то соперничество, что-то вроде профессиональной ревности, со стороны Ларионова – совершенно определенно. Как-то мы с ним сидели в кафе, и он сказал: “Я знаю, что она гениальна… Обещай, что ты будешь заботиться о ней, когда я умру”. Но она умерла раньше. А при ее жизни кто о ком заботился – он о ней или она о нем?.. Да, когда у него покупали картины, он просил купить и ее работы. Но бывало и такое, что ее картины он выдавал за свои, и она против этого не протестовала, а, улыбаясь, говорила: “Да, да, согласна”.
Было бы неправильным утверждать, что Ларионов был человеком недоброжелательным или злым, скорее он был хитер и изворотлив, любил двойную и даже тройную игру…
Что он изменял Гончаровой, об этом говорили все. И изменял часто… В годовщину смерти Гончаровой мы вместе с Соней Делоне пришли на кладбище, а Ларионов не пошел. Соню охватил ужас от того, что на памятнике, который Ларионов установил еще при своей жизни, было три имени: Гончаровой, его и его новой жены…».
Я опечаленно слушаю хриплый голос былой обитательницы ателье («…вы тонкая и умная», – писала ей Столярова) и вспоминаю статью московских музейщиков, которые, получив из Парижа множество их работ, еще четверть века спустя (вскоре после смерти второй жены Ларионова) разгадывали, где чья картина… Вспоминаю простую и страшную историю (о завершении «двойной-тройной игры»), которую рассказал в своих «Заметках коллекционера» Никита Лобанов-Ростовский (историю, как полагает коллекционер, «безусловно, малоизвестную», рассказанную ему самому торговцем картинами И. С. Гурвичем):
«Когда в конце жизни Наталья Сергеевна (Гончарова. – Б. Н.) очень болела и крайне ослабла, она на лестнице повстречалась с Томилиной (долголетней любовью Ларионова. – Б. Н.), жившей этажом выше, Томилина толкнула Наталью Сергеевну, которая упала, что и ускорило ее кончину. После ее смерти Томилина стала Ларионовой. Эта лестница – очень крутая винтовая лестница – все еще сохраняется в том доме».
«В конце жизни…» Страшная вещь – конец жизни. Ида Карская в конце жизни, как вы заметили, часто вспоминала художника-мужа. Он умер совсем еще молодым, вскоре после войны – от рака. Она прожила после этого добрых сорок лет и стала очень известной художницей. О ее таланте, красоте и обаянии писали не только мужчины, но и женщины. Вот как описывает первую встречу с ней известная французская писательница из русской эмигрантской семьи Зоэ Ольденбург:
«Я встретила ее впервые накануне войны. У нашей общей подруги. Чудесное видение.
Как сейчас вижу ее, сидящую на кушетке, нога на ногу, высокую, худую, угловатую, в черной юбке и светлом свитере. Вижу ее продолговатое, меловой белизны лицо чуть-чуть монгольского типа, ее короткие черные волосы и большой рот с ярко-красными губами – единственное цветное пятно.
Она что-то говорила грудным, хрипловатым, странно привлекательным голосом, побыла минут пять, потом ушла. Меня поразило то, что ее красота (а она была красива) не соответствовала никаким известным канонам красоты. И в ушах еще звучал ее странный голос. Кто это такая? Ида Карская, художница».
Карская начала заниматься живописью в 1935-м (в тот год, когда погиб Поплавский) и уже через год выставила портреты в салоне Тюильри, подписав их двойной фамилией Шрайбман-Карская. Один из первых написанных ею портретов, портрет подруги-поэтессы Анны Присмановой, увидел в гостях у хозяев дома знаменитый тогда Сутин (монпарнасский гений, символ преуспеяния, символ надежды и справедливости судьбы):
«“А это чья работа?” – “Одной нашей знакомой”. – “Это женщина? Не может быть. Что она собой представляет? Она большая?” – “Скорее маленькая”. – “Хочу ее видеть. Странно, чтобы женщина могла так писать”… Сутин был для меня недосягаемой величиной, огромным авторитетом!».
Сутин согласился «следить за ее творчеством»:
«Учить Вас буду я. Не учитесь ни у кого».
Это было уже в войну или перед самой войной. Во время оккупации левые друзья Сергея (в первую очередь знаменитый Полан) прятали его семью где-то в Эро, потом в Дордони. В годы войны умерла под Парижем от туберкулеза сестра Дина, оставив двух маленьких сыновей на отца – графа Николая Татищева, сгорела в печи нацистского крематория сестра Бетти, умер любимый учитель Сутин…
Вернувшись в Париж в 1944-м, Ида вошла в компанию левой французской элиты, а в 1946-м провела персональную выставку в галерее «Петриде» (той, где много раз выставляли их друга Терешковича). Цикл своих картин эта ученица Сутина назвала «Портреты мяса». Известный монпарнасский романист Франсис Карко написал предисловие к ее каталогу…
Открылась в Париже и посмертная выставка Сутина:
«Меня звали, я боялась идти, боялась, что не понравится, – говорит голос Иды. – И все же пошла и – начала плакать перед его картинами. Этот его неимоверный белый цвет (он и сейчас сохраняется), эти его руки – всегда как цветы. Невероятно хорошо! Его лица, его натюрморты… Его пейзажи – исковерканные…».
Выставки Иды Карской были после войны регулярными. Она оказалась более «авангардной» художницей, чем все ее учителя, чем все художники их круга. Своим циклам абстрактных композиций она давала интригующие и почти понятные названия – «20 необходимых игр и 40 напрасных жестов» (1949), «Новые необходимые игры и напрасные жесты» (1950). В картины включены были теперь проволока, листья, древесная кора, какие-то обломки кукол, огрызки, лепнина, разнообразные трехмерные объекты – все шло в дело.
В 1950 году умер от рака сорокавосьмилетний Сергей Карский. Впрочем, жизнь продолжалась, хотя, может, без прежних игр и жестов: выставки назывались «Письма без ответа» (1955), «Похвала малым формам и бумажные зеркала» (1957), «Серая повседневность» (1959), «Гости полуночи» (1965), «Знакомые-незнакомые» (1967)… Прошли выставки в Нью-Йорке, Риме, Мюнхене, Турине… Смотрели, иногда покупали, еще чаще писали о ней. Писали те, кто разобрался в ее картинах и проволоках:
«Основное различие между Рублевым и Карской в том, что через шесть столетий после него она не нуждается в иконологии. Перед ней нет какого-либо совершенного образа, и она не может удовольствоваться никаким символом.
…Серое для Карской – это промежуточное состояние между белым и черным до их разделения, хаос, полный возможностей… Она сказала мне однажды о тумане: “Все серо, и вдруг вы видите, как появляется ветка или лист”» (англичанин К. Уайт).
Французские искусствоведы писали о Карской еще красочнее, проявляя недюжинное знание русской истории и географии:
«Карская: песня, поток, стая всадников, примчавшаяся с Украины, богоносная идея… Приходите к ней, чтобы совершить путешествие в сердце истории, она рассказывает о караванах, королях, Париже, голубых глазах пьяного казака – друга Аполлинера».
Эта вольная фантазия подписана Фр. Росифом, но бывали и еще похлеще.
В 1954 году Ида Карская получила приз города Парижа за настенный ковер, сделанный по ее рисунку в Обюсоне. Она готовила картоны для ковров, а иногда и сама ткала ковры.
Потом вышла в свет ее серия кукол-манекенов. Вообще, за послевоенные четверть века она много чего напридумывала. Ее выставка в 1972 году так и называлась – «Карская – 25 лет изобретений». Потом были и еще выставки, и еще. В 1989 году она изготовила свой последний, предсмертный цикл – куклы в гробах. Он назывался торжественно – «Семь саркофагов». Ей было уже совсем плохо: рак добрался и до нее, правда, почти на сорок лет позже, чем до ее бедного мужа.
В ее последних «саркофагах», этих картонных гробиках с усопшими куклами, еще теплилась улыбка, хотя и горькая. Я видел один из этих гробиков в квартире ее сына (в ателье, где столько музыки и экзотического хлама, он его благоразумно не оставил). Улыбка слышна и в звуковой записи художницы.
Ее подруга, писательница Зоэ Ольденбург (она узнала Карскую ближе, когда они вместе расписывали платки и шарфы для денег в начале войны), писала о ней так:
«То, что называют успехом, или известностью, или, если хотите, славой – какие еще слова можно придумать? – кажется мелким или неподходящим, когда говоришь о Карской, – ее работы прокладывали себе путь как бы независимо от нее. Выставленные в галереях в Париже, в других странах, даже в Америке, они постепенно появлялись на стендах музеев, украшали стены ратуш, их влияние ощущалось в росписях тканей и форме предметов повседневного обихода.
Надо видеть эти огромные полотнища, эти дюжины квадратных метров волн, солнца, облаков, стрел (или птиц?) – где гигантские гребни нависают над вами и вот-вот на вас обрушатся (подобно волне Хокусаи). Жесткая пластмассовая основа, на которой переплетаются, смешиваются самые разные материалы: веревки, канаты, кожа, шелк, нитки, клочья шерсти, проволока, бахрома или кружева, – и все становится непосредственным языком жизни, криком об избытке жизни».
В своем рассказе, записанном на пленку, восьмидесятилетняя Ида Карская сказала напоследок, чем было для нее творчество:
«Первым долгом – это искренность и полная свобода, чтобы узнать себя. А главное – сомневаться… Как только что-то становится легким – в любом, не только писательском или художническом деле, – сразу нужно бросать и искать в другом направлении. Я в живописи перепробовала все. Я ведь не гений – я рабочий, и знаю, что несу ответственность за то, под чем моя подпись. Я никому не подражаю, и если бы представилась возможность все начать с начала, я делала бы то же, что и прежде. То есть, может быть, все было бы совсем другим… но поиск был бы таким же.
И все же сомнение – это не самоцель. Искусство – это открытие для себя своего собственного “я”. Добиваюсь ли я в своих работах какого-то уровня или стремлюсь все разрушить и построить все заново, – я это не знаю. Каждый раз я разрушаю и строю заново. И это – результат сомнения».
А потом, лежа под своими «саркофагами», старая художница, пережившая и мужа, и сестер, и любимых друзей, спокойно простилась с жизнью:
«Некоторые очень боятся смерти, самого процесса умирания. Я ее не боюсь. Мне только грустно за мои картины, но и то – какое это имеет значение. Ведь мои отношения с искусством тоже изменятся. Исчезает ли что-нибудь абсолютно?
…Я ухожу, так ничего и не зная – не разрешив ни вопроса о смерти, ни вопроса о смысле жизни. Я поняла только одно: делать на Земле надо то, что любишь, и надо торопиться».
Умолк голос старой художницы… Ее сын нажал кнопку магнитофона. Мне некуда было торопиться, хотелось слушать еще и еще.
– Я Вам дам текст, – сказал сын художницы.
Он тоже куда-то торопился – сочинять свою непостижимую суперавангардную музыку, заниматься своей наукой, пировать с друзьями…
Перебирая дома листы с расшифровкой, я перечитал удивительно нежные воспоминания художницы о Сутине и любившем обеих сестер Шрайбман Борисе Поплавском, который так и не стал художником, а ведь так любил живопись: «Он… многое любил в живописи, много говорил и писал о ней. С каким чутьем эстета он, бывало, смаковал фрагмент – только фрагмент! – какого-нибудь холста. “Вот в этой картине этот кусочек очень красивый”».
В начале 30-х и Поплавскому, и всем молодым левакам из «незамеченного поколения» привалила удача: у них появился свой журнал, да еще какой! «Толстый журнал» молодого авангарда, на прекрасной бумаге, с иллюстрациями, с вклейками, с великолепным художественным отделом. Поэт Николай Оцуп уговорил милую русскую женщину с хорошей итальянской фамилией, и она дала денег на издание журнала. Здесь печатались те, кому сроду было бы не пробиться ни в один эмигрантский журнал. Пошла в ход проза Сергея Шаршуна, даже его «листовки» – все эти «клапаны», его роман о Долголикове, интимная проза, написанная для себя. Проза эта имела успех у ценителей, ее хвалил сановный критик Адамович. Конечно, все замечали, что автор тащит на свои страницы все, что придет в голову, не отделяя пустые фразы от остроумных афоризмов и нежных монологов, но делать было нечего: сюрреалист Шаршун был верен традиции «автоматического письма». Именно в 30-е годы Шаршун стал известен как прозаик. Он меньше занимался в те годы живописью. Да и то сказать – выжить в эти годы экономического кризиса было нелегко.
Высокую оценку получили и напечатанные в «Числах» главы из первого романа Бориса Поплавского (в ту пору уже признанного поэта) – «Аполлон Безобразов». Критики высказывали предположение, что Поплавский станет даже более известен как прозаик, чем как поэт. Редактор «Чисел» Николай Оцуп (это он назвал Поплавского «царства монпарнасского царевич») доверил Поплавскому вести в журнале критику искусства и художественную хронику. Несостоявшийся живописец, Поплавский трепетно относился к искусству: живи он дольше, он, вероятно, стал бы видным искусствоведом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.