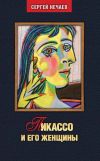Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
В этой кратчайшей характеристике бедный историк футуризма успел (еще до рокового прихода к нему гостей из ГПУ) назвать главное и в футуризме, и в любом авангардизме – отрицание. Долой авторитеты, долой умников, долой мастеров, долой знания, долой искусство, долой мир взрослых… Призыв этот не мог не прийтись по душе вчерашнему гимназисту, приехавшему из провинции (где он привольно жил в богатой семейной квартире на праздничном главном проспекте города), так что, еще и не достигнув восемнадцати лет, Илья Зданевич уже выступил с теоретическим докладом о футуризме на диспуте Союза молодежи в петербургском Театре миниатюр. Еще год спустя он излагал принципы футуризма (все те же принципы отрицания плюс разговоры о ритме жизни, о городах, о движении – кое-что от итальянских футуристов, кое-что еще откуда-то, с миру по нитке) на диспуте в Политехническом музее в Москве перед открытием ларионовской выставки «Мишень». Он имел успех, как говорится, «успех скандала», тем лучше: чем больше шуму, тем веселей, тем больше славы. Московская пресса не оставила скандал без внимания. «Русские ведомости» сообщали: «Он показал на экране Венеру Милосскую, а потом поднял высоко над головой башмак и торжественно с пафосом объявил: “Башмак прекраснее Венеры Милосской”. И стал доказывать – почему. Стал анализировать “живописную и поэтически-идеальную красоту” этого башмака…».
Газета «Столичная молва» назвала Зданевича «героем апологии американского башмака» и уточнила, что выступили «в прениях Кульбин, Кузмин, Смирнов…». Как видите, восемнадцатилетний Зданевич уже на виду. Чуть позднее он повторил свой доклад в «Бродячей собаке» – «для своих», а также для щедрых и скучающих «фармацевтов», готовых платить за веселый скандал и мирно сносящих оскорбления в свой «буржуазный» адрес. В общем, восемнадцати лет от роду Зданевич был уже признанный теоретик, идеолог. Еще полгода спустя на закрытии выставки Гончаровой в Москве юный Зданевич выступил уже как творец нового направления – «всечества». Доклад его призывал отказаться от футуризма и двинуться в направлении всех без исключения видов искусства из всех времен и стран – всего, всего, всего… Видимо, так и не дозревший Бенедикт Лившиц в своем «Полутораглазом стрельце» несколько иронически описывал открытие, сделанное юным выпускником тифлисской гимназии: «Сущность “всечества” была исключительно проста: все эпохи, все течения в искусстве объявлялись равноценными, поскольку каждое из них способно служить источником вдохновения для победивших время и пространство “всеков”. Эклектизм, возведенный в канон, – такова была Америка, открытая Зданевичем».
Автором «всечества» считают также изобретательного Ларионова, а разработке этой теории горячо посвятил себя его друг, молодой неопримитивист Михаил Ле Дантю, который писал: «…Всечество не теория, не направление: это естественный подход к искусству с точки зрения его самоценности и знания достоинств мастерства».
«Всечество» было далеко не единственной художественной новинкой. Поскольку отныне были отвергнуты все каноны и было «все дозволено», течения появлялись в столичных и провинциальных городах, как грибы после дождя. Были и «ничевоки», и «пуписты», а после 20-го года еще и «фуисты» с Перелешиным. Шли споры о том, кто первым сказал «а» и кто сказал «б». К примеру, Б. Лившиц доказывает, что это русский футурист Якулов рассказал Роберу Делоне про симультанизм, о котором потом и докладывал в «Собаке» Смирнов. Маринетти, читавший по приглашению русских лекции в Петербурге, не показался хозяевам первооткрывателем, но от родства с итальянскими футуристами трудно было совсем уж отречься.
О доставшемся нам от тех годов в наследие новом всевластии «новаторства» или просто моды вполне внятно написал в начале 30-х годов французский поэт Поль Валери, которого многие искусствоведы (в их числе петербуржец Михаил Герман) считают едва ли не «лучшим из писавших об искусстве авторов XX века»: «Забота о долговечности произведений оскудевала, уступая в умах стремлению изумлять; искусство обречено было развиваться лихорадочными скачками. Родился новый автоматизм новаторства. Оно стало властительным – как прежде традиция. Наконец, мода, иными словами, учащенная трансформация вкусов потребителя заменила своей органической неустойчивостью медленное вызревание стилей, школ, великих имен».
Уже в наши дни о тех же «лихорадочных скачках», о «десакрализации» искусства и сакрализации скандалов, о художниках «послеквадратной» эпохи и самом авторе «Черного квадрата» (до времени загнанного рачительным Хозяином в его «супрематический гроб») написала известная московская писательница Татьяна Толстая. Не откажу себе в удовольствии привести хоть небольшую цитату из ее темпераментного монолога «Квадрат»:
«…художник, помолившийся на квадрат, заглянувший в черную дыру и не отшатнувшийся в ужасе, не верит музам и ангелам; у него свои, черные ангелы с короткими металлическими крыльями, прагматичные и самодовольные господа, знающие, почем земная слава и как захватить ее самые плотные, многослойные куски. Ремесло не нужно, нужна голова; вдохновение не нужно, нужен расчет. Люди любят новое – надо придумать новое, люди любят возмущаться – надо их возмутить, люди равнодушны – надо их эпатировать: подсунуть под нос вонючее, оскорбительное, коробящее. Если ударить человека палкой по спине – он обернется; тут-то и надо плюнуть ему в лицо, а потом непременно взять за это деньги, иначе это не искусство, если же человек возмущенно завопит, то надо объявить его идиотом и пояснить, что искусство заключается в сообщении о том, что искусство умерло. Бог умер, Бог никогда не рождался, Бога надо потоптать, Бог вас ненавидит, Бог – слепой идиот, Бог – это торгаш, Бог – это дьявол. Искусство умерло, вы тоже, ха-ха, платите деньги, вот вам за них кусок дерьма, это – настоящее, это – темное, плотное, здешнее, держите крепче… Жизнь есть смерть, смерть здесь, смерть сразу…».
Ну, и еще кое-что – о грустных мелочах нашей истории. Если, как считают некоторые авторы, итальянские футуристы расчистили путь своим фашистам, отчего не предположить, что боевитые русские «отрицатели всего на свете» расчищали путь национал-большевикам. («Моя революция», – говорил Маяковский.) Впрочем, справедливости ради надо напомнить, что поначалу русские футуристы ставили себя «вне идеологии». До самого 1917 года их художественный бунт был как бы вполне аполитичным. Это уже позднее, после революции, они стали отождествлять свои цели с большевистским политическим переворотом. Отождествление это было «канонизировано» Левым Фронтом Осипа Брика лишь в 1922 году, а в «Первом журнале футуристов» (в 1914 году) утверждалось еще, что «немыслимо для искусства писать на своем знамени идеалы рабочих масс». Но кто ж полезет в подшивки ловить на слове столь авторитетных идеологов, как О. Брик из ЧК.
Вернемся однако в предвоенный 1913 год. Зданевич публикует в тот год вместе с Ларионовым «Да-манифест», (который, как считают, предвосхитил манифесты французских дадаистов), а также манифест о глубоком смысле футуристической раскраски физиономии под титулом «Почему мы раскрашиваемся?». В тот же год Зданевич публикует книжку о Гончаровой и Ларионове (под псевдонимом Эли Эганбюри, передающим прочтение его русской фамилии как набора латинских букв), а приехав на каникулы в Тифлис из Петербурга и Москвы, где окружение Ларионова бредит вывесками и «вывесочниками», братья Зданевичи и Ле Дантю совершают самое крупное открытие своей жизни (или своих жизней – одно на троих): они обнаруживают у себя под носом вывески маляра Нико Пиросманишвили, знакомятся с самим вывесочником, привозят в Москву его творения и показывают их на выставке «Мишень». Об этом их открытии Зданевич будет писать еще и через тридцать и через шестьдесят лет… А пока он читает пылкие доклады, учит «всечеству» доверчивую молодежь и хоронит футуризм. Чтоб ознакомить вас с развязным стилем его искусствоведческой риторики, приведу хотя бы небольшой отрывок из доклада Зданевича на обширной выставке произведений Натальи Гончаровой в Петербурге:
«Наскучило сечь полушария ваших мозгов. Мы вновь в далях, наш полет вновь вырезает узоры на голубой бумаге неба. Держитесь за руку – вверх, вверх, спешите – догоним перевоплощения и открытия, к которым пришло то течение русского искусства, где Гончарова. Исступленно, не покладая рук, готовили мастера смерть последним козням Земли и расцвет ремеслу. Ныне ясно – они победители.
Мой доклад будет вам путеводителем по выставке Гончаровой. Он умеет быть чинным, взбалмошен и каскады слов в ваши уши. Но у меня особый взгляд на воспитание детей.
Мой доклад да будет вам путеводителем по выставке Гончаровой. Но вы пришли с улицы, полной криками, всползающими по водосточным трубам на крыши и оттуда харкающими на нас. Вы пришли с улицы, заволоченной ненавистью и грызней, подвластной скопищу бездарных мастеров, грязному оплоту, сгрудившемуся вокруг нашей добычи. И прежде, чем быть хозяином, я поговорю со стадом гиен. Кинематографическим фирмам я могу предложить занятный сценарий. Его название – “История падшего мущины”. Наш герой, сын экспансивного итальянца, который, отчасти желая прославиться, отчасти искренне недовольный существующим строем, переходит в ряды революционеров. Сын следует за отцом, принимает участие в конспиративных собраниях и пропаганде, деятельно готовя бунт. Его сотрудниками была группа молодежи, в числе которой была и Наталья Гончарова. Встал праздник, и ленты крови, словно серпантин, обмотали улицы и дома…» и т. д. и т. п. Это история футуризма, но «теперь говорим во всеуслышание – футуризм мертв и упразднен… Холсты Гончаровой одно из воплощений “всечества”, сменившего футуризм» – и т. д. и т. п.
Девятнадцатилетний докладчик делает обзор выставки, публика рукоплещет. Или скучает – это неважно. Или скандалит – это прекрасно. Скандал – это прекрасно, это залог успеха, это победа рекламы.
Но здесь не только веселый треп для широкой публики. Здесь есть кое-что посерьезней. Тот, кто прочел предисловие к каталогу этой знаменитой выставки Н. С. Гончаровой, тот уловил миссионерские претензии всей ларионовской группы. Москва – Третий Рим? Нет, Москва – первый Париж. Парижу больше нечего нам сказать, Москва будет учить мир. Мир уже обернулся к Востоку. Но не через Париж получить нам эти облинявшие в пути уроки, мы сами ближе к Парижу… Да вот вам текст, предисловие Гончаровой: «Мною пройдено все, что мог дать Запад до настоящего времени, – а также все, что, идя от Запада, создала моя родина. Теперь я отряхаю прах от ног своих и удаляюсь от Запада, считая его нивелирующее значение весьма мелким и незначительным, мой путь к первоисточнику всех искусств – к Востоку».
Не слабо? Но кто писал? Труженица Гончарова?.. Сомнительно, чтоб с таким размахом, с таким пафосом. (Так, «с темной силой проповеднического пафоса» и с претензией на всезнание, на апостолическое пророчество мог, пожалуй, написать «харизматический вождь» Малевич, да только где он был тогда, в 1913-м. Его еще «не стояло» у вершины. По надменному наблюдению будущего комиссара искусств Н. Пунина, он в те годы «еще нижним чином ходил на твердыни старого мира», и это позже, ближе к берлинской славе и незадолго перед московской тюрьмой, стал он говорить «Я – Начало всего…») Так кто же накропал такой текст милой талантливой женщине? Современные искусствоведы высказывают подозрение, что накропал эти гордые фразы без удержу в то время писавший манифесты девятнадцатилетний студент-прогульщик, вчерашний тифлисский гимназист Эли Эганбюри, то бишь Илья Зданевич. Он привез сюда, в Питер (а заодно и им туда, на Запад, которого он еще не видел), всю мудрость Востока (тоже не изученного за недостатком времени – все уроки, уроки, вернисажи, споры)… И вот он вкладывает в уста этой милой исступленно трудолюбивой женщины весть о том, что стряслось в сфере искусств за те годы, что он сдавал и пересдавал в Тифлисе экзамены по алгебре и латыни: «Я убеждена, что современное русское искусство идет таким темпом и поднялось на такую высоту, что в недалеком будущем будет играть очень выдающуюся роль в мировой жизни. Современные западные идеи (главным образом Франции, о других не приходится говорить) уже не могут нам оказать никакой пользы. И недалеко то время, когда Запад явно будет учиться у нас».
Ища истоки всей этой не вполне гончаровской риторики, нынешние искусствоведы отыскали в архиве Русского музея восторженное письмо, в ту пору написанное Зданевичем Наталье Гончаровой, уезжающей на Запад:
«От души поздравляю Вас. Великий поток искусства ныне ринется с Востока на Запад, и варвары идут вновь покорять. Как хорошо, что вместо Лео на Бакста (дался им этот Бакст, и школяру Шагалу он, бедняжка, не помог, а только подсказал, куда вести свой хасидский, тоже «русский» Восток. – Б. Н.) послом России станете Вы, верная Востоку (“молися Востоку, будь верен пророку”). Флейты кричат на заре вместе с павлинами (как ишаки в Авлабаре. – Б. Н.), и войска выступают в поход. Я, остающийся дома, приветствую их и, стоя на кровле, гляжу, как скрываются люди. Но не забудьте вернуться, да не прельстит вас лагерь врагов. Не оставайтесь в стане побежденных и людей Запада. Или Восток перестанет посылать лучи».
А ведь неплохо. Вчерашний школьник… Тех, кто ищет художественное наследие Зданевича, прямым ходом отправляйте: СР ГРМ, ф. 177, ед. хр. 57, л. 4.
Конечно, это не вполне оригинально. Как отмечают грамотные историки русского футуризма (в частности, Е. Баснер), и «полутораглазый стрелец» бедняги Лившица глядел в том же направлении, «и только полглаза скосив на Запад». Но Лившиц не остался «в стане побежденных», как остались Гончарова, сам Зданевич и более поздние певцы Чингисхана во главе с Трубецким и шустрым Сувчинским, так что он пострадал за всех. Но все это грустное – на потом, а пока – шумный тыловой Петроград, весна открытия ничевоческих и лучистских Америк… Бурная столичная жизнь не замирает ни днем, ни ночью – собрания, дискуссии, выставки, публикации, ночи в «Бродячей собаке», где поощряемые Кульбиным футуристы пользуются все большим успехом, а также в салоне Чудовских (на Александровской, 5), где царит красавица-художница Анна Зельманова, и в салоне Ивана Пуни, где восседает загадочная хозяйка дома Ксана Богуславская, в которую во Франции, поговаривают, был влюблен чуть не сам Пуанкаре. Тот же Бенедикт Лившиц вспоминает: «Будетляне имели свой собственный “салон”… Я говорю о квартире четы Пуни… перенесших в мансарду на Гатчинской жизнерадостный и вольный дух Монмартра. Это была петербургская разновидность дома Экстер, только “богемнее”… Остроумная, полная энергии, внешне обаятельная Ксана Пуни очень скоро сумела оказаться центром, к которому тяготели влачившие довольно неуютное существование будетляне».
Как видите, русские футуристы придумали себе хоть и странное, а также несколько претенциозное, все же почти по-русски звучащее название – будетляне, художники будущего. Те, кто был подальновиднее и тяготел к более марксистской или «производственной» терминологии, говорили «лучизм» и «будущники» (знали бы они, бедняги, что припасло для них будущее. Но молодые озорники, увы, не обладали колдовским чутьем Ахматовой или Блока).
Позднее из среды партийных пропагандистов, обожавших боевые, военные термины (фронт работ, наступление, арьергард, атаки, тыл, дезертир, тактический центр), вышел звучный искусствоведческий термин «авангард».
Хозяина упомянутого выше петербургского дома, молодого Ивана Пуни, справочники называют «одним из основоположников петербургского футуризма». Он окончил военную школу, но уже двадцати лет от роду выставлялся в Петербурге. Чуть позднее он организовал художественную выставку «Трамвай В», а потом и «Последнюю футуристическую выставку картин 0,10». Учился он у Жюльена в Париже, а вернувшись в Петроград, экспериментировал с объемными супрематическими формами, делал коллажи, потом работал в шагаловской художественной школе в Витебске. Позднее, впрочем, как и сам Шагал, бежал за границу – хотя и с меньшими удобствами: ушел с женой по льду Финского залива на отцовскую дачу в Финляндии, откуда в 1920 году добрался в Берлин. Впереди у него было еще добрых тридцать пять лет жизни, его берлинский триумф, ежегодные выставки в Тюильри, дружба с Леже, Марке, Северини, Озанфаном, Делоне… Позднее он отошел от беспредметной живописи, писал импрессионистские пейзажи, был награжден орденом Почетного легиона и умер совсем еще не старым у себя в монпарнасской мастерской на улице Нотр-Дам-де-Шан (дом № 86).
Что касается Ильи Зданевича, то он все годы Великой войны оставался в гуще авангардной художественной деятельности Петрограда и Москвы. Вместе с Асеевым, Пастернаком и другими поэтами он составлял манифест группы «Центрифуга», потом вместе со своим другом Михаилом Ле Дантю и Верой Ермолаевой организовал группу «Бескровное убийство» и выпустил первый номер одноименного журнала.
В 1917 году Зданевич в конце концов кончает университет, служит недолгое время в секретариате Керенского, но потом вместе с братом возвращается в родной Тифлис, на Головинский проспект (ныне Руставели). Это было золотое время в жизни грузинской столицы. Еще светило солнце над парадным «европейским» и экзотическим «азиатским» городом Тифлисом, ярко пестрели фрукты и зелень на рынках, алела полузабытая питерскими беженцами баранина, дразнил обоняние запах жареного мяса, загадочно курились серные бани, одуряюще пахло от духанов и хашных, от всяческих харчевен и винных подвалов, наперебой зазывали публику зурна за мостом через Куру, поэт-заумник Крученых в кабаке на Головинском и косноязычный колдун Гурджиев, создававший в ту пору «Институт гармонического развития». Гортанно читали в застольях свои музыкальные стихи поэты-символисты из «Голубых рогов». Мужчины были элегантны и благородны, а женщины – точно райские пери.
И впрямь ведь – после холода, голода и насилия, воцарившихся в русских столицах с войной, революцией и путчем, Тифлис был традиционным и все же нежданным раем. Здесь было спокойно. У власти были меньшевики, Грузия была объявлена независимой, а порядок в городе поддерживали сперва серьезные и спокойные немцы, а потом еще более спокойные англичане.
Илья Зданевич, вернувшись осенью в Тифлис из археологической экспедиции по экзотической пустыне турецкой Грузии (позднее он подробно описал это путешествие в «Письмах Филиппу Прайсу»), с новыми силами ринулся в оргработу и в творчество. Если верить его письмам, приходилось также подрабатывать спекуляцией, чтоб жить прилично, ходить в кабаки и ни в чем не нуждаться.
Извечный приют свободы, жаркий Тифлис, уже был тогда отчасти знаком с последними достижениями мировой культуры – с футуризмом и заумной поэзией: лекции об их неизбежности и прелести читали здесь, вдалеке от фронтов войны, и рослый тыловой воин Маяковский, и Кульбин, и летчик Каменский, и Бурлюк, и сам Зданевич. Теперь у тифлисцев появилась возможность ближе познакомиться со зрелыми плодами всяческой и «всеческой» культуры. Кирилл Зданевич выставлял здесь свои картины, Илья Зданевич и красивые дамы-поэтессы, вроде Нимфы Белкон-Любомирской, жены Городецкого (ее звали, конечно, сильно попроще – Анна Иванна, так что Нимфу пришлось почерпнуть из мифологии, а сложный для простолюдина французский эпитет Бел-кон впрямую намекал, вероятно, на несравненную красоту ее сокрытого от публики заветного, а может и причинного, местечка), Татьяна Вечорка (она же Толстая) и прочие писали заумные, не рассчитанные на понимание стихи, и лишь когда дамы срывались на какие-нибудь традиционные «стансы» и «экспромты», видно было, что с поэзией у них пока туго и период ученичества затянулся. Впрочем, понимать поэзию было заведомо необязательно. Один из самых пылких адептов футуризма – тифлисский поэт Кара-Дервиш (он же Акоп Ганджан) и вовсе писал по-армянски, и, хотя никто его не понимал, все были к нему ласковы. Футурист-летчик Василий Каменский (тоже, конечно, не знавший армянского) сообщал, что у Кара-Дервиша «светлая, талантливая голова», а видный деятель авангарда Игорь Терентьев (поэт, сочинивший незабвенные слова «крюдь» и «контранит»), видный режиссер, теоретик искусства и, конечно, художник (кто ж тогда был не художник?), прославил Грузию и Кара-Дервиша в очень милом четверостишии:
Слава стране,
Где ходит Кара-Дервиш,
Похожий на Екатерину Вторую,
Где я живу и ворую.
Понятно, что выше всего в непонятном, иноязычном авангардисте Кара-Дервише собратья ценили его искреннюю веру в заумь. Его вера помогала творить. Мне довелось наблюдать этот пиетет к чужой убежденности лет сорок спустя в среде московских авангардистов. «Он по-настоящему верит в это! – говорили у нас об одном ушлом хитреце. – Остальные притворяются». Так вот, симпатичный Кара-Дервиш «по-настоящему верил». Недаром о нем так восхищенно писал красавец-поэт Паоло Яшвили: «Человек – он оправдание. Как поэт – он неведом. Кара-Дервиш! Позвольте представить! Уолт Уитмен… В Кара-Дервиша верит поэт Паоло Яшвили».
Позднее красавца Паоло Яшвили приказал расстрелять рябой тифлисский бандит-коротышка Джугашвили с блатной кличкой Коба. Заодно он велел убить Терентьева и Ермолаеву, с которыми сотрудничал Зданевич, но всем этим молодым сотрудникам Зданевича еще оставалось тогда лет двадцать жизни и можно было не думать о будущем. Двадцать лет надо прожить, и в недалеком 1923-м великий режиссер Игорь Герасимович Терентьев еще ставил ревдрамы и возглавлял в Институте художественной культуры (Инхук) отдел зауми, о чем так оповещал читателей своих заумных стихов: «На днях под названием “Фонологический отдел исследовательского института высших художественных знаний” эта работа должна быть утверждена в Академическом центре… Части Института объединены платформой “беспредметности” и составляют федерацию 41° – супрематизм (Малевич) – “Зорвед” (Матюшин)».
Сообщение это извлечено из собрания сочинений Терентьева, вышедших по-итальянски в Болонье, а упомянутая федерация «41°» как раз и была создана совместно Терентьевым и Зданевичем в мирном меньшевистском Тифлисе 1917 года. Одновременно было создано издательство с таким же названием (в честь 41-й параллели, пересекающей мирный Тифлис).
Это были, наверное, самые плодотворные годы в долгой жизни деятельного Ильи Зданевича. Он пишет тогда сразу пять вполне заумных драм, в которых, по сообщению одного влиятельного автора, царит «игровое пространство с перевернутыми связями, смех сам по себе». Драмы назывались «АслааблИчья пИтерка дЕйстф» (видимо, «Обличья осла в пяти действиях»), «Янко крУль албАскай», «асЕл напракАт», «Остраф пАсхи», «згА Якабы» и «лидантЮ фАрам» (как видите, «смех сам по себе» достигнут был несложным коверканьем русской речи, которое, вероятно, нетрудно было подслушать в коверкавшей главный язык империи тифлисской базарной толпе). Произведения Зданевича имеют, по заверению ученого критика, «довольно сложную структуру», объяснить смысл коей брался, однако, в начале 20-х годов знаменитый Виктор Шкловский:
«Илья Зданевич обратил все свое огромное дарование в художественный эксперимент. Это писатель для писателей. Ему удалось выяснить звуковую и звукопроизносительную стороны слова. Но заумь Зданевича – это не просто использование обессмысленного слова. Зданевич умеет возбуждать своими обессмысленными словами ореолы смысла, бессмысленное слово рождает смыслы. Типографская сторона в произведениях Зданевича – одно из любопытнейших достижений в искусстве. Зданевич пользуется набором не как средством передать слово, а как художественным материалом. Каждому писателю известно, что почерк вызывает определенные эмоции… Зданевич возвращает набору выразительность почерка и красоту каллиграфически написанного Корана. Зрительная сторона страницы дает свои эмоции, которые, вступая в связь со смысловыми, рождают новые формы».
Итак, типографский набор как метод художественного воздействия – этим прежде всего и прославился Зданевич-художник. Первый период его издательской деятельности (щедро подпитываемой перепродажей муки и других продуктов питания) как раз и относится к 1918–1920 годам и связан с работой издательства «41°», к которой он привлек столпов авангарда Игоря Терентьева и Алексея Крученых, живших в Тифлисе. Футуристы и «заумники», по свидетельству Бенедикта Лившица, склонны были в ту эпоху к сотворению кумиров и к их обожествлению. Одним из главных кумиров зауми, наряду с Велемиром Хлебниковым, был Алексей Крученых. Посетители тифлисского «Фантастического кабачка» (он был открыт осенью 1917 года Александром Корона и Юрием Дегеном и размещался в том же самом доме, где жили Зданевичи) просто обмирали от восторга, когда Крученых читал свой прославленный шедевр «Дыр бул…». Вот он, в полном объеме:
№ 1
Дыр бул щыл
убещщур
скум
вы со бу
р л зз
№ 2
Фрот фрон ыт
Не спорю влюблен
черный язык
то было и у диких
племен
№ 3
Та са мае
Ха ра бау
саем сию дуб
радуб мола
аль.
Издательство «41°» выпустило две книги Крученых, заполненных такими стихами, ну, может, чуточку послабей: «Миллиорк» и «Лакированное трико». Вдобавок издательство выпустило несколько стихотворных сборников Игоря Терентьева: «17 ерундовых орудий», «Трактат о сплошном неприличии», «Крученых – грандиозарь», «Рекорд нежности», «Факт», «Херувимы свистят».
Там все много понятнее. Ну, скажем, стихи о демобилизации:
…Топают с вокзала обнявшись водку
Льют на мостовую ХРЮДЬ…
Заверни заугол
Выпей чаю с угольками НА
Припомаженной Булке отдохни
СУТЯГА
Здравия желаем
ВЫСОКОБЛАЧИНЫГА.
Ну и конечно, издательство выпустило все названные нами выше драмы Ильи Зданевича, не пожертвовав ни одним наборно-шрифтовым открытием мастера.
Зданевич подучился набору в Товариществе кавказских типографий и теперь нередко сам оформлял книги издательства, смело экспериментировал со шрифтом, стоя над душой у опытного наборщика Адриана Тернова, а иногда даже набирал сам. Тиражи у книг были небольшие, многое делалось вручную, были вклейки и вставки с рисунками Кирилла Зданевича, Сигизмунда Валишевского, Игоря Терентьева, Ладо Гудиашвили, Натальи Гончаровой, Александра Бажбеук-Меликова, Михаила Калашникова… Легко представить себе, как жаждут нынешние библиофил, коллекционер и антиквар заполучить в свое собрание такую книгу, и нетрудно представить себе, сколько она может нынче стоить, но нас с вами интересует прежде всего тифлисская жизнь самого создателя этих книг, жизнь издателя. Это было горячее время его жизни. Лекции, совместные чтения, занятия в университете «41°», спектакли, сочинение драм, работа в издательстве и, конечно, любовь – ему ведь всего 24 года. Он был без памяти влюблен тогда в маленькую актрису маленького («миниатюр») захудалого театра, что размещался в конце Головинского проспекта, у Верийского спуска. Софья, Сонечка, Зофья или Зоща, потому что она родилась в Варшаве (поэты даже называли ее Зохна) – Софья Георгиевна Мельникова детство провела в Петербурге. Отец ее был мелкий служащий, но она все же окончила частную гимназию и еще гимназисткой брала уроки у профессионального актера, а потом и сама стала актрисой. Была она маленького росточка, и актрисой была маленькой, но в ранней юности нежно дружила с самим Мейерхольдом. Потом она служила в провинциальных театрах – в Барнауле, Тюмени, Иркутске, Томске, Могилеве… В Могилеве она и вышла замуж за актера Онуфрия Павловича, но он никак не мешал ее успехам. В Тифлисе она пела в театре миниатюр «песенки парижского гамена», а для заработка устроилась в английскую армию переводчицей. Как многие маленькие женщины, она пользовалась большим успехом у мужчин (это еще у Ильфа-Петрова было отмечено, что Эллочкин «рост льстил мужчинам»). Про историю своего знакомства со Зданевичем София Георгиевна лет шестьдесят спустя прелестно рассказала московскому театроведу и книговеду В. П. Нечаеву.
Так вот, она имела на эстраде успех у мужчин, приходили даже за кулисы, сам Крученых приходил, ужасный анархист, а может, и футурист. Катанян за ней ходил по пятам, ей все говорили: «Твой хвостик». А он даже стихи ей посвятил, будущий бриковед Катанян писал, что она – африканская женщина, значит, успел узнать про темперамент. Потом Зофью пригласили что-нибудь спеть в «Фантастическом кабачке», а она сказала, что вообще-то очень любит стихи, и прочла им Веру Инбер. Известная была уже тогда поэтесса, Сонина ровесница, позднее прославилась поэмой «Киров с нами» (Сталинская премия), и московской дворовой песенкой «Ах, у Веры, ах, у Инбер, что за плечи, что за лоб…». Сонечка прочитала им свой любимый стих «Дама в ложе». Вот тут-то и вышел на эстраду молодой человек и сказал экспромт:
О Боже, Боже,
Отчего же
Ты не уложишь?
На смерти ложе
«Даму в ложе».
Это был Илья Зданевич. Сонечка не поняла, чем ему не понравились стихи, но поняла, что «хочет познакомиться», и речь уже идет про ложе, мужчины все такие. Так начался их роман. Зданевич был очень увлечен и готов был на творческий подвиг во имя любви. Он и совершил такой подвиг. Многие знаменитые дамы, как в России, так и в прочих странах, имели обычай вести салонный альбом, куда их знакомые вписывали всякие приятные слова, комплименты, чужие или даже свои стихи, разные высказывания, делали рисунки и даже писали ноты. Обычай был еще XIX века, но в начале XX пережил реанимацию. Вот, скажем, вторая жена художника Судейкина, когда она с этим своим третьим мужем приехала в Тифлис – это как раз и было в 1919 году, – она очень интенсивно продолжала вести такой альбом, и он был ею даже подготовлен к печати, но только лет через пятьдесят, когда она уже похоронила своего четвертого мужа Игоря Стравинского, да и сама уже была, прямо скажем, не девочка. А Сонечке Мельниковой очень повезло, потому что ей не пришлось ждать пятьдесят лет и не пришлось самой хлопотать о встрече с читателем-поклонником (как Вере Стравинской-Судейкиной-Боссэ). Ее новый поклонник Илья Зданевич был издатель и оформитель, он издал у себя в крошечном издательстве «41°» для нее альбом, который так и назывался «Софии Георгиевне Мельниковой». Это малотиражное издание, очень красивое и содержательное. Там были вклейки, всяческие игры со шрифтами, заставки, разнообразные рисунки и приятные записи. Знаменитый поэт Каменский, например, написал так, вполне по-каменски:
Мычу
Ядреный вол
Лугов —
марковное жранье.
Василий Каменский,
сын океанских возможностей.
Тогда они все там были молодые, ядреные гетеросексуалы, и все похвалялись возможностями, однако и тогда не всем можно было верить. «Все мужчины – подлецы», – говаривала одна талантливая художница во времена моей первой молодости. Так вот и поэт Петр Потемкин, очень известный, тоже похвалялся, получив от Сонечки первые знаки согласия:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.