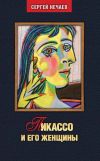Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
После свержения всех и всяческих канонов в искусстве неизмеримо выросла роль искусствоведов и критиков, которым удается на пустом месте создавать и ниспровергать репутации, обогащать и разорять творцов. Профессия искусствоведа давно стала модной (уже у Ильфа и Петрова есть бывший полицейский, ставший искусствоведом). Лично я впервые обнаружил этот взлет профессии в молодости, странствуя автостопом по городам Польши. Знакомясь в магазине с хорошенькой продавщицей, я неизменно слышал от нее, что она тут, за прилавком, временно, а вообще-то она учится на «хисторика штуки» (то есть историка искусства). Меня удивляло тогда количество этой «штуки», которой хватало на всех продавщиц Варшавы и Кракова. В России тогда «хисториков штуки» было меньше, зато существовало уникальное понятие «искусствовед в штатском». Оно было освящено пореволюционной традицией. Скажем, видный «искусствовед в штатском» О. М. Брик украшает ныне «Энциклопедию русского авангарда».
В Берлине Поплавский и Терешкович подружились с двадцатипятилетним киевлянином Минчиным. Абрам Минчин оформлял в Берлине спектакли еврейского театра и писал картины. В 1926 году он перебрался в Париж, выставлял картины в галерее Манто вместе с Виктором Бартом и Морисом Блюмом, а к 1929 году у молодого художника обострился туберкулез. Маршан Манто и коллекционер Гимпель помогли ему перебраться в Ла-Гард под Тулоном, к теплу и к морю. Там он протянул еще два года и умер в возрасте Христа от инфаркта, не кончив свой холст «Холм с красными цветами». Минчин пользовался любовью и у молодых друзей-парижан, и у прожженных торговцев картинами. Журнал «Числа» прощался с Минчиным статьей Бориса Поплавского:
«Совершенно свой мир являл он очам, целый свой Париж написал он на множестве холстов. Париж, в котором я много охотнее жил бы, чем в Париже Утрилло, условном и однообразном, хотя и безошибочно-механично-удачно-живописном. Посредством необычайно редкого соединения реализма и фантастичности Минчину удавалось писать парижские закаты или даже нереальные ночные освещения так, что ангелы, изображать которых он так любил, демоны, куклы, арлекины и клоуны сами собою рождались из сияния и движения атмосферы его картин, раньше всего и прежде всего необыкновенно реальных. Минчин, столь глубокомысленно изучавший старинных мастеров, особенно Рембрандта, Греко и Клода Лоррена, вовсе не боялся “трудных” освещений, которых так тщательно избегают иные молодые художники. Вечер парижский, с необычайной сложностью его свечений и первых уличных теней, был одной из любимых тем, а также интерьеры, освещенные сиянием облаков и призрачным светом настольной лампы. Все живет в этих интерьерах. Минчин вообще не признавал существования неодушевленных вещей, стулья, лампы, куклы и букеты – все у него движущееся, живое, дышащее, кажется, что он освобождал всех скованных в вещах духов и ангелов.

Еще одна «нюшка» Пинхуса Кременя
От Минчина остался огромный цветовой мир, где не только редкостное и высокое дарование, но исключительная личность, столько поработавшая, чтобы раскрыть что-то, невидимое мертвым нашим очам. Раскрывая свой мир, Минчин раскрыл себя, и еще немало времени пройдет, пока мы поймем, как много мы его глазами увидели…».

Молодой Кремень
В Берлине произошло также знакомство Терешковича, Поплавского и Минчина с молодым выходцем из Польши, живописцем Морисом Блюмом (иногда он подписывал свои полотна Блом). Терешкович надолго уехал в Дрезден, где жил тогда Блюм, а в 1924 году Блюм переехал в Париж и поселился вместе с Терешковичем на Монпарнасе. Все они дружили с Пуни, и часто их называют ныне «кругом Пуни», хотя могли бы назвать и «кругом Поплавского». Блюм писал натюрморты, городские пейзажи, позднее также портреты. В Париже у Блюма прошли совместные с Минчиным, Бартом, Кременем и прочими «леваками» выставки в галереях Манто, Зака, Владимира Гиршмана, в кафе «Ротонда». Позднее Морис Блюм отвечал за оформление журнала «Числа», в котором Оцуп пригрел всю художественную молодежь. Поплавский любил ходить с Блюмом в Лувр и на выставки. Об этом тоже остались записи в дневнике Поплавского.
Блюм пережил своего друга Бориса Поплавского на добрых сорок лет. Доживал он свой век в пригородном Кламаре.
Когда Терешкович и Поплавский вернулись из Берлина в Париж, деятельность Союза русских художников, группы «Через» и журнала «Удар» была в полном разгаре. Терешкович участвовал вместе со всеми в выставке группы «Удар» в галерее «Ля Ликорн», потом вместе с Бартом и Ланским – в галерее Кармин, вместе с Бартом, Ланским, Челищевым и Шагалом – в галерее Анри и еще, и еще…
Парижский старожил, художник Виктор Барт, был родом с Северного Кавказа, учился в московском училище, дружил с Ларионовым, Гончаровой, Бурлюком и Маяковским, был одним из организаторов выставок «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и «Мишень». В общем, он был истинный «основоположник», попавший ныне во все справочники по русскому авангарду.
Во Францию он угодил в войну, с Русским экспедиционным корпусом, а демобилизовавшись в 1918 году, приехал в Париж и поселился в одном доме с Ларионовым и Гончаровой. Был он художник-авангардист, активный участник всех левых и просоветских акций в Париже, член комитета группы «Через», пылкий «советизан», но с отъездом в Советскую Россию отчего-то медлил: уехал только в неподходящем 1936 году. Впрочем, он и до этого тесно связан был с московскими художниками. Как ни странно, вернувшись в Россию, в концлагерь он не угодил, и даже разрешено было ему поселиться в Москве, проиллюстрировать три-четыре детские книжки. Зато уж потом-то, после войны (обвиненный в «модернизме» и «формализме»), он до конца жизни вынужден был клепать «учебные пособия» для школьных магазинов. Ни живопись его, ни гравюры, ни графика в советское дозволенное искусство не вписались, хотя он и очень старался.
В выставках, которые были устроены в Париже Ромовым, Зданевичем, а также их группами «Удар» и «Через», принимала в 20-е годы участие вся компания левой молодежи – и Блюм (или Блонд), и Терешкович, и Ланской, и Воловик, и Карский, и Минчин, и вполне созревшие Пуни, Сутин, Кремень, Липшиц, Цадкин, Грановский.
Большим событием для художественной Франции стала Международная выставка декоративных искусств и современной художественной промышленности, проходившая в Париже от весны до осени 1925 года. Москва этой выставке придавала большое значение. В советском павильоне, построенном по проекту знаменитого Мельникова, разместили четыре с половиной тысячи экспонатов, по большей части демонстрировавших торжество конструктивизма. Среди участников и лауреатов советского павильона, забравшего девять высших призов и пятьдесят девять золотых медалей, было немало русских эмигрантов, вроде Ларионова, Лиссима, Чехонина и поддержанного Москвой Анненкова (после этой выставки, однако, не вернувшегося в Москву). В организации и оформлении советского павильона приняли активное участие Зданевич, Фотинский, Барт и в который уж раз специально прибывший в Париж (по дороге в Америку) Маяковский.
В мои школьные годы в нашей московской школе на Первой Мещанской нам объясняли, что поэт и художник Маяковский так часто ездил за границу, чтобы не выдыхалась его страстная ненависть к капитализму. В России капитализма не осталось, ненависть Маяковского стала иссякать, и тогда он стал ездить без конца за рубеж, чтоб налиться до краев новой ненавистью при виде гнусных буржуазных столиц и буржуев. Однако создается впечатление, что в Париже заправка ненавистью шла медленно: Маяковскому очень нравился Париж. Хотя он регулярно (и с опаской) писал Брикам в Москву, что в Париже отвратительно, скучно, невыносимо, что он не чает вернуться, однако сидел он здесь подолгу и без дела. И в Америке он сидел очень долго, без труда зачал дочку от русской американки, но с трудом, и не вполне убедительно, оживлял былую злобу к отсталому «вчерашнему Конотопу»:
Горы злобы
аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь,
Оседая,
влезает злоба.
Или вот еще:
Выйдь,
окно разломай, —
а бритвы раздай
для жирных горл…
Эту кровавую акцию Маяковский рекомендует американской девушке («май герл»), потому что ей приходится самой себе зарабатывать на хлеб и все прочее. Это, конечно, уже больше похоже на прежнего, все ненавидящего Маяковского, но в Париже ему и столько-то злобы выдать не удавалось.
Когда сестра Лили Брик (жена Луи Арагона) Эльза Триоле решила в конце 30-х годов написать хоть какие ни то воспоминания о Маяковском, писать уже ни о чем нельзя было, и из написанных ею трех-четырех страничек про все визиты Маяковского в Париж Эльза целую страницу уделила вышеупомянутой Международной выставке и краже денег у Маяковского – все в том же 1925-м.
Маяковский заезжал в тот раз в Париж по дороге в США, привез кучу денег, они вдвоем с Эльзой положили эти деньги в банк, и вдруг «для каких-то своих целей», сообщает Эльза, за несколько дней до своего кругосветного путешествия Маяковский неожиданно взял из банка все свои деньги. Зачем? Эльза целей этих как бы не знает и денег этих не видела. Утром они, как обычно, собрались на завтрак в ресторан (из своей гостинички «Истрия», где оба жили). Маяковский надел в присутствии Эльзы пиджак, похлопал себя по карману и объявил, что у него украли все деньги – двадцать пять тысяч франков. Дальше в мемуарах подробное описание некоего якобы всем известного вора (которого так никогда и не поймали), который эти деньги наверняка украл. В письме Лиле Маяковский тоже подробно рассказывает, как он вышел на двадцать секунд в туалет, оставил дверь открытой, а когда вернулся, уже не было ни вора (дескать, специально снимавшего комнату напротив), ни денег, ни документов (все бумажники, пишет он, украдены).
У Эльзы про документы ничего не сказано. Начинаются странные несовпадения в легенде. Первая телеграмма Лиле в Москву по этому поводу… пропала. Но цела вторая. Там тоже есть про документы. В письме, отправленном по этому поводу торгпредством в Госиздат с просьбой прислать гарантийную телеграмму на двести червонцев для выдачи этих денег Маяковскому, сказано, что билет у него каким-то образом уцелел. И паспорт новый не нужен, и виза не нужна – стало быть, документы все же не были украдены. И этому можно верить: действительно, «Испания» ушла 19 июня с Маяковским на борту.
По стилю повествования история эта вызывает немало подозрений. Когда надо что-то скрыть, такие мемуаристки, как Эльза, начинают сочинять детали и вязнут в противоречиях. Лично я думаю, что такой азартный игрок, как Маяковский, мог преспокойно деньги эти проиграть (оттого и взял их срочно из банка «для каких-то своих целей»). Но самое интересное дальше – про выставку. Эльза подробно описывает поведение Маяковского, «обнаружившего пропажу». Поведение это кажется ей замечательным. Сперва лицо его стало пепельно-серым, потом он сказал, что он не станет отменять свое путешествие (Мексика, Америка, потом, может, еще Италия, куда Лиля хочет приехать для улучшения слабого здоровья). И вообще, он будет жить, как будто ничего не случилось: сейчас они, как обычно, пойдут в ресторан, а потом пойдут делать покупки… После визита в торгпредство, рассказывает Эльза, Маяковский стал добирать деньги к выданным ему двум сотням интересным способом. Она рассказывает, что, встав у входа в советский павильон, он останавливал русских, приехавших в Париж на выставку прикладного искусства, и других парижских знакомых (в том числе представителей нищей богемы, которым тоже пришлось раскошелиться, поскольку русский гений в беде), – в общем, останавливал «всех подряд», прося денег. «Это тут же превратилось в игру», – восхищенно пишет Эльза. Игра была в том, что она должна была угадать, сколько даст Маяковскому тот или иной знакомый или даже незнакомый. И тот, кто ему отказывал, «переставал для него существовать».
«“Собаки” – говорил он, – пишет Эльза, – выражая крайнее отвращение всем своим видом, выражением лица, движением плеч… И он начинал этих людей преследовать, делая их всеобщим посмешищем до самого конца своего пребывания в Париже».
Ну а тот, кто давал ему больше, чем он ожидал, становился для него «лучшим из людей». Эренбург, к которому, по наблюдению Эльзы, он не испытывал раньше никаких чувств (Эренбург посмеивался над маниакальным страхом Маяковского перед заразой: в любом самом роскошном парижском кафе он пил кофе только через соломинку, чтоб не подцепить инфекцию), «завоевал» Маяковского «пятьюдесятью бельгийскими франками… Он стал звать его по имени и видеть в нем положительные качества».
Такую вот забавную историю рассказала об этом важном визите Маяковского на Международную выставку младшая из сестричек-профессионалок Каган-Триоле. Особенно забавным представляется это поведение Маяковского, если мы верно угадали маленькую тайну пропажи денег. Но вы можете и сами при случае зайти во дворик отеля «Истрия», что в неизменности стоит на улице Кампань-Премьер, и убедиться, что у придуманного «вора» не было никаких шансов на успех.
Итак, Международная выставка с эмигрантским участием удалась. И в том же году в лоне Союза русских художников произошли события, которые могут показаться странными и даже невероятными, если рассматривать их в отрыве от предыдущей деятельности этого Союза, а главное – от тогдашних усилий Москвы и успешной деятельности русской разведки в Париже. Думается, причиной этого события было не только то, что в Париж приехал первый советский посол Красин и открылось посольство, что Маяковский присутствовал на поднятии красного флага (как бы от лица всего художественного авангарда), что русские художники Парижа хлопотали о своем участии в советском павильоне выставки… Думается, что вообще одними вполне материальными надеждами русских авангардистов нельзя объяснить странное выступление Михаила Ларионова, вдруг предложившего принять резолюцию о том, что все члены Союза русских художников заявляют о своей лояльности большевистскому правительству. Впрочем, надо признать, что многим из ста тридцати членов Союза такое развитие событий показалось естественным. И все же, несмотря на усилия Зданевича, Ларионова и группы их сторонников, резолюция эта, хоть и была принята (год спустя), вопреки ожиданиям, не прошла гладко и вызвала раскол в Союзе. О выходе из Союза русских художников заявили сразу несколько видных художников во главе со знаменитыми Филиппом Малявиным и Владимиром Издебским. Группа «антисоветчиков», вышедших из Союза, учредила свое собственное Общество русских художников во Франции, которое вскоре объявило об устройстве благотворительного карнавала «Праздник Ярилы» для художников, «не пошедших на поклон советской власти».
В общем, маневр Ларионова и Зданевича (ставшего сразу после этого председателем Союза художников, главной целью которого стали поддержание связей с Советским Союзом и популяризация советского искусства) не прошел незамеченным. Конечно, более резко, чем аполитичные парижские художники, реагировали на эту попытку «перемены подданства» эмигрантские писатели. Уже в марте 1925 года по поводу того, что художники пошли в советское посольство на поклон, писал в «Русской газете» писатель Александр Куприн:
«Не знаю, приняли их или нет, но уж если примут, то, конечно, не задаром. Чувство симпатии к добрым открытым лицам или к выразительным влажным глазам большевикам неизвестно. Если они кормят, то работу спрашивают вчетверо. Кто раз попал им в руки – скажи прощай своему прошлому. Да. Первую песенку, зардевшись, поют. От сменовеховства прямой и единственный путь в Совдепию, чистить сапоги и лизать пятки. Поступок же Ларионова и Ко – чистейшее сменовеховство, подразумевая под этим термином не первичный литературный смысл, а нынешний, привычный, обиходный: то есть замаскированное, тихое, желанное предательство и прикрытый наивностным неведением подлый соблазн слабым. Назад им нет ходу. Прощать такие поступки не только слабость, но преступление».
Ну, а что же все-таки побудило Ларионова и Зданевича выдвинуть столь странное предложение? Был ли это просто «коктейль из наивного патриотизма и плохо скрытой меркантильности», как охарактеризовал его недавно в альманахе «Минувшее» один из очень осведомленных российских авторов? Думаю, что дело тут было не только в чьем-то патриотизме или в чьей-либо меркантильности. Уверен, что «своевременная» эта идея не сама пришла в головы Ларионова и Зданевича, а поступила из главного «мозгового треста», вырабатывающего идеи, а может, и прямо из «Треста». Ведь шевеление в маленьком парижском Союзе художников точно совпало по времени с другими волнами на поверхности эмигрантской общественной жизни. Скажем, с очень странной кампанией «возвращенчества», во главе которой встали люди, которые только-только унесли ноги, выйдя из камеры смертников на Лубянке (Кускова, Осоргин…) – куда ж им было возвращаться? Разве не Осоргин написал про Советскую Россию в 1922 году, что «в такой чепухе жить невозможно», что там «заблудилась и летает шальная пуля»? И вот 1925 год. Кампания «возвращенчества». Об этих странных эмигрантских событиях 1925 года почти никто не писал тогда, никто не пытался их объяснить. Найденный в архиве некролог Поплавскому, написанный Зданевичем, содержат лишь смутный и неискренний намек: «1925 год был годом больших перемен. Стена, отделявшая Париж от Советской России, стала падать. На Монпарнасе началось политическое оформление…».
То, что многие на Монпарнасе были именно тогда «оформлены», читатель мог бы заметить и сам: легко быть умным через три четверти века. Но, может, и впрямь «рукописи не горят», потому что все же нашелся свидетель, стоявший у истоков этой «разработки» и успевший оставить (незадолго до своей смерти) письменное об этом свидетельство. Речь идет об очерке поэта В. Ходасевича «Горький» и его же, Ходасевича, письме в США Карповичу.
В своем очерке Ходасевич рассказывает, как на дачу Горького в Сорренто (где гостил тогда Ходасевич) приехала в конце 1924 года бывшая жена Горького (и мать его сына) Екатерина Павловна Пешкова. Погостив немного у бывшего мужа, попытавшись уговорить сына поработать в Москве у ее непосредственного начальника Ф. Э. Дзержинского и купив мундштук в подарок начальнику, Е. П. Пешкова поехала по своим делам в Европу, а у Горького с Ходасевичем состоялся поразительный разговор, который Ходасевич пересказывает, пытаясь объяснить позицию Горького:
«…вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она – важное лицо. “Молодец баба, ей-богу!”…
… – Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.
– Да зачем же им это нужно? Что ж, у них своих людей нет?
– Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в отношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших.
…Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало “засыпанию рвов” и всему так называемому “движению возвращенчества”».
Из объяснений, которые Горький дает Ходасевичу, понятно, что никому там в Москве не нужны ни «возвращенцы», ни «лояльность» лучиста Ларионова со товарищи, а нужны жесты, свидетельствующие о всеобщей симпатии к Советам, о сочувствии всех – даже «белой» эмиграции – новому, народному режиму, который уже не тот, что был в 1918–1919 годах, уже переродился и «гуманизировался». А зачем нужны были режиму эта симпатия, этот новый «имидж»? Горький объяснил – нужны «отношения с Европой», нужна торговля, нужны кредиты… Надо восстановить промышленность, армию, а вот уж тогда…
Итак, стоило аукнуть Феликсу Эдмундовичу, как посыпались отклики. Искусствовед («в штатском») П. П. Сувчинский сообщил в том же 1925-м о последнем открытии левоевразийской мысли: «…все, что противопоставляется коммунистической системе миросозерцания и действий, отмечается характером необычайной элементарности и провинциальности… Нужно очень продумать самый факт русской коммунистической партии в ее нынешнем виде и причины ее укрепления…».
Итак, «в нынешнем виде» она должна была устроить даже евразийцев. Так что резолюция Союза художников была лишь маленьким камешком в пропагандистском камнепаде 1925 года. Но с какой точностью он был брошен именно тогда…
Скромный безденежный секретарь Союза немногочисленных здешних художников (немедленно ставший председателем этого Союза) Илья Зданевич был сразу после этого устроен на работу в советское посольство. Правда, он там недолго просидел, но причин его изгнания мы не знаем. Может, он давал советы старшим, может, торопил события. Вот же он признает в некрологе Поплавскому: думал, что стена, их отделявшая от коммунизма, пала, везде будут Советы, бей буржуев… А оказалось, напротив, буржуи должны поддержать Советы. А кто из вас кого авангарднее, из художников и сочинителей, – это вообще дело десятое. Может, Зданевич не понял или не захотел понять скрытых намеков.
Вообще, судя по только сейчас напечатанным статьям из архива Зданевича, он мало что понимал в других людях. Ему казалось, что Поплавскому важно, чтоб его издали не буржуа, а они с Сергеем Ромовым. Но Ромов уехал в Россию, не заплатив типографии, а ведь оставались (как сообщает Зданевич небрежно) какие-то деньги от «Удара» (откуда были деньги для «Удара», Зданевич не сообщает). Зданевич пишет, что «буржуазное» издание (единственный прижизненный сборник стихов Поплавского «Флаги») прошло незамеченным. А это уж явная ложь.
Там вообще много обиженного вранья и намеков на происки реакционеров, в ненапечатанном некрологе Зданевича: кто-то «сумел помешать» продаже чего-то, кто-то «отказал в помощи» и «посоветовал попробовать героин». И вот пришлось Поплавскому издаваться у буржуазии (сборник, кстати, издала прекрасная женщина, госпожа Пумпянская, в Ревеле, она и раньше кого только ни благодетельствовала. Да и что там была за буржуазия? Эсеры?), пришлось променять Зданевича на героин.
Зданевич считал, что лучше быть «революционером» и не печататься вовсе. Но для Поплавского очень важно было издаваться. Единственная была моральная опора в его терзаниях: вот кусок из его романа, это напечатано, он издается… Это все очевидно из дневников Поплавского. Там – о творчестве, о Боге, о любви, о сексе и ничего о политике. Любопытно, что этот чуждый ему соблазн собратьев встать в колонны, найти твердую руку и опору (соблазн, искушавший французских и русских сюрреалистов, Арагона, Элюара, Бретона, Зданевича, Ромова, комсомольца Свечникова, юную Наталью Столярову и бородатых евразийских идеалистов – имя им легион) первым среди русских художников ощутил честный дадаист из Бугуруслана Сергей Шаршун. В одном из своих «листочков», у которых не было читателей, но зато и цензоров не было тоже, – в «Перевозе Дада № 7» (написанном вместе с М. Струве), он воззвал к своим друзьям-авангардистам из группы «Через», спросив их без обиняков и вполне трезво: «Божнев, Свечников, Туган-Барановский, Поплавский, Зданевич и пр., а когда с… ходите, тоже разрешения в Наркомпросе спрашиваете?».

Борис Поплавский был художник, искусствовед, известный поэт и любовник. Ничего не сохранилось из его живописи, умерли все женщины, мало осталось статей и стихов, но очень много воспоминаний о нем – он был генератором идей, истинным мозговым трестом «незамеченного поколения»
И с ситуацией в «таинственной» Совдепии Шаршун рано разобрался – недаром пообщался с приезжими русскими в Берлине. И рано сделал выводы. Василий Яновский вспоминает: «Мы жили в бессознательном, вещем страхе – потери (речь идет о страхе потерять Париж и монпарнасскую свободу. – Б. Н.)! Недаром Шаршун, одновременно шершавый и без кожи, описывал в диких бредовых открытках, как его высылают из Франции и везут к границе СССР».
Конечно, художники постарше, пограмотней, вроде Георгия Лукомского, уже в то время поняли, что и высокий совдеповский покровитель авангарда, народный комиссар просвещения Луначарский, ходит на коротком поводке. Лукомский с большой проницательностью отметил это в речи Луначарского уже в 1926 году: «Мы узнаем, таким образом, что в Советском Союзе требуется искусство простое, ясное, понятное всем, искусство, отражающее социалистические идеи, новый быт, новое мировоззрение».
Но вот ведь и просоветский дадаист Шаршун учуял запах неволи и жесткий хозяйский ошейник, разглядел лебезящие маневры былых собратьев и спросил у них обо всем напрямоту.
С годами и не думавший о политике молодой Поплавский во всем разобрался. Читая в середине 30-х годов дневник своей возлюбленной, парижской комсомолки Наташи Столяровой, он без труда узнает в ее душе этот унизительный «отказ от свободы»: «…только рабские фразы, от которых каждый раз вздрагиваю, – скорее брезгливо, чем ревниво, и так больно понимаю, почему ей нравится “СССР” и тяжкая лапа всеми принятого отказа от свободы, – во всем этом есть неподмытая баба, целующая руку, которая ее только что побила.
Ах, Русь, Русь… Мне поближе к печке, “в толпе укрыться”… Читая это, каменею от презрения и благодарю своих отцов, что они столько дали мне дикости, одиночества, каинизма, в грязную избу не лезу погреться, обещая приноровиться, приспособиться. Один в поле не воин. А я и Шаршун всю жизнь один в поле. Только рабский народ, ничего не знающий о Люцифере, мог создать такую пословицу.
…Я еще не примирился, не сдался, один в пустыне сужу народ свой и презираю его за рабство и жуликоватую дрожь в лице, которую в себе так знаю, в прошлом русский или рабский. Мужайся, душа моя, не из такого горячего теста, а из стали делаются доисторические герои, среди которых ты хотел бы жить, а без которых тебе довольно и Бога, и медленной, верной весны, уважения ко всему в сердце.
Пусть поедет и поплатится, ибо тот, кто жизни в себе не имеет, должен смириться и принять рабское стадо, в которое превращается народ под лапой хозяина».
Наташа Столярова уехала в Москву и поплатилась тюрьмой и концлагерем – вскоре после того как погиб в Париже Поплавский. Но еще и до ее отъезда перестала прельщать Поплавского великая империя на востоке Европы, питаемая теми же соками, что и фашистская, не без «патриотической истерики и национализма, этого большевистского и фашистского подарка нашему веку». Поплавский предвидел и предсказывал падение империи еще в ту пору, когда и правые, и левые в эмиграции, не уставая изумляться ее живучести, уже приготовились идти к ней на поклон:
«Откинув личность и ее свободу, организовав, наконец, обезличенные массы людей-инструментов, государство, не рассеивая больше усилий, победит, может быть, материальный мир и достигнет, может быть, грандиозных вавилонских масштабов своих технических осуществлений, но падение его будет так же молниеносно, как падение ассирийских царств, изобретателей организованного рабского труда, которых скучно и некому было защищать, ибо некому было любить, не было человека, личностей, кроме мифологических ценностей царей».
Впрочем, в отличие от Наташи, Ромова, Барта и Талова, никуда не поехал и дожил в Париже до солидной старости таинственный человек Зданевич. Лишившись, вероятно, доверия Москвы, он сразу отошел от русских дел. Работал на какой-то фирме, женился раз, два, в третий раз – всего удачнее: у третьей жены было какое-то ателье керамики…
Зданевич редко теперь появлялся среди русских. Вот весной 1930 года он вдруг появился на заседании франко-русской студии, где «комнатный большевик» (на самом деле – нормальный коммунист) Владимир Познер заявил, что в эмиграции нет литературы, есть только литература советская. Рассказывая в рижской газете «Сегодня» об этом диспуте, Ю. Фельзен писал:
«“Комнатный большевизм” постепенно вышел из моды, а Познер непростительно старомоден. Его поддерживает Илья Зданевич, маленький, смуглый, черный, на коротких ногах. Он – образец литературного неудачника. Пишет без конца под странным псевдонимом “Ильязд”, его никто не печатает и никто не принимает всерьез. Тем не менее он выступает “от имени молодых русских писателей”. Его утверждения еще более резки, нежели слова Познера. По его мнению, весь мир должен учиться у советской литературы, а эмигрантские писатели – по меньшей мере, самозванцы. Тут уже не выдерживают “соотечественники” и с места по-французски награждают оратора весьма нелестными прозвищами… Любопытно и поучительно, что ни один француз не поддержал Познера и Зданевича».
Прошло еще лет десять, и Зданевич вдруг появился снова на стезе издательства и искусства. Произошло это в пору немецкой оккупации, в 1940 году, через два десятилетия после счастливых тифлисских экспериментов. Ах, счастливая, невозвратимая пора юности! И где они, друзья тех юных дней? Если б только можно было увидеть их через мрак горестей и железный занавес!
Если б и можно было, ничего б хорошего он не увидел. Милой Зосе Мельниковой пришлось бросить искусство – нигде не могла найти актерской работы. В Москве они с мужем ютились по углам. Даже Мейерхольд, которого она пожалела когда-то, «облил ушатом холодной воды». И ведь скажи спасибо, что облил. Кабы не облил, через десяток лет искололи бы ножами маленькую Сонечку, как бедную Зинаиду Райх. Однако Сонина обида на мастера не прошла и через полвека, к той поре, когда книговед В. Нечаев записал в Москве исповедь былой звезды авангардистского Тифлиса: «Я полностью отрешилась от первой половины своей жизни… Кончила марксистско-ленинские курсы профдвижения. Двадцать лет руководила теоретическим семинаром в музыкальной школе Прокофьева. В 1942 году вступила в партию. Была членом общества “Знание”. Прочла около двух тысяч лекций и докладов. Последняя работа – в саду имени Баумана…».
Как же, как же… Звали мы его в юности «садик Б», ходили туда на танцы. А о чем она прочла две тыщи лекций хорошо поставленным голосом? О вредительском авангардизме? О загнивании западного искусства: у Сутина на картинах – гниющее мясо? Об американском империализме? О сионизме?..
А где бедняга Ромов, оставивший в Париже семью и больного сына без копейки? Отсидел свое в России и помер там безвременно в 1939-м. Мне довелось видеть фотографию Сергея Ромова в семейном альбоме у дочери Терешковича Франс: хорошее лицо. Добрый человек был Сергей Ромов и, наверное, искренний: вон же ринулся сломя голову в гиблые просторы совдепии…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.