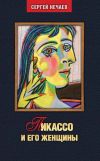Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
«Левые мира!
Мы плохо знаем ваши имена, имена ваших школ, но знаем твердо —
вы растете везде, где нарастает революция.
Мы зовем вас установить единый фронт левого искусства —
“Красный Искинтерн”.
Всюду откалывайте левое искусство от правого…
Долой границы стран и студий!»
Отмечено, правда, что потом призывы к «Искинтерну» сошли на нет. Политика – дело сложное. Но в Париже закипела работа. Журнал «Удар» и группа «Через» устраивали выставки, а кто же из молодых откажется выставить свои вещи – в кафе «Ротонда» и «Парнас», выставки в галереях «Ликорн», «Зак». Выставки – это залог роста художника, это его жизнь… Конечно, для их устройства деньги нужны, спонсоры нужны. Появились.
Париж бурлит. А что же Москва?
Из нынешнего прекрасного далека видно, что Москва никогда не дремала. Специально для эмигрантов высокими профессионалами разведки уже была запущена операция «Трест». Она помогала эмигрантам наладить общественно-политическую жизнь, где надо помочь людьми и деньгами, чтобы все шло без стихийности, без глупостей – и у монархистов шло («Молодая Россия»), и у патриотов-евразийцев (кламарское левое крыло, «Версты», «Евразия»), и у военных. Понятно, что и художественное творчество не было пущено на самотек. К молодым футуристам-дадаистам стал теперь с регулярностью выезжать знаменитый футурист Маяковский, и понятно, что снаряжал его в путешествия опытный чекист Осип Максимович Брик, большой теоретик авангарда.
Конечно, каждое новое появление Маяковского в Париже были впечатляющим: глядите, голодранцы, как живется авангардистам в стране свободы. Ездит человек в Париж чуть не по два раза в год, карман у него полон денег, одет он с иголочки во все британское, а стихи, а голос… Может себе позволить и в карты, и на бильярде, и автомобиль прикупить, и шофера нанять, имеет право носить оружие, да и жена у них с Бриком, говорят, бесподобная… (одна, впрочем, на двоих). И какие командировки – в Париж, в Нью-Йорк, хоть на край света. Ясно и ежу, что для семьи Бриков это не только в плане искусств или в разведплане интересные были поездки Маяковского, но и в плане промтоваров, или, как любят говорить искусствоведы, в плане «синтетическом». Ну, а для парижского Союза художников каждый приезд Маяковского исполнен надежд.
Понятно, что для повседневной политической работы и чутких изменений тактики в Париже один Маяковский не мог быть использован (да и надоели ему все эти дадаисты очень скоро – сам Эльзе жаловался). Так что, был у них там и для повседневной работы кто-то, но кто за что отвечал, нам пока с точностью не известно. Скорей всего, агитпроп Ромов и тот же Илья Зданевич, который вел с Москвой переписку. Однако и этим тоже полностью доверить курс нельзя было: у обоих темпераменту излишек, вкусовщина, страсть к дадаизму. Но можно было ими руководить, хотя бы и по почте, хотя бы и в порядке семейной переписки. Не обязательно, чтоб из «главного штаба» директивной кодированной депешей или лично через Особую комиссию «Треста» (куда кламарские евразийцы, скажем, отправляли на совещание племянника Врангеля Арапова), а простым семейным письмом, скажем, через старшего брата Кирилла из Москвы. Хранится такое письмо от 13 октября 1924 года в архиве Ильи Зданевича, оно даже было предано гласности исследователем Р. Гейро. В нем никаких братских сантиментов, одно только дело. Вот как пишет старший брат младшему, парижскому: «Сейчас не надо силу своей энергии употреблять на критику: пассеистов, лефовцев, пролетпоэтов, имажинистов и пр. Наоборот, скорее контакт нужен с ними для общего дела. Необходимо изменить анархическую тактику разноса всех и всего и изолированности вследствие этого. Конечно, это не относится к белогвардейцам-эмигрантам: Бунин и пр.».
Вспоминается, что почти такой же совет давали в московской Особой комиссии «Треста» «проползшему через границу» евразийцу «Шмидту» (он же посланец кламарского крыла евразийцев, племянник Врангеля Арапов): не ссориться, а собирать всех «под общую крышу» для осуществления «общего дела». Ну, а какое будет общее дело, это будет указано. Впрочем, мы тут поднялись в очень высокие сферы. Вглядимся лучше в молодую толпу творцов, окружавшую не по годам зрелого двадцативосьмилетнего Зданевича, который уже познал и радость лидерства, и горечь разочарования. Он не так прост, как старые наивные эмигранты вроде Шаршуна, Ромова или Парнаха. Он знает, что даже там у них, на освобожденной родине, не всегда умеют отличить истинного новатора от какого-нибудь ничтожества вроде комиссара Штеренберга, еще недавно рисовавшего тут в Париже рюмочки-тарелочки. В частном письме одному из главных «отцов дадаизма» Ф. Пикабиа Зданевич позволяет себе кое в чем признаться, полушепотом (и в целях саморекламы):
«Я приехал из страны, где истинная жизнь искусства упрятана от посторонних взглядов под спудом политических событий. От имени этого искусства говорят люди необразованные и ничтожные, оказавшиеся на первом плане лишь благодаря политической конъюнктуре.
Но в то же время занавес скрывает грандиозный по своей оригинальности процесс чисто художественного творчества, и я прибыл сюда, чтобы сообщить о нем во всех подробностях…»
Что ж, не исключаем, что для того и прибыл.
Конечно, с молодыми гениями, которых ему доверено пасти, Зданевич никогда так откровенничать не будет, он для них жрец нового советского искусства. Они восторженно слушают его рассказы – как эти вот два друга, два птенца-художника слушают – Костя Терешкович и Борис Поплавский. Борис еще и стихи пишет, а Костя недавно читал в «Гатарапаке» доклад «Позор русского искусства», где разнес вдребезги «стариков»-мирискусников, выставлявшихся в Осеннем салоне. Обоим друзьям-художникам еще и двадцати нет, а Поплавскому и вообще, кажется, восемнадцать. Если б еще видел Зданевич, чем они занимались, эти два пацана, возвращаясь с доклада Какабадзе в «Гатарапаке»! Давид Какабадзе – серьезный человек. Ему за тридцать, он изучал физику и математику в Петербургском университете, потом занимался физикой и слушал лекции по теории искусства. В 1914 году вместе с Филоновым и другими обнародовал художественный манифест, а с 1920 года он в Париже. Пишет книги по теории искусства, изобретает стереоскопическое кино, занимается «рельефной живописью». Так что лекцию он читал очень серьезную. А эти двое – По плавский с Терешковичем – вышли после лекции на Монпарнас и видят – такое чудо: снег! Снег в Париже! Дошли до улицы Ренн и там затеяли играть в снежки. А потом в закоулке близ авеню дю Мэн, где скопилось уже порядком снега, стали лепить бюст Карла Маркса, про которого им вечно за чаем Ромов долдонил: «Прибавочная стоимость… Товар – деньги – товар…»
«Эх, деньги… Дадите три франка, Сергей Матвеич?»
Костю Терешковича Сергей Матвеич Ромов пригрел вскоре после того, как Костя добрался в Париж из Марселя. А в Марсель юноша добрался из Константинополя, где он был у англичан конюхом в полковой конюшне: большой оказался любитель лошадей, и лошади его любили. А в Константинополь Костя попал из Батума, где работал на чайной плантации. А уж как в Батум попал через Крым, так это и вовсе сумасшедшая история. Шестнадцатилетним мальчишкой пошел Костя добровольцем к красным, хотел воевать, а служил в медчасти. Они должны были санитарные поезда с пленными немцами сопровождать в Германию. Возможно, там и хотел Терешкович «спрыгнуть». Биографам он рассказывал, что давно уже мечтал о Париже – с тех самых пор, как увидел у приятеля своего отца купца Щукина в московской галерее все эти безумные парижские картины. Решил мальчик, что уедет в Париж и станет художником.
Позволю себе задержать ваше внимание на этом поразительном эпизоде из счастливого детства Кости Терешковича, благополучного, здорового, спортивного мальчика из благополучной московской семьи. Попал мальчик в щукинскую галерею самой что ни на есть авангардной французской живописи и решил, что станет художником, что станет вот таким художником, как эти французы, и вдобавок поедет в город Париж – куда ж еще ехать художнику?
Хочу остановиться на этом эпизоде, потому что нечто подобное писали и о Судейкине, и о Шаршуне, и еще о полудюжине русских живописцев в связи все с той же галереей Щукина или собранием Ивана Морозова, знаменитейших московских богачей-коллекционеров. Писали чаще всего восторженно (как еще можно писать об этих великих, бесценных, всему миру известных собраниях, прорубавших русскому искусству окно в Европу?)
Впрочем, не всегда так безоговорочно восторженно. Из редких (и уже поэтому интересных), не вполне восторженных отзывов мог бы сослаться на мемуары художника и коллекционера князя Сергея Щербатова, так вспоминавшего о самом Щукине, щукинской галерее и производимом ею воздействии в книге «Художник в ушедшей России», вышедшей в нью-йоркском издательстве Чехова полвека тому назад:
«Я любил посещать богатейшее собрание Щукина и беседовать с владельцем, когда никого не было, – с глазу на глаз, что позволяло искренне делиться мнениями и высказывать свободно мои мысли и недоумения.
По воскресеньям я иногда тоже ходил к Щукину, интересуясь уже не столько картинами, сколько контактом с молодым художественным миром Москвы.
В галерее с утра толпились ученики Школы живописи и ваяния, критики, журналисты, любители и молодые художники. Тут Сергей Иванович (Щукин. – Б. Н.) выступал уже не в качестве хозяина, а в качестве лектора и наставника, поясняющего, руководящего, просвещающего Москву, знатока и пропагандиста.
Перед каждым холстом он читал лекцию о той или другой парижской знаменитости, и доминирующей идеей была ех occidente lux (с Запада свет. – Б. Н.).
Перед холстами художников крайнего течения молодежь стояла разинув рты, похожая на эскимосов, слушающих граммофон.
Щукинские лекции и восторженные пояснения новых веяний живописи Парижа имели последствием потрясение всех академических основ преподавания в Школе живописи, да и вообще всякого преподавания и авторитета учителей: и вызывали бурные толки, революционировали молодежь и порождали немедленную фанатическую подражательность, необузданную, бессмысленную и жалкую. “Расширяя горизонты”, это парижское импортное искусство, как зелье, кружило голову, впрыскивало опасный яд, заражавший молодежь в учебные годы в Школе, а молодых художников сбивало с толку. Серов однажды в беседе со мной поделился своим ужасом от влияния, оказываемого импортируемыми из Парижа картинами крайних направлений на его учеников. “После перца школьные харчи не по вкусу, хоть бросай преподавание, ничего больше слушать не хотят. Каждый «жарит» по-своему, хотят догонять Париж, а учиться не желают. Уйду! Мочи нет! Ерунда по шла!..”»
Рассказанное князем Щербатовым может объяснить и потрясение, пережитое мальчиком Костей, пришедшим с папой в знаменитую галерею к ее владельцу, папиному другу.
А кто ж был у Кости отец, что водился с самим Щукиным? О, отец его был не последний человек в Москве: директор Канатчиковой дачи доктор Терешкович. Главная была подмосковная психушка, эта «дача», и в детстве в московском дворе я не раз слышал угрожающее:
– Ты что, на Канатчикову угодить хочешь?
Почтенный был специалист доктор Терешкович, и может, не только увлечение Матиссом помогло С. И. Щукину выкарабкаться в 1908 году из душевного кризиса, но и добрые советы доктора Терешковича.
Но вот прошли годы, ушел Костя в армию, двинулся в долгий и небезопасный путь… Должен был Костин санитарный поезд идти в Германию с пленными, но такой был всеобщий бардак, что оказались они за тыщи верст от границы, где-то на востоке. Оттуда добрался юный Терешкович в Крым, оттуда – в Батум, где работал на чайной плантации. Оттуда перебрался в Турцию, где работал у англичан в конюшне, а оттуда без билета и визы – в Марсель, и уж только оттуда – в Париж. Горя хлебнул и нужды. В конце концов в Париже познакомился с Ромовым, тот его познакомил с Бартом и Ларионовым, теперь вот ходил Костя в академию Гранд Шомьер, что возле «Ротонды» и «Хамелеона». Туда, в академию, и будущий друг его Поплавский ходил учиться, тоже писал картины… Мало-помалу и со всей левой паствой Сергея Ромова пере знакомился Костя. В дневнике Поплавского остались записи за 1921 год:
«Утром молился. Потом пошел на Grands-Boulevards искать ботинки… на мосту дал старухе 5 франков. В столовую. Еврей-художник. С ним в “ Ротонду”. Рисовал Фиксмана (поэт Довид Кнут, в ту пору очень «левый». – Б. Н.)… Пришел Гингер, показал стихи: раскритиковал… Терешкович и Карский».
И еще через четыре дня:
«В Клюни много рисовал с Терешковичем – хороший человек.
Каждый вечер учусь молчать, трудно».
Еще неделю спустя (дневник – истинный документ, не то что мемуары или задним числом придуманные письма, вроде хитроумных зданевичевских):
«1.8.1921. Утром молился и с надеждой пошел к Воловику, у него Терешкович, боксер С. и Френкель. Пошли обедать, потом в “Ротонду”, с Симановичем разговор о теософии. Мы пошли в кинематограф. Я к Френкелю. Никто. Домой, учился молчать… Рисовал для Папы и убирался.
3.8.1921. Утром молился, пил кофе, в пять пошел в Grande-Chaumiere (художественная академия. – Б. Н.), рисовал очень легко и очень хорошо, в столовую, в “Ротонду”. Терешкович уезжает, галдели в кафе. Англичанка, рисовал ее, встал, ушел, учился молчать».
Поплавский увлекается живописью, поэзией, теософией, медитирует, молится, плачет. Терешкович пишет картины и прозу. Они вместе ходят в Палату поэтов, в «Гатарапак», на благотворительные балы, в кафе, на чтения стихов – все это ромовские дела. Собираются свои – молодые художники, поэты, бунтари, дадаисты, по-старому еще футуристы (это старшие, Зданевич с Ларионовым помнят, как их называли дома). В общем, все то же: мы против царя, против старого искусства, против старья – всех этих Бенуа, Лансере… Костя Терешкович в самый первый номер ромовского журнала «Удар» написал боевую статью против ихнего замшелого «мирискусства». Молодежная мода – всегда бунт, да и вообще, старикам никогда не уловить молодежную моду. Скажем, вот у молодых в Париже теперь всякие стеклышки в моде – очки, лупы, монокли пошли в ход. Вон даже и старшие дадаисты обзавелись: Шаршун такие себе очочки завел – просто министр, Борис его зовет за это «сусекретэр д'эта», завидует (да ведь и сам Борис без темных очков не появляется). Даже подстарок Зданевич теперь с моноклем. Божнев написал ему стишок:
Три пальца – кукиш и три пальца – крест.
И кукишем ты крестишь футуристов,
Через монокль читая манифест,
За кафедрой насмешлив и неистов.
Еще молодежная мода – спорт, мускулы качать, бокс, вообще всякая разносторонность, синтетическое искусство, музыка, джаз. И конечно, отважный Новый Мир, brave new world. В России теперь – Новый Мир. Старики уже собрались в Советскую Россию: и Парнах, и Ромов, и Свечников, и другие… Подавать документы на выезд в Россию пока можно только через Берлин, у немцев уже есть с Советами отношения, там, в Берлине, и советское консульство есть. Вообще, Берлин – настоящая столица, там передовое искусство, там теперь русские кучкуются, а Париж в застое. Надо двигать в Берлин…
Вот как описывает историк Тамара Пахмусс завершение дадаистского «бенефиса Шаршуна»:
«Американский дадаист из Нью-Йорка Никольсон прочел несколько стихотворений скульптора Г. Арпа. Слушатели, недовольные его исполнением, выражали свой протест негромким мычанием. Через несколько дней все, присутствовавшие на этом бенефисе, уехали в Берлин. К 1921 году дадаизм выдохся».
Терешкович и Поплавский пока только собираются в Берлин, но в Париже они встречаются почти ежедневно. Чаще среди своих – Минчин, Блюм, Воловик, Карский, Фиксман-Кнут, старик Кремень…
В ноябре Поплавский, Терешкович и вся молодая компания отправляются в деревню на десять дней – рисовать, играть на бильярде, есть яблоки. И вдруг запись в дневнике Поплавского:
«Кришнамурти и Терешкович – главные люди месяца. Терешкович прочел мне свой дневник, где пишет, что я бездарный художник, – было больно, – через несколько дней я победил его примером моей поэзии».
Поплавский не бросил живопись, не бросил ни одного из своих многочисленных увлечений, развлечений и подвигов.
«4.8.1928. Утром молился, потом пошел к Френкелю, он лепил девушку, дал билетик в Гранд Шомьер (где в зале позируют натурщики и натурщицы. – Б. Н.), рисовал легко красавицу карандашом. Был Воловик. В столовку (опять), оттуда к Френкелю… сидели в кресле, пели песни. Хорошо, но вредна печаль, говорил немного и без энтузиазма. Домой. Рисовал карандашом улицу, спать».
В Берлине Поплавский и сам приходит к решению бросить живопись, на которую раньше возлагал большие надежды. Но поэтические успехи не дают ему прийти в отчаяние. Как он сообщает в одном из писем, такие столпы левого искусства, как Пастернак и Шкловский, его «обнадежили». Они тоже были в ту пору в Берлине. Да кого только не было тогда в этой «мачехе русских городов»? Русских понаехало тысяч двести пятьдесят. Берлин – ближняя к России западная станция, а все надеялись на скорое возвращение.
Терешкович с Поплавским застряли в Берлине надолго. Там уже были ко времени их приезда и Парнах, и М.-Л. Талов, ждавшие визы, чтоб вернуться в Советскую Россию. Из России то и дело наезжали в Берлин московские и петроградские знаменитости – и Маяковский, и Белый, и Пильняк… Жизнь в Берлине была дешевле, чем в Париже; русские книжные издательства насчитывались десятками, выходили русские журналы и газеты, ставили русские спектакли, приезжали на гастроли театры, процветал театр-кабаре Балиева «Летучая мышь», русская речь была слышна повсеместно. В ходу был анекдот про немца, жившего на Курфюрстендам: он повесился от ностальгической тоски, ибо всюду слышал только русскую речь.
В здешнем Доме искусств можно было встретить любую российскую знаменитость – выпускали в Берлин без особых трудностей, а может, и не без расчета. Затевалась на долгие годы разведакция «возвращенчества», и, конечно, Берлин уже кишел агентами разведки. Чуткий Набоков написал об этом драму «Человек из СССР»: о том, как его самого соблазняли в Берлине. Как ни странно, в набоковском романе «Подвиг» нет догадки о том, что главный герой романа гибнет в «трестовской» западне.
Алексей Толстой был срочно зазван в Берлин из Парижа, чтобы возглавить просоветский (или просто советский) журнал. Были в Берлине во множестве и другие сменовеховцы, явные и тайные.
Приезжал туда на несколько дней Зданевич и читал лекцию в Доме искусств. Что до Шаршуна, то он погрузился с головой в среду берлинских дадаистов и сообщал в письме Тристану Тцара:
«“Штурм” продал несколько моих картин… восемь штук за 91 000 марок…
В прошлую пятницу я читал и цитировал дадаизм в том же месте, где читал Зданевич… Я прочитал брошюру о дадаизме и свои переводы Ваших произведений. Дадаистская антология по-русски теперь – факт. Вы, мой дорогой друг, включая “Газодвижимое сердце”, составили большую часть книги…».
Свои картины без труда продавал и приехавший в Берлин тифлисский авангардист Ладо Гудиашвили, на которого берлинская суета произвела отрадное впечатление:
«Каждый художник, молодой ли, старый ли, старался идти в ногу с новыми веяниями. Естественно, в этом водовороте многие имена вообще исчезали, после каждой значительной выставки устраивались диспуты, на которых выступали строгие критики… Ставились и горячо обсуждались актуальные проблемы живописи и скульптуры… Отчетливо запомнились диспуты о кубизме… Это были очень деловые, острые и чрезвычайно интересные беседы».
Шаршун издал в Берлине свою брошюру о дадаизме и впервые затеял там издание своих листовок, носивших названия «Перевоз Дада», «Клапан», «Свечечка», «Отдушина» и еще, и еще. Первую свою двуязычную листовку «Перевоз Дада» Шаршун выпустил в Берлине в июне 1922 года. Шестьдесят лет спустя об этом написал в «Русском альманахе» Зинаиды Шаховской художник Михаил Федорович Андреенко-Нечитайло, с которым Шаршун, познакомившись в Берлине, дружил потом до самой смерти. Тот самый Михаил Андреенко, что родился в Херсоне, еще перед войной выставлялся в Лейпциге, а перед революцией экспонировал кубистические полотна у Добычиной в Петрограде, оформлял театральные спектакли в Одессе, Бухаресте, Праге, а потом и в Париже, писал сюрреалистические картины в 30-е годы и вернулся к «нехудожественным материалам» в конце 50-х, печатал статьи в русских и украинских журналах (называя себя «апатридом украинского происхождения»), хоронил Наталью Гончарову в начале 60-х и написал поразительное письмо об этих похоронах (мы к нему еще вернемся), а потом прожил еще добрых двадцать лет в Париже и работал, пока не ослеп. Впрочем, и в начале 60-х, когда с ним встречался коллекционер Н. Лобанов-Ростовский, он уже плохо видел. Однако «был в здравом уме, шутил и трезво судил о своих коллегах, русских художниках в Париже, в частности об Анненкове». Лобанов-Ростовский рассказывает, что лет за десять до его смерти Андреенку снова «открыл» печатник Цвикликер, и на устроенной этим деловитым печатником выставке «Видение Руси» (тогда русское модернистское искусство, по словам Лобанова-Ростовского, «опять стало всплывать») работы Андреенки стоили уже до восемнадцати тысяч марок. Но непродажным воспоминаниям в «Русском альманахе» нет цены, к ним и обратимся. Вот что рассказал М. Андреенко о берлинской встрече с Шаршуном:
«Летом 1923 года мне случилось прийти на лекцию Андрея Белого. Вестибюль перед входом в зал, где должна была состояться лекция, был пуст… Кто-то вошел в вестибюль, и я обратился к вошедшему с вопросом, но и он не понимал, в чем дело… Мы вышли на улицу и остановились, чего-то ожидая. Мой новый знакомый, ничего не говоря, вынул из бокового кармана и протянул мне сложенный вдвое небольшой листок бумаги. «“Что это?” – “Это моя листовка, мой журнал”, – ответил Шаршун. При свете уличного фонаря я развернул листок и прочел одну фразу. Фраза заключала очень резкий отзыв, выпад против сербского языка. Сербский язык был охарактеризован одним неприемлемым для печати словом. Я стал читать дальше, но о сербском языке все было высказано, говорилось о чем-то другом. – “Вы жили в Сербии, Вы знаете сербский язык?” – “Вовсе нет”. “Странный человек”, – подумал я».
Легко догадаться, что в листовке странностей было больше: «…флюгер-рулевой и гитарист Шаршун… Земелька Разглаживает Морщинки Границ… У художника – атрофируется речевая способность…».
Позднее выяснилось, что речевая способность атрофировалась не полностью, и хотя чем дальше, тем больше было странностей, художники разговорились и подружились.
В Берлине Шаршун познакомился также с художником Иваном Пуни. Последний и Василий Шухаев с женами бежали из Петрограда по льду Финского залива. Добравшись из Финляндии в Берлин, Пуни устроил в немецкой столице знаменитую выставку «Бегство форм». Картину «Бегство форм» (или «Натюрморт с буквами»), которую видный знаток авангарда Джон Боулт назвал шедевром Пуни, художник написал еще в Петрограде в 1919 году. А позднее он вернулся в Петроград из шагаловско-малевичевского Витебска, куда Пуни ездил попреподавать, потеоретизировать и подкормиться. (Напомню, что Пуни был организатором последней выставки футуристов в Петрограде.) В берлинской галерее Вальдена («дер Штурм») Пуни, если верить Джону Боулту (а кому ж тогда верить, как не ему?), «хотел применить супрематизм к “внекартинным” формам, к конкретной художественной акции, исполненной неожиданности, случайности, юмора, эксцентрики, что вызывает прямые ассоциации с хэппенингами 1970-х и 1980-х годов. Общий семантический знаменатель выставки был действительно “Бегством форм”, чьи буквы украшали стены, создавая прямую связь с картиной 1919 года того же названия, о чем свидетельствуют фотографии самой инсталляции… Композиция “Бегство форм” и сама инсталляция выставки своими телеграфическими сигналами обрубленных и поделенных на слога слов также напоминают словесные нагромождения на вывесках и в магазинных витринах. Более того, можно сказать, между прочим, что “Бегство форм” перекликается с эхоэффектом современной радиорекламы и любовной лирики рок-групп.
Что может быть перспективней, чем все эти замечательные открытия?».

Могила художника Ивана Пуни на монпарнасском кладбище (неподалеку от Х. Сутина, О. Цадкина, С. Петлюры, А. Алехина…).
Фото Бориса Гесселя
В общем, как вы, наверное, поняли из этих серьезных рассуждений (украшающих ученый журнал «Вопросы искусствознания»), Джон Боулт считает эту берлинскую выставку Ивана Пуни вершиной карьеры художника, после которой двадцатидевятилетнему гению оставалось или умереть, или писать потихонечку пейзажи, натюрморты, пляжи, чем симпатичный Пуни и занимался в отпущенные ему тридцать пять лет и о чем Джон Боулт вспоминает с сожалением и братским сочувствием, как и о неосуществленном Пуни совместном с Алексеем Толстым «большом исследовании о современном русском искусстве»: «…хотя Пуни имел еще несколько персональных выставок в Париже и его последующие живописные работы получали высокую оценку, он скончался (в 1956 году) в относительной безвестности. Причина этого, быть может, и заключается в том молниеносном успехе, который Пуни имел в Берлине».
Виноват был берлинский взлет или нет, но позднее Пуни и впрямь не имел былого успеха. Это подтверждает и такой понимающий в искусстве человек, как Никита Лобанов-Ростовский: «На мой взгляд, работы русского и берлинского периодов были более оригинальными, динамическими и новаторскими, чем парижские работы после 1924 г.».
Н. Лобанов-Ростовский замечательно рассказывает о посещении мастерской Пуни через восемь лет после смерти художника (и через полвека после визитов Бенедикта Лившица в петроградский «салон» Ивана Пуни и его супруги, блистательной, загадочной Ксении, в которую влюблен был Хлебников, а до него чуть ли не сам президент Франции):
«Я побывал в его знаменитой мастерской, где он жил на протяжении 40 лет (улица Нотр-Дам-де-Шан 86, близ Монпарнаса. – Б. Н.). Когда я поднялся на четвертый этаж, вышла мадам Леже (та самая, что подарила парижскому «Аэрофлоту» Ленина из камней и писала доносы на Ростроповича. – Б. Н.) и сказала, что я попал не в ту мастерскую, мне нужно зайти в следующий подъезд. Я навещал его жену – художницу Ксению Леонидовну Богуславскую. Это было в 1964 году. Она интересовалась футболом и непосредственно футболистами, но в это же время самозабвенно посвящала себя работе над каталогом-монографией Пуни и стремилась во что бы то ни стало опубликовать его при жизни. Чтобы поднять это нелегкое дело, Богуславская продала несколько важнейших работ маслом Пуни торговцу хлопком г-ну Бернингеру из Цюриха, который вместе с Ксенией Леонидовной затем потратил массу времени и денег на создание великолепной монографии в 2-х томах. Это настоящий пример вдовам художников: пренебрегая собственной живописью, она всецело посвятила себя сохранению памяти мужа.
Для того чтобы пробудить интерес к живописи Пуни, Ксения Леонидовна в 1964 году передала в Лувр 66 его работ, которые экспонировались в филиале Лувра “Оранжерея”. Одновременно галерейщица Дина Верни, русская по происхождению, сделала коммерческую выставку, где работы продавались. Я туда, разумеется, пошел, но необходимых денег не имел (работы тогда продавались, начиная от тысячи долларов). В отчаянии я поехал прямо к вдове Пуни и рассказал о причинах моего посещения. Она показала мне одну театральную работу и после долгих переговоров назначила цену 300 долларов. У меня и их не было, и я ей предложил 100 долларов, потому что этот эскиз был поврежден. Она не согласилась. Мне нужно было уходить – у меня было назначено свидание с Андреем Бакстом, но у самой двери она меня нагнала и сказала: “Вы ужасный человек, но мне страшно нужны 100 долларов”, – так и началось мое собирание Пуни».
(Отметьте, что, как и в прочих коллекционерских рассказах Лобанова-Ростовского о счастливых покупках, этот симпатичный интеллигент и впрямь предстает здесь как «ужасный человек», обирающий тех, кто «страшно нуждается». Но что поделать – страсть любителя и хватка бизнесмена, о чем и пишет потомок знаменитого рода с законной гордостью.)
Возвращаясь в начало 20-х годов минувшего века, отметим, что «берлинское паломничество» парижских художников и поэтов было плодотворным. Парнах и Талов, получив советские визы, укатили в страну победившего авангарда, поражая оставшихся прогнозами своего предстоящего советского процветания (Парнах грозился привезти Советам не только поэзию, но и джаз).
Осторожный Шаршун в ожидании советской визы провел много спокойных разговоров с приезжими и, как человек неглупый, понял главное. Любопытно, что он встретил в какой-то авангардистской компании уезжавшую в Советскую Россию Айседору Дункан, о чем-то долго с ней толковал, а потом пообщался с ней на ее возвратном пути из России и подробно обо всем расспросил. И отчего-то, в отличие от сотен голосистых спорщиков, не дававших позвучать чужому голосу, он многое услышал и многое понял. И уехал обратно в Париж, хитровато сообщая, что все еще ждет визу, но якобы ждет и ждет, но никуда не едет. Невольно вспоминаются случайные фразы из разнообразных шаршуновских «Клапанов»:
«Не имея ни с кем ничего общего – могу говорить только о себе»,
«Горечь – целительна. Слабость – разрушительна».
Через пятнадцать месяцев, вернувшись в Париж, Шаршун приходит к выводу, что «дадаизм за это время выдохся. Пикабиа и Тцара исчерпали себя, потеряли боеспособность. На престол вновь созданного сюрреализма – воссел А. Бретон, наградив всех сподвижников красными билетами».
«Поэтому, – сообщает Шаршун, – со всеми прежними друзьями я отношений не возобновил. Мне стало достаточно и личной дисциплины. С дадаизмом соприкоснулся я по молодости лет».
Терешкович с Поплавским ездили в Берлин не учить, как Шаршун, а учиться. И заодно продемонстрировать свои первые достижения. Оба задержались в Германии надолго. Весной 1923 года Терешкович провел персональную выставку своих картин в галерее Ноймана, участвовал в русской выставке в книжном магазине издательства «Заря», писал пейзажи в Дрездене.
Поплавский, не порывая окончательно с живописью, осваивает в Берлине тот вид не всегда художественной (хотя и не всегда научной) прозы, которая называется искусствоведческой. Он ходит на выставки, берет интервью у художников и пишет большую статью о русской выставке в галерее Ван Димена. Позднее (с открытием журнала «Числа») он нашел трибуну для своих искусствоведческих идей и наблюдений, научился кратко их формулировать. Он походя отмечает интересные работы «Сергея Шаршуна, вещи которого, нарочито упрощенные в смысле композиции, полны нежнейших фактур и тонкого чувства “valeur'ов” и написаны с чрезвычайной любовью».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.