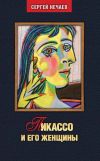Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
А потом хуторской сосед повез меня, безлошадного, в Арсонваль. Чуть не доезжая до городка Бар-сюр-Об, он притормозил у дороги, чтоб я смог прочесть надпись над входом – «Музей Лукина».
Теперь-то я знаю, что некогда Лукин с молодым де Сталем выставляли в Брюсселе свои иконы. Лукин его и учил, знаменитого ныне де Сталя, иконы писать, и многие отмечают нынче, что наука эта не пропала для великана де Сталя даром. Известная французская искусствовед Вероника Шильц (большой знаток русского искусства и близкий друг последнего «нобелевского» поэта России) в своей работе «Никола де Сталь и Санкт-Петербург» сближает работу де Сталя с работой русских иконописцев.
Ну а тогда, в 1936 году, после брюссельской выставки икон надумали Никола де Сталь с друзьями податься в Северную Африку, в одну из самых красивых стран Магриба – в сказочное Марокко, которое уже давно было открыто французами – художниками, поэтами, военными, чиновниками. И Делакруа там побывал, и Матисс, и Андре Жид… Пряная проза Пьера Лоти манила в дорогу многих читающих французов. Но только вот на какие деньги было странствовать? Папа Эмманюэль Фрисеро испытывал горькое разочарование – никем не сделался после стольких-то лет успешной учебы и путешествий любимый сын Никола, и конца его странствиям не было видно. Странствия, споры-разговоры, попойки, эксперименты… И ничего солидного, ничего путного, да он и сам это чувствует, сам в беспокойстве. Родители оплачивают ему мастерскую в Брюсселе, но бывает ли он там, работает ли – один Бог ведает. А теперь после долгих скитаний по Европе, по Испании подавай ему еще Африку. Нет, ни за что, – уперся отец.
Однако нашелся у молодого художника защитник, первый его меценат. О чем еще мечтает художник и что ему видится во сне, когда истекает срок платы за ателье, когда свет и воду уже перекрыли, а счета и напоминания об их неуплате с неуклонностью заполняют почтовый ящик? Снится художнику гениальный маршан-торговец, который все вот так сразу и продаст или, на худой конец, одно-два полотна, а еще чаще снится ему благородный меценат, тонкий и щедрый человек, который вытащит его из безденежья, потому что он может отличить настоящее искусство от модной поделки, от дряни, умеет наперед угадать талант. Вот он звонит у двери, меценат, с деликатностью входит в ателье… Как внимательно смотрит он на картину, все отметил, все сумел оценить, кивает благосклонно… Измученная нуждой и неизвестностью жена художника выглядывает из кухни… Не печалься, родная, мы спасены. Вот он лезет, наш гость, в карман, широким жестом достает… Боже мой, что это? Неужели это опять только сон? Нет, не всегда. Не будь благожелательных меценатов, рисковых самоотверженных галерейщиц, влюбленных в живопись маршанов, наша история оборвалась бы на этом самом месте, и не было бы этой яркой звезды в небе Лазурного Берега, а осталась бы в истории Парижа и Петербурга лишь одна знаменитая де Сталь – бойкая мадам Жермена де Сталь, урожденная Жермена Неккер (подробнее о ней смотри в примечаниях к Пушкину, начало позапрошлого века).
Бельгийский меценат барон Жан де Брауэр, сумевший что-то разглядеть в ранних опытах Никола де Сталя, был человек тонкий. Может, и в деловых своих операциях по продаже жилплощади он проявлял тонкость, это нам неизвестно, но во всем, что касается его добрых вторжений в сферу искусства, в тонкости ему не откажешь. В 1928 году, и еще раз в 1932-м, отправлял он за свой счет чудную русскую художницу Зинаиду Евгеньевну Серебрякову (дочь Е. Лансере и племянницу А. Бенуа) поработать в Марокко, пописать портреты и пейзажи. В 1934 году заказал он сыну Серебряковой Шуре, тоже великому мастеру и фанатику старинных интерьеров, проект оформления своей виллы под Брюсселем, для которой Зинаиду Евгеньевну попросил написать декоративные панно.
Человек попроще прогулял бы торговым талантом добытые деньги в парижском ресторане «Серебряная башня», но барон де Брауэр был человек непростой. Верным глазом отметив талант молодого де Сталя, он пригласил его расписать свой охотничий домик близ Монса, а потом пообещал финансировать марокканскую его прогулку с друзьями. Договорились, что Никола будет присылать ему марокканские работы с дороги, и договор этот был скреплен в присутствии Эмманюэля Фрисеро. Забегая вперед, скажем, что в Марокко еще не случилось того чуда, которого так мучительно ждали сам Никола и его родители. Чуда оставалось ждать еще добрый десяток лет (это как же нужно верить в то, что оно произойдет, какое нужно иметь терпение!). Пока же ничего или почти ничего доброго не случилось, хотя душа Николая была там еще полнее восторгом, чем в Испании, чем в парижских музеях, чем перед полотнами Рембрандта в Амстердаме.
Восторги свои он изливал в длинных, захлебывающихся (хотя и не всегда слишком грамотных) письмах. В наш век даже и не телеграфной уже, а компьютерной переписки странно, порой досадно (а порой и утешительно) читать эти многостраничные описания путешествий, все эти довольно еще любительские и бескомпромиссные, но вполне благородные рассуждения об искусстве, экономике, колониализме. Сомневаюсь, впрочем, чтобы все эти рассуждения могли заменить папе Фрисеро (и тем более благодетелю-меценату) обещанные картины, хоть и были эти обещания вполне искренними. Мы-то, пришедшие позже, можем засвидетельствовать, что предсказания молодого де Сталя сбылись. Он писал отцу: «Я знаю, что моя жизнь будет непрерывным странствованием по взбаламученному морю. Это требует постройки крепкого корабля, но он еще, Папа, не построен. Я еще не пустился в плавание. Медленно, часть за частью, я строю. Мне понадобилось шесть месяцев пробыть в Африке, чтобы отдать себе отчет, в чем именно заключается живопись».
Три месяца спустя он снова объясняет теряющему терпение отцу, как идет процесс созревания: «Быть художником – это не рассчитывать, а жить, как дерево, не ускоряя брожения сока, ждать наступления лета, но для этого необходимо терпение и еще раз терпение… Знаю, что другие художники стараются прежде всего угождать своим заказчикам, и знаю также, что я на это неспособен… Только по внутренней, сокровенной необходимости нужно рисовать, и только так я буду поступать, если смогу, для достижения хорошего рисунка, хорошей живописи».
Но объясняться с отцом становится все труднее. Письма не заменяют обещанных работ, да Никола ведь еще и сам не скоро поймет, какие рисунки и полотна ему писать и как. А пока вот еще одно воистину душераздирающее письмо, полное отчаянья: «Будьте уверены, это уже последнее письмо, которое я Вам пишу до отправки своего рисунка. Знаю, что Вы не уверены в моих силах, и, быть может, будете уверены еще меньше, увидя мою работу и ту, которая за ней последует. Я же никогда не сомневался в своей способности создать очень хорошие вещи и это исполню. Пишу Вам так, как думаю. Я Вам пишу, что я работаю. Вы мне не верите. Вы мне не верите, и может, в Ваших глазах работать – означает совсем иное. Мне так трудно писать Вам об этом. Вы, Папа, так добры, что внутренне я исполняю это, наподобие человека, писавшего святому Игнатию, стоя на коленях. Мне нечего Вам добавить, нечего».

Роковая поселянка из Люберона… Эскиз Никола де Сталя
Легко представить себе, что честный и щедрый Фрисеро с трудом переваривал все новые порции обещаний и пророчеств, в которых ему чудилось временами то безмерное хвастовство, то проблески безумия – на фоне неспособности сесть за работу, на фоне суеты и безделия. Как ни поразительно, все, о чем писал Никола, оказалось правдой, все сбылось. Но кто мог предсказать?
Последовал мучительный разрыв с отцом, на долгие годы художник был обречен на нужду (может, и загнавшую через несколько лет в могилу бедную подругу художника), но и нужда, вероятно, было не самой тяжкой. Тяжкими для художника и окружающих были его неуверенность в себе, его мучительные поиски, в общем, то, что давно уже в просторечии почти иронически зовут «муками творчества».
Уже и на вершине своей прижизненной славы, незадолго до гибели Николай признавался в одном из писем: «Вы знаете, что я никогда не уверен в своих картинах, никогда».
В Марокко его настигло бы полное одиночество, если б он не встретил художницу Жанин. Она была с мужем-поляком и маленьким сыном, она была старше его, но Никола позвал ее за собой, и она оставила мужа. Она стала его любовью, спутницей в его странствиях и часто наставницей в живописи. Через Алжир они вместе добрались в Италию. Из Рима Никола послал родителям новую отчаянную просьбу о деньгах, и они прислали деньги. Потом был Париж. Никола ходил на занятия в академию Фернана Леже, снова ходил в Лувр, где познакомился и подружился с художником-уругвайцем Сгарби, который так вспоминал о нем позднее: «Художники, которых доводилось знать, были все небольшого роста, а этот был просто гигант; у них были низкие голоса или высокие, но го́лоса такого тембра, такого низкого голоса, как у Никола Сталя, ни у кого не было – стены дрожали в комнате…».
На родине, в бретонском Конкарно, Жанин представила Никола своему кузену – художнику Жану Дейролю.
Потом началась «странная война», и Никола ушел добровольцем в Иностранный легион. Рисовал штабные карты в тунисском городе Сусс, а в сентябре 1940 года был демобилизован и разыскал Жанин в Ницце. Поселились втроем – с Жанин и сыном ее Антеком, – сняли квартиру на улице Буасси д'Англа, близ железнодорожного моста и вокзала. На Лазурном Берегу тогда было много художников, полным-полно знаменитостей. Николай познакомился со знаменитым Маньели, с Корбюзье, Жаном Клейном, Арпом, побывал в ателье у недавно овдовевшей Сони Делоне, разглядывал полотна покойного Робера. Он снова учился и почти ничего не писал, если не считать одного прекрасного портрета Жанин. Однако ничто в этом портрете не возвещало рождения нового де Сталя. Да это и был последний его портрет. Никола начал пробовать себя в абстракции – геометрические построения в духе Маньели, освобожденные от окру жающей природы и объектов. Соня Делоне написала о нем в ту пору в письме – «необъективный художник».
Для заработка Никола иногда малярничал, а живописью зарабатывала на жизнь Жанин – писала и продавала пейзажи. Она поддерживала все мучительные поиски Николая, она его подбадривала, она его учила. Она была старше, она больше умела, она выросла в среде художников. С ней он делал первые шаги, она была внимательной и чуткой. Сохранилось ее письмо, адресованное младшей сестрице Никола, которая была озабочена судьбой непутевого брата и его ссорой с родителями (Ольга жила, как вы помните, в монастыре). Вот оно, это замечательное письмо Жанин:
«Отвечая на Вашу просьбу Вам написать, я и берусь за письмо, чтобы поговорить о Коле со всей откровенностью. Он выше, он сильнее и красивее… всех окружающих, а всего больше выделяется своей духовностью. Но в настоящее время он все делает себе во вред. Если не считать редких моментов просветления, он все делает, чтобы себе навредить. К счастью, я питаю больше надежды на этот потаенный, но истинный свет, который в нем вспыхивает, чем на внешние мрачные проявления натуры. Я говорю о недостатке терпения, о желании поражать окружающих придуманными подвигами, которые в сто раз ниже его настоящих добродетелей, и т. д. и т. п. Правда, в ходе всех этих его придуманных историй и лжи он приходит, в конце концов, к тому, что открывает нечто плодотворное и даже более истинное, чем реальность… Не беспокойтесь за него, Ольга, он воистину огромен!!! Я же существо скорее прозаическое. И если я признаюсь в этом – в первый раз в жизни – то это из-за того, что уверена, что Вы, подобно мне самой, полюбили бы его, даже если он ни на что не был бы способен».
В феврале 1942 года Жанин родила дочь. Они назвали ее Анной. «Для отца она настоящее открытие, – сообщала Жанин в письме. – Когда он смотрит на нее, он краснеет от волнения. Он занимается ею не меньше моего…»
…В последние годы я каждую зиму отсиживаюсь в Ницце. Направляясь из русской приходской библиотеки к морю по коротенькой улице Лоншан, я иногда захожу в букинистический магазин месье Жака Матарассо. Месье Матарассо приехал в Ниццу во время войны. Он был молод, увлекался сюрреалистами, и в его книжном магазине собирались посудачить тогдашние авангардисты – поэты, художники, журналисты. Месье Матарассо знал многих молодых людей, которые потом прославились. Он вспоминает Зданевича, Шагала, Терешковича… Вспоминает свои удачные покупки… Одной из самых удачных и была, наверное, эта абстрактная акварель Никола де Сталя. Месье Жак Матарассо стал первым в Ницце (и в целой Франции, и во всем мире) покупателем абстракций этого прославленного абстракциониста. Такое не забывает художник, но не забыл этого и коллекционер.
– Я подарил эту картину музею в Ницце, – с гордостью рассказывает мне месье Матарассо. – Это их единственный де Сталь. На каждой выставке – эта абстракция.
Молодому Жаку Матарассо очень понравилась абстракция молодого де Сталя «Композиция. 1943». И как бесконечно был утешен художник: значит, не одной только влюбленной Жанин кажется, что он гениален. Вот ведь – заплатили деньги, смешные, конечно, деньги.
Летом 1943 года, надумав уезжать из Ниццы, де Сталь пришел в гости к Матарассо и принес ему в подарок картину:
– Вы меня подбодрили. Это Вам. Вернусь лет через десять, когда стану знаменитым… А сейчас – уезжаем в Париж.
Сталь раздавал мебель, картины: они уезжали в Париж, ибо только в Париже можно стать знаменитым.
«Разве это не парадокс? – широко разводят руками историки искус ства (особенно широко и стыдливо – левые). – Из свободной зоны – в оккупированный немцами Париж?»
Парадокс, конечно, парадокс, но их много найдется, парадоксов, если захочешь верить всей этой фальсифицированной официальной истории французского «резистанса».
«Парадоксально: в оккупированном Париже в августе 1943-го все казалось доступным, – пишет даже автор новой книги о де Стале вполне левый Лоран Грельзамер. – Помирают с голоду (это, понятно, преувеличение. – Б. Н.), Лувр закрыт (кошмар! – Б. Н.), но где-то в тенечке кипит лихорадка творчества. Галерея Франции, галерея Фридланда, галереи Жанны Бюше, Луи Карре, Рене Друэна потихонечку выставляют шедевры (в темноте, что ли? – Б. Н.). Василий Кандинский, Цезарь Домеля, киты абстракционизма – все они здесь, в двух шагах от вас».
Никола Сталь пишет в сентябре восторженное письмо Маньели: «Париж держится с редким достоинством, никогда я не видел его таким красивым. Мимоходом видел Кандинского, он уехал на каникулы, а Домеля еще не вернулся. Я пьянею от радости на прогулках, несмотря на все трудности с устройством до конца войны, я все-таки счастлив, что я здесь, меня буквально охватывает лихорадка деятельности, а в Ницце работалось с трудом».
Конечно, возглас изумления у современного левого автора – фигура риторики. Всем известно, что в оккупированном тыловом Париже, городе вожделенного отдыха для заслуженных воинов вермахта, художественная жизнь била ключом: ставили знаменитые спектакли и фильмы, писали новые песенки; Сартр творил драмы и ставил перед офицерской аудиторией, Лифарь развлекал господ офицеров на сцене Оперы и дома… И воистину процветали художественные галереи: знаменитые галеристы и маршаны-евреи бежали за океан, освободив поле для Карре, Жанны Бюше, Друэна… Тот смехотворный факт, что какой-то из видов искусства дегенерат Гитлер назвал «дегенеративным», только возбуждал повышенный интерес публики, создавал картинам рекламу, подстегивал не только публику, но и галерейщиков-«диссидентов». Именно такой была очень престижная галеристка, истинная Жанна д'Арк авангарда, Жанна Бюше. Она вела, в сущности, ничем не грозившую ей игру с цензурой и отделом пропаганды. Ну, закроют выставку – тем больше славы. Жил же главный «дегенерат» Кандинский в престижном Нейи, а «дегенерат» Пикассо – на самом что ни на есть бульваре Сент-Огюстен и, как горделиво вспоминают историки искусства, «принимал у себя коммунистов и нацистов». Правда, намекают, что просто он был при этом испанец, просто у него были особые отношения с Франко, но ведь и без Франко, если ты только не еврей, все сходило с рук, иногда даже и если… Майоль через Арно Брекера сумел вытащить свою манекенщицу-еврейку (Дину Верни) из переделки, Колетт вытащила своего возлюбленного-еврея. Русский, читая про это, усмехнется: ни Поскребышев, ни Литвинов, ни Сергей Прокофьев, ни даже сам Молотов не могли извлечь из лагерных бараков своих жен.
Отчасти художественно-коммерческая ситуация в процветавшем тыловом Париже 1944 года напоминала Москву 60–70-х годов XX века. В Москве тоже существовала «подпольная» диссидентская живопись. Самые смелые играли на этой «подпольности» под неизменным присмотром «наружного наблюдения» (обе стороны имели свой «интерес»). Какого-нибудь торопливого журналиста «оттуда» или трепещущего чиновника из посольства долларовой зоны с оглядкой проводили по чердачной жердочке в роскошное (или, напротив, убогое) ателье, к столу, уставленному бутылками, к стенам, завешанным «запрещенной» живописью. Вот так мы живем. День-ночь рискуем. Но даже официальный, вполне партийный МОСХ устраивал «полузапрещенные-полуразрешенные» выставки, полуразрешенные игры, выгодные всем. Недаром первый оттепельный роман всезнающего Эренбурга («Оттепель») был про новую (безопасную) жизнь художника.
Немногие (и в России, и на Западе) умели понять, что полузапрещенность и скандал – залог успеха. Даже на Западе: Грэм Грин понимал, а Набоков нет. Пастернаку было невыносимо страшно, а скажем, Евтушенко или Солженицын понимали, что «риск – благородное дело». Известный риск был, конечно, и в мирном оккупированном Париже, но не слишком серьезный. Зато успех всякой «полузапрещенной» акции был гарантирован. Французские историки намекают теперь, что это и было знаменитое французское Сопротивление. Русские понаписали об этом кучу мемуаров.
Седовласая галерейщица-эльзаска Жанна Бюше видела де Сталя в 1938 году в Париже и уже тогда ощутила к нему симпатию, выдала ему аванс доверия. Он вообще внушал симпатию женщинам, но, может, эта великая парижская галерейщица обладала также и особым художественным чутьем: на ее счету было уже много открытий. Сейчас, с первых шагов де Сталя в Париже, она осыпала его благодеяниями. Главное – вручила ему ключ от просторного особняка в саду на улице Нолле (дом № 54). Это на севере, в 18-м округе Парижа, в Батиньоле – тихий сад и большой дом, осененный каштанами и ясенями. До прихода немцев здесь жили известный архитектор с женой, у которых бывал «весь Париж». Они бежали в Америку, оставив и уникальную мебель, и все домашнее хозяйство. Семейство Сталя – Жанин, ее сын-подросток Антек (тоже будущий художник и поэт) и сам Никола – получило просторную светлую студию и множество комнат. Сталь работает теперь лихорадочно, днем и ночью. У него появляются новые соратники и друзья-художники: Сезар Домеля, Жорж Брак, Андрей Ланской… В вечных своих поисках, кто кого «вывел на путь», кто кому «открыл глаза», искусствоведы в случае со Сталем кивают со значением на абстракциониста Андрея Ланского. Во-первых, Ланской был русский, во-вторых, он был граф, на двенадцать лет старше де Сталя, пришел к абстракционизму в те же 40-е годы, что и Сталь, а в 1942 году уже показал свои абстрактные полотна на выставке в парижской галерее «Бери-Распай». Впрочем, некоторые считают, что под влиянием Кандинского и Клее Ланской стал отходить от фигуративной живописи еще в 1937 году.
В 1944 году Ланской выставлялся у Жанны Бюше и подписал долгосрочный контракт с галереей Карре. К этому времени он выставлялся и продавался в Париже уже добрых два десятка лет, и это не вполне заурядная история.
Граф Андрей Михайлович Ланской (он никогда не забывал о своем «пушкинском» происхождении – через генерала Ланского, второго мужа вдовы Пушкина) был даже в большей степени автодидакт, чем дворник Никита Пряхин из романа Ильфа и Петрова. Пряхин хвастал, что он «гимназиев не кончал». Зато, уточняют авторы, он окончил Пажеский корпус. Графу А. М. Ланскому довелось лишь один год поучиться в гимназии и всего год – в Пажеском корпусе. Потом были война, Белая армия, Константинополь, Париж…
Напрасно биографы ищут в детстве графа следы увлечения живописью (или большевизмом) – они неразличимы. Одни, правда, намекают, что в детстве он любил клоунов, но кто ж их не любил в детстве? Другие намекают, что в Петрограде Ланской мог забрести в «Привал комедиантов» и увидеть на стене судейкинские росписи – там, за столиком, и поучился… Или, может, был один раз в театре, где были декорации…
В 1921 году Ланской попал в Париж, и вот тут-то он познакомился с Сергеем Судейкиным и Виктором Бартом. У Судейкина, как считают биографы, А. Ланской брал уроки или консультации. Сколько уроков (и сколько консультаций), в течение скольких минут, никто не может сказать, да и важно ли это? Судейкин в Париже пробыл очень недолго, он там лихорадочно осваивал западный рынок, участвовал в трех выставках, писал картины, оформлял спектакли Балиева и по меньшей мере пять спектаклей в других театрах, переживал крах второго брака и собирался бежать в Америку… Когда он успевал давать уроки и даже «передавать» свой цвет Ланскому, представить себе трудно. Зато вот знакомство с Виктором Сергеевичем Бартом, а через него со всем кругом Зданевича, Ромова, Ларионова, советофильского «Удара» и советофильской группы «Через» могло оказаться, и оказалось, и полезным, и плодотворным. Ланской пишет портреты наподобие ларионовских и отчасти сутинских, участвует в своей первой выставке – выставке группы «Удар» в галерее «Ликорн» (1923). Ланской посещает заседания группы «Через», где больше всего толкуют о советских достижениях, о свободе «заумного» искусства в свободной и счастливой большевистской России. Летом 1924 года вместе с тем же Бартом и своим сверстником (только бывшим красноармейцем, а не белогвардейцем) Константином Терешковичем Ланской выставляет двадцать четыре работы в галерее Кармин. Редактор журнала «Удар», критик Сергей Ромов, представляет участников выставки как художников новой «русской школы», которая произрастает из «французской школы». На афише Ланской объявлен как «граф Андрей Ланской», и, думается, большевик Сергей Ромов знает, что теперь Москве нужно срочное сближение эмигрантских графов с комиссарами, а главное – признание зарубежными графами и белогвардейцами «национального правительства» большевиков. Недаром в Берлине объявился «красный граф» Толстой, а в парижском полпредстве – «красный граф» – разведчик Игнатьев.

Автопортрет А. Ланского
Для Ланского лично интерес представляют не «возвращенчество», не московские игры «Удара» и Зданевича, а тот факт, что всего через два года после приезда в Париж и начала художественной учебы он уже получает возможность выставляться, что и вообще-то не так легко в Париже для приезжего и никому не знакомого художника. Любопытно, что позднее эти эпизоды биографии Ланского были им настолько прочно забыты, что о них никогда не слышала его послевоенная ученица и подружка Екатерина Зубченко (только в войну, в 40-е годы, почти ребенком эвакуированная из Ленинграда через оккупированный Кавказ в Европу).
– Никогда не слышала этих имен – Ромов или Барт! – сказала она мне с убежденностью и подтвердила, что в эти первые парижские годы Ланской упорно учился у Ларионова и Сутина. Он рано был отмечен критикой, его картины одобрял друг Пикассо Жан Гремье, который, конечно, сразу же нашел в нем «типично славянское»: «Его первые полотна – это сцены семейной жизни и семейные портреты, сюжеты которых и манера исполнения являются типично славянскими. У тамошних художников примитивная и трогательная манера. Ланской трактует эти сюжеты с непринужденностью и, я бы даже сказал, развязностью».
Среди других «славянских» черт критики отмечали кричащий цвет, пренебрежение перспективой, уплощение пространства, однако видели у Ланского большее сходство с таможенником Руссо, чем с русским лубком. Одним из первых обратил внимание на Ланского критик-коллекционер Вильгельм Уде (тот самый, что был соседом и другом Сони Терк и, мало интересуясь женщинами, вступил с нею в фиктивный брак – еще до появления на горизонте Робера Делоне). Не решаясь предсказать, куда пойдет дальше этот талантливый Ланской, Уде кивнул в сторону неизбежного во французских рецензиях Достоевского. Зато сам Уде (а не Достоевский) привел Ланского в престижную галерею Бинг (что размещалась на улице Боэси, 20), где у Ланского и состоялась его судьбоносная встреча с коллекционером Роже Дютийелем. В этой галерее Ланской попал в весьма престижную компанию (Бонар, Брак, Дерен, Фрис, Марке, Матисс, Руссо, Ван Донген, Вламенк, Вюйяр) и получил верное направление. Галерея поддержала его материально и морально, но контракт его с галереей скоро истек, а на дворе стояли страшноватые 30-е годы. И вот тут оказалось, что самым спасительным знакомством, какое завел «красный граф» в щедром «возвращенческом» году, было это знакомство с коллекционером. Роже Дютийелю было в ту пору пятьдесят два года, и он успел до Ланского помочь своими покупками и Браку, и Дерену, и Вламенку, и Руо, и прочим. Он помогал также кубистам в 1908 году, Модильяни – в 1918-м, примитивистам вроде Бошана – в 1929-м, Клее – в 1939-м, Миро и Шаршуну – в 1941-м. Художники эти нуждались и в материальной помощи, и в одобрении, и в моральной поддержке в те годы, когда еще не были приняты публикой и галереями. Вот как писал ученый-искусствовед Ф. Бертье в своей университетской диссертации о роли Дютийеля:
«В условиях рыночной экономики, когда произведение искусства является товаром, положение художника зависит от спроса. Роль коллекционеров авангардной живописи в конце XIX и в первые годы XX века была не пустячной. Лишь они, вместе с несколькими маршанами, смогли оказывать своим любимым художникам материальную и моральную поддержку… Тот же Ланской получал материальную возможность продолжать работу на протяжении семнадцати лет исключительно благодаря Дютийелю».
Роже Дютийель (подобно Роберу Лебелю, Андре Лефевру, Вильгельму Уде и Даниэлю-Анри Канвейлеру) был одним из тех коллекционеров, что умели вкладывать в свое собирательство страсть к живописи, бескорыстие, желание отстаивать новое. Умели они и разгадать в молодом художнике их будущий путь. О жизни Дютийеля тот же Ф. Бертье сообщал: «Образ жизни его вовсе не был роскошным. Он не ездил в гости ни к интеллигентам, ни к парижским интеллектуалам. Жил он в одной квартире с братом, который посвятил себя гравюрам… Его собственные отношения с его картинами носили характер влюбленности».
Другой французский автор так писал о Дютийеле: «Наделенный необычайным нюхом, помогавшим ему избежать любой ловушки, ясным взглядом и глубочайшим интересом к развитию живописи, Дютийель собрал у себя в квартире на улице Монсо великолепную коллекцию художников, вплоть до Ланского, которому он отдавал особое предпочтение, называя его “мой колорист”…».
Итак, с самого 1928-го до 1944-го Дютийель помогал выживать и работать «своему колористу», но и в 1944 году, когда Ланской обрел успех и репутацию «абстракциониста» (вместе с контрактом на добрых семнадцать лет, подписанным им с Луи Карре), Дютийель нисколько не охладел к «своему» Ланскому и так писал о нем художнику Ван Хеке: «…избегайте “абстракции”, которой Ланской, может быть, и есть один-единственный представитель, поскольку он художник искренний и уже успел с разных сторон (как примитивист, как самоучка) утвердиться в живописи – пейзажами, цветными портретами, натюрмортами и т. д. Поскольку он утвердился, он может многое себе позволить. Он человек честный, и он не ищет в абстракции фальшивых тайн, того, что многим критикам кажется “религиозным”».
Что касается религиозности Ланского, то Дютийель касается ее осторожно: «Ланской – чистейшей воды православный, со всей церковной практикой. Вот почему он кончит свою жизнь в изгнании. Он верует во все, даже в свою “абстракцию”. Я уважаю его веру».
(Отметьте, что еще со времен, когда кисть стало возможно заменить «ослиным хвостом», и маршаны, и критики пытаются угадать, кто из художников «искренне верит», а кто спекулирует на моде или придуривается. Помню, как изумленно восклицал друг моей молодости В. Пивоваров, рассказывая о своем тогдашнем «друге и вожде»: «Он это всерьез… Он действительно верит…».)
Подробнее на мистике Ланского останавливался крупный знаток русского художественного авангарда Жан-Клод Маркаде. По его мнению, с переходом к абстракции в творчестве Ланского прежде всего «брызнул… СВЕТ»:
«Это мистический свет, исходящий из недр изначального хаоса, прошедший через призму духовности. Это и есть тот свет, который озаряет витражи средневековых соборов. Как в церковных витражах, в картинах Ланского есть всегда доминирующий свет: синий, фиолетовый, индиговый, красный, черный, белый, зеленый, всегда чистый, яркий, певучий, как в иконописи. Его палитра блещет оргией красок, вибрирующих наподобие русской старинной песни, выражающей гаммы мельчайших чувств, которые сопровождают главнейшие события человеческого существования… Художник следует за этими исконными преданиями, и его многоцветные холсты являются грандиозным эпосом русского завоевателя».
И дальше:
«Для Ланского мир познаваемый изначально один и тот же… Нет в Ланском демиургической претензии творца-наследника из индивидуалистического XIX века – заместителя Бога. Художник не соперник Богу. Он сотворец, вечный искатель новой красоты в неисчерпаемом сотворенном мире».
Я не могу утверждать, что отношения Ланского с его покровителем и покупателем Дютийелем были радужными. Подруга Ланского, художница Екатерина Зубченко, вспоминает ныне, что и Дютийель, и Дюбур «обирали» художников и богатели, что художники не испытывали к ним чрезмерной благодарности. Что ж, допускаю, что именно так и было. Первым богатеет маршан, а не художник. Впрочем, и Ланскому удалось купить какой-то замок в Тарне, так что лучше иметь маршанов-поклонников и покупателей, чем ничего не иметь.
…Когда лет двадцать спустя после их встречи с Никола де Сталем Ланского спросили (во время радиопередачи, посвященной памяти де Сталя), в чем он видит разгадку живописи Сталя и его главную проблему, Ланской сказал, что это разгадка проблемы света, разрешение этой проблемы удалось его другу.
Полагают, что именно Ланской советовал де Сталю, с которым они познакомились и даже подружились в 1944-м, не цепляться за «геометрию» и сухой графизм, а дать волю свету, размаху, воображению, полагаясь только на свой вкус. Но де Сталь ведь и с самого начала своей деятельности-бездеятельности ждал подсказки только от своего нутра, от своего вкуса. Ему не хватало раскованности, она пришла в Париже. Он все вольнее клал краски на полотно, не довольствуясь кистью, все чаще прибегая к шпателю, к ножу-мастихину. Его подбадривали новые друзья-художники и друзья-поэты, которым он очень верил. Между прочим, как раз в ту пору вдруг оказался поэтом сын Жанин, подросток Антек. Кем еще он мог оказаться в этом мире метафор и красок?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.