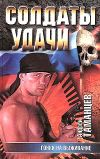Текст книги "Девочка с самокатом"

Автор книги: Дарёна Хэйл
Жанр: Боевая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Раненый, избитый Вик болтает без умолку. Эмбер должна вспоминать медицинскую энциклопедию и искать его болтливости научное основание, но в голову лезет только одно. Всё это выглядит так, будто он просто скучал и теперь пытается наверстать упущенное, рассказать максимум всего, о чём можно рассказать, наговориться за все потерянные годы…
Да, лучше бы она вспоминала энциклопедию. Возможно, окажись на месте Вика кто-то другой, Эмбер и поверила бы собственным мыслям, но вряд ли Вик действительно мог по ней скучать. Вряд ли он стремится что-либо наверстать, скорее – так ему проще. Не так страшно, не так больно и позволяет немного отвлечься от мыслей о будущем, которое – нет никаких сомнений – уже никак не зависит от планов, которые кто-то из них строил в прошлом. Будущее сжимается, превращаясь в короткий отрезок времени, и Эмбер боится заглядывать дальше завтрашнего дня или даже ближайшей пары часов.
Когда Вик, наболтавшись, наконец-то отрубается, прямо так, в неудобной позе на пыльном полу, спокойнее ей не становится.
Она только достаёт из рюкзака книжку – ту самую, которую забрала из «безопасной» квартиры, ставшей для неё первым местом ночлега, и открывает её ровно на середине. Здесь слишком темно для того, чтобы пытаться читать, но Эмбер и так прекрасно знает, о чём эта история.
Это история о Казане. Полусобаке-полуволке, который разрывался между любовью к людям, которые его приручили, и отчаянным зовом свободы. В детстве Эмбер плакала, когда читала о нём. Сейчас её глаза остаются сухими.
– 24-
Вчера, на адреналине, они не вспоминали о еде, только цедили остатки из гнутой фляжки с водой, но по пробуждении голод становится невыносимым.
Эмбер вытряхивает содержимое своего рюкзака (строго говоря, это содержимое рюкзака Вика, просто оно теперь внутри её рюкзака) прямо на пол, находит там сухари и непослушными пальцами принимается раздирать упаковку.
Вяленого мяса нет – видимо, Вик и Лисса съели его в первый же день, а шоколадку она решает отложить на потом. Пустую фляжку-бутылку с водой тоже выбрасывает, и хорошо, что у них остаётся ещё одна, хотя на двоих это – жалкие капли.
Вик наблюдает за ней, неловко вытянув ноги. Измождённый, худой и высокий, он едва ли не впервые на памяти Эмбер выглядит нескладным и неуместным.
– Ещё не надумала меня бросить? – щурится он. За ночь его глаза становятся похожими на две узкие щелочки, синева вокруг них выглядит жутко.
Ещё более жутко, чем раньше.
– Должна была?
С показным равнодушием Вик пожимает плечами.
– Если я выгляжу так же хреново, как себя чувствую, то наверняка на меня не очень приятно смотреть.
Эмбер оглядывается по сторонам, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь сквозь пыльные окна. Ей хочется знать, насколько на улице безопасно, потому что сидеть на одном месте становится окончательно невыносимо.
– Чтоб ты знал, – говорит она сквозь зубы, – меня в людях не слишком интересует, насколько на них приятно смотреть.
Она ждёт того, что за столько лет успела определить как «естественную реакцию Вика». То есть того, чтобы он сморщился и сказал какую-нибудь гадость. Например, будто по тем, с кем она общается, действительно видно, что ей наплевать, как они выглядят и насколько на них приятно смотреть.
Но Вик не говорит ничего такого. Звук, который он издаёт, похож на фырканье и хрип боли одновременно. Эмбер вздрагивает, не зная, как на него реагировать, но ничего не предпринимает.
– У меня наверняка несёт изо рта, – продолжает он приводить аргументы в пользу того, чтобы остаться здесь, пока она уходит к финишу без него.
Эмбер смотрит на него исподлобья. Серьёзно?
– И ещё я тяжёлый. И не могу идти самостоятельно.
«И у тебя отвратительный характер, – думает Эмбер. – И пыльные кудряшки, местами слипшиеся от крови, и грязная разорванная толстовка, и тяжёлое дыхание с присвистом, и набрякшие веки, из-под которых почти невозможно разглядеть голубые глаза, и ссадина на щеке, на которую страшно смотреть. И несколько лет, несколько бесконечных лет отчуждения, боли и унижений».
Ничего такого она, конечно, не говорит. Говорит другое:
– И слишком много болтаешь.
Тишину, которая после этих слов повисает внутри магазина, можно резать ножом и мазать на хлеб. Проблема разве что в том, что у них нет хлеба.
Зато есть сухари. Упаковку наконец-то получается разорвать, и она протягивает Вику один. Он берёт его осторожно, будто что-то опасное, стараясь не соприкасаться с Эмбер пальцами, и зажимает между губ, даже не пытаясь кусать. Наверное, это даёт знать о себе выбитый зуб.
В молчании они съедают треть упаковки. Нужно экономить, хотя, конечно, хочется верить, что это просто вынужденная мера и уже сегодня вечером об экономии можно будет забыть, и о сухарях можно будет забыть, и о мёртвом городе тоже можно будет забыть. Но Эмбер не уверена, что будет так просто. Точнее, она уверена в абсолютно обратном – иначе уже давно бы разглядела ворота в стене.
Может быть, ей стоит подняться на крышу ещё раз и приглядеться получше. Только на этот раз крыша должна быть повыше.
– Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться? – спрашивает она у Вика, убирая сухари и всё остальное обратно в рюкзак.
Хочется пить, а ещё – задавать совсем другие вопросы. Например, зачем и почему, или как можно было быть таким и делать такое, или что ей самой теперь делать, если при одном воспоминании о прошедших годах хочется запустить в него чем-то тяжёлым. Но сейчас не время и не место для подобных вопросов.
Стоя на краю, нет никакого смысла выяснять отношения. Если уж ты оказался у края, нужно действовать – выбираться, спасаться, делать всё, чтобы от него отползти.
– Не хочу, – отвечает Вик. Он складывает ногу на ногу, а потом меняет их местами, но в конечном итоге просто подтягивает к груди. – Но и сидеть здесь до бесконечности мы тоже не сможем.
– Я думаю найти ближайшую высотку и забраться на крышу. Ты подождёшь внизу, мертвецы в здание всё равно не полезут, а я поднимусь и попробую рассмотреть что-нибудь, что нам поможет.
Губы Вика шевелятся, словно он хочет что-то сказать, но нет, никаких слов он не произносит. Только кивает, соглашаясь, и Эмбер, легко вскочив на ноги, помогает ему подняться.
Съеденные сухари согревают желудок приятным теплом, но вряд ли это надолго. Впрочем, до критической точки тоже ещё далеко – переживать о перспективе голодной смерти можно будет начинать дня через четыре. Эмбер старается не заглядывать в такое неопределённое будущее.
Подставив Вику плечо, вместе с ним она отправляется на выход. Улица встречает их ярким светом, и Эмбер щурится с непривычки, ощущая острое желание вернуться обратно – туда, где не режет глаза, и это ей непривычно. Она прекрасно понимает: двигаться нужно только вперёд.
Пусть это и сложно.
Сегодня, после отдыха, её нога ведёт себя лучше: боль почти пропадает, как будто она снова выпила отвар из тех трав, за которыми ездила с Лиссой. Кстати, о травах… Эмбер оглядывается по сторонам, думая заметить аптеку, и только через несколько кварталов вспоминает: аптеки им не помогут. Таблетками, срок годности которых давно вышел за все мыслимые и немыслимые пределы, даже отравиться, наверное, не получится, не то что снять боль или жар.
То, что у Вика жар, она понимает в первый же раз, когда их щёки случайно соприкасаются. Словно маленький ребёнок, он с трудом держит голову, она мотается на грязной шее, то и дело наклоняясь к земле, и однажды почти ударяет Эмбер острой скулой. Её моментально прошибает нездоровым теплом.
– Ты в порядке? – спрашивает Эмбер, хотя прекрасно понимает, что нет.
Вик молча шагает вперёд, тяжело переставляя ноги и всё ещё припадая на правую. В конце концов, Эмбер не выдерживает и опускается перед ним прямо на пыльный асфальт, чтобы, прошипев злое «стой», отложить несчастную ножку табуретки, закатать штанину, присмотреться к распухшей лодыжке – и тут же отругать себя за то, что не сделала этого раньше.
– Встань, – шипит он в ответ. – Всё нормально.
Да. Она прекрасно видит это «нормально». От самого ботинка кровоподтёк поднимается выше, к колену, страшная синева сменяется тёмными фиолетовыми точками и красными полосками вздувшихся кровеносных сосудов… Эмбер кажется, что если прикоснуться и надавить – кожа лопнет, как шкурка перезревшего помидора, и всю улицу затопит дурной кровью, перемешанной с гноем.
Она поднимает взгляд. Вик смотрит на неё не больше секунды – испуганно и даже как-то затравленно, а потом отворачивается, надевая на лицо привычную маску подонка. Он хмыкает, приподнимая брови, и тянет:
– Если тебе так нравится стоять передо мной на коленях…
Эмбер примерно представляет, что он может сказать в качестве продолжения, и поэтому резко дёргает его штанину вниз, не беспокоясь о том, каково при этом станет его ноге. Вик запинается на полуслове, резко выдыхая от боли, и на мгновение ей становится стыдно, но ощущение стыда быстро проходит. Она замечает другое.
На фонаре, рядом с ними, она видит камеру. Впервые за всё время, что она провела в мёртвом городе, она замечает камеру – и это совершенно выбивает её из колеи.
Разом, за один глубокий вдох Эмбер осознаёт: их кто-то видит. На них смотрят, за ними наблюдают, они даже не подопытные животные, они – чьё-то развлечение, чей-нибудь способ увлекательно провести вечер. Не то чтобы раньше она об этом не догадывалась, это было известно всегда, просто… Даже на стадионе ни одна гонка не была для неё просто шоу, каждая проживалась по-настоящему, вживую, и сама мысль о том, что для кого-то это может быть развлечением, ей удивительна и отвратительна одновременно.
Дай ей выбор, она предпочла бы умирать здесь снова и снова, но только не смотреть, как умирают другие.
– Пойдём, – говорит она Вику, чувствуя себя не в своей тарелке.
Когда Эмбер чувствует себя не в своей тарелке, ей очень нужно куда-нибудь идти, а ещё лучше – бежать.
У Вика с этим проблемы.
– Брось меня, – говорит он ей, останавливаясь возле высотки, пока Эмбер тянет на себя подъездную дверь.
Нельзя сказать, что она сразу же отбрасывает его предложение. Эмбер не святая, и она не может не понимать, что без Вика добраться до финишных ворот (если они, конечно, вообще есть в мёртвом городе, потому что последнее время ей кажется, что выйти отсюда невозможно) будет легче и проще.
Но «легче и проще» – не всегда «хорошо», вот и всё.
Потом, уже внутри, Вик хватает её за запястье.
– Я серьёзно, – говорит он. – Будет лучше, если ты меня бросишь.
Эмбер замирает на середине движения, так и не разогнувшись. Она пытается посмотреть Вику в глаза, но тот не поднимает взгляда от пола. Опять. Как будто они играют в какую-то нелепую, глупую игру, у которой нет ни конца, ни начала, и смысла в которой тоже нет никакого.
– Для того чтобы бросить тебя, – медленно и раздельно отвечает Эмбер, – мне придётся сброситься с крыши. И, поверь, это не то будущее, которое я себе запланировала.
Он усмехается, отпуская её руку.
– У тебя, по крайней мере, был план.
Выпрямившись, Эмбер пожимает плечами. На душе скребут кошки, но она старается казаться беспечной.
– Подняться на крышу, оглядеться, найти выход и вытащить нас отсюда, вот и весь план. Забирай себе, если хочешь. Я могу поделиться.
Всё ещё глядя исключительно в пол, Вик улыбается. Эмбер не нужно смотреть ему в глаза, чтобы знать, что улыбка касается только засохших, окровавленных губ. Ни веселья, ни искреннего счастья в ней нет.
О каком веселье здесь вообще может идти речь?
– Отличный план, – говорит Вик. – Я возьму кусочек, если ты не против.
«Я против, – может сказать Эмбер. – Я против и не против одновременно. Я готова тебе оставить весь этот план вместе со своим рюкзаком, и твоим шлемом, и чёртовой ножкой от табурета, чтобы ты знал, что я тебя не брошу. И чтобы ты, если вдруг захочется, мог снова бросить меня. Я всё ещё помню всё – и ничего, как мне кажется, не прощу, но ты стоишь напротив меня, беспомощный и избитый, и чтобы злиться на тебя здесь и сейчас, нужно быть бесчувственной и бессердечной».
Чувства, которые она испытывает, настолько противоречивы, что от них кружится голова. Непостижимым образом она как будто бы видит двух Виков одновременно: того, из прошлого, и этого, нового, и к каждому относится совершенно по-разному, но вместе с тем их нельзя отделить друг от друга.
Всё внутри подсказывает ей: такие отношения нездоровы. Сейчас, когда Вик снова рядом, воспоминания об их дружбе захлёстывают её с головой. Она помнит, каково это – гулять вместе с ним, бегать наперегонки, вместе перелистывать старые книжки, прогуливать школу и всё остальное, и отчаянно скучает по каждой минуте совместного прошлого. Это нормально, наверное; нормально – скучать по тому, кто был тебе близок, и не знать, как вести себя теперь, когда вы снова рядом. И тянуться, отчаянно тянуться то ли к собственным воспоминаниям, то ли к нему, новому и настоящему, то ли ещё к чему-нибудь, но так сильно, что обжигающая тоска сжигает тебя изнутри.
В этом огне нет ничего конструктивного. Того Вика, с которым они были друзьями, больше нет. Можно ли стать друзьями с новым Виком? Вряд ли, ведь для этого придётся перешагнуть через ту пропасть, которая протянулась из прошлого к настоящему, и Эмбер не уверена… Даже не в том, что у неё хватит сил, а скорее в том, что ей это нужно.
Остаётся только подниматься по бесконечной лестнице на двадцатый этаж, снова и снова сравнивая избитое лицо Вика с озорной улыбкой солнечного мальчишки из глубин её памяти, прокручивая в голове его голос – и находя в нём новые нотки… Пока ещё можно. Пока они в мёртвом городе, она может себе это позволить. Потом лучше будет забыть, потому что дважды в одну и ту же воду не входят, а вторые шансы иногда то же самое, что самоубийство.
Вторые попытки почти никогда не приносят удачи. Ну, во всяком случае, ей, потому что сейчас, когда она второй раз стоит на крыше, пусть и уже совсем другой, ничего нового её взгляду всё равно не открывается. Всё тот же город, похожий на пирог с ягодами, всё те же ровные улицы с разбитым асфальтом, всё те же заброшенные дома и медленные, хаотично разбросанные по улицам и переулкам группы живых мертвецов. И, самое главное, всё та же стена, в которой не видно просветов.
Эмбер не знает, куда здесь идти.
Отчаяние каменной рукой хватает её за шею, стискивает горло, затрудняя дыхание, и хуже этого отчаяния только одно: мысль о том, что, может быть, кто-то уже нашёл выход из города раньше неё. Иначе почему здесь так тихо?
Конечно, победа сейчас – невозможный фантом, химера, до которой вряд ли дотянешься; и, на самом деле, дотянуть Вика для финиша гораздо важнее, чем прийти к этому финишу первой. И всё же… Ей очень хочется победить. Ей есть, ради кого это сделать.
И именно поэтому ей очень страшно. Она действительно боится, что кто-то – Лисса или Кэт – успеет их обогнать. И ещё больше она боится того, что кто-то – Лисса или Кэт – уже всё успел.
На улицах подозрительно тихо, словно зомби больше не за кем гнаться, и уже потом, спустившись вниз и отдышавшись, Эмбер задаёт Вику вопрос, который в настоящий момент волнует её сильнее всего:
– Как ты думаешь, Лисса ищет?
Вик поднимает на неё взгляд.
– Ищет, – выталкивает он сухими губами и тут же облизывает их. – Но только не выход.
Эмбер непонимающе смотрит на него, поднимая брови. Что он имеет в виду, для неё сплошная загадка, и Вик поясняет:
– Она ищет кого-нибудь, кто мог бы её туда отвести.
В его голосе нет яда, для него это просто констатация факта, но Эмбер ощущает, как по коже пробегают мурашки. Ей не по себе от такого подхода, и ещё больше не по себе от того, насколько простые слова Вика укладываются в то, какой она всегда видела Лиссу. Как вообще может быть для человека настолько естественно не быть самостоятельным и всё время надеяться на кого-то другого? Для чего вообще Лиссе такая надежда? Для чего ей постоянно пытаться прилепиться к кому-нибудь сильному?
Разве не проще всё сделать самой?
Эмбер не понимает.
А ещё она знает, что надеяться Лиссе больше не на кого. Вика она оставила за спиной, а Калани и Макс…
– Макс ей не поможет, – говорит Эмбер глухо.
– Он умер? Откуда ты знаешь? – Несмотря на вопросы, он почти не выглядит удивлённым.
– Нет, не мёртв. И жив, и мёртв одновременно. – Эмбер делает глубокий вдох. – Его укусили, ещё в первый день. В самом начале. Мы его видели.
Вик молчит, хмуря брови. Он трёт лоб, размазывая по нему кровь и грязь, и выглядит растерянным. Сейчас в нём нет ничего общего с тем победителем, который спокойно раздавал интервью журналистам после каждой выигранной гонки.
Когда Эмбер спустилась, он сидел на лестнице, уронив голову на руки, и не сразу услышал её приближение, хотя она топала как стадо коров и дышала едва ли не громче. Его глаза, наполовину скрытые опухшими веками, лихорадочно блестят, на впалых щеках полыхают алые пятна, и Эмбер прекрасно помнит, каким жаром её обдало, когда их лица нечаянно соприкоснулись.
«Пожалуйста, – думает она, – пусть он сможет идти. Пожалуйста-пожалуйста, пусть он просто сможет встать и идти».
Вик молчит, и Эмбер крутит на запястье браслет, про себя считая его тяжёлые свистящие вдохи и выдохи. Один, два. Четыре. Тринадцать.
Наконец, он открывает рот.
– Это перестаёт быть игрой, да?
Очередь Эмбер хмуриться и замолкать.
– Это никогда и не было игрой, – медленно отвечает она, чуть подумав. – Во всяком случае, для меня.
– Ты такая Эмбер, – смеётся Вик, запрокидывая голову. Этот смех не назовёшь здоровым, за него смеётся температура, но ощущение узнавания всё равно заставляет Эмбер замереть на месте.
Она обхватывает себя руками. Вместе с узнаванием внутри просыпается злость.
Она не планировала так реагировать. Она не планировала стоять в тёмном подъезде высотки и не знать, что делать дальше. Она вообще не планировала застревать здесь с Виком и возиться с ним, и оставаться без Калани тоже не планировала, и…
– Как дела наверху? – вопрос Вика обрывает её мысли на полуслове.
– Не знаю. Я понятия не имею, как нам выбираться отсюда, – огрызается Эмбер. Вик слепо щурится, и ей моментально становится стыдно. Уже мягче, она объясняет: – Сегодня я уже второй раз забиралась на крышу, второй раз смотрела на город с высоты, и знаешь что? Второй раз я ничего не увидела. Сверху не видно никаких финишных ворот. Никаких.
Вик что-то хрипит ей в шею, но она не может разобрать слов, только чувствует горячее дыхание, пытающееся забраться под воротник, и потому переспрашивает:
– Что ты сказал?
– Если ты не увидела выхода сверху, – с усилием повторяет Вик, – может быть, выход внизу?
Эмбер хочет ответить, мол, не смешно, но так и замирает с открытым ртом. Кажется, теперь она знает, куда им идти и что делать.
– 25-
Им нужно идти.
Вывод Вика логичен настолько, что Эмбер не понимает, как сама до него не додумалась. Чего ж проще: если финишный створ невозможно увидеть сверху, значит, он где-то внизу, и Эмбер не терпится проверить эту догадку. Широкая труба под одной из площадей – вот что кажется идеальным решением этой головоломки, и никакая усталость не может помешать ощущению азарта, захлёстывающему Эмбер с головой.
Ей нужно это проверить. Добраться туда и своими глазами увидеть, правы они или нет, хотя интуиция изо всех сил подсказывает, что правы. Откуда ещё можно выбраться из мёртвого города, если в стенах есть только одни ворота, и эти ворота – выход, а коллекторная труба для того и создана, чтобы выводить канализацию подальше от места, где живут люди.
Ну, то есть подальше от того места, где они жили когда-то.
Эмбер уверена, что выход будет именно там. Вот только Вик вовсе не кажется воодушевлённым.
– А если я не смогу? – спрашивает он, опираясь рукой на стену, чтобы подняться.
Он выглядит ещё бледнее, чем раньше. Тёмные тени синяков под глазами и бурые ссадины на щеках и у губ яркими пятнами цветут на уставшем, безжизненно-светлом лице, как будто на заснеженном поле вдруг проглянули проталины и расцвели невиданные цветы. С той лишь разницей, что в природе это означало бы весну и новую жизнь, а здесь и сейчас…
– Сможешь, – говорит ему Эмбер.
Она не протягивает ему руку и не пытается помочь подняться. Не время. Ей совсем не хочется снова становится объектом обидных шуток, на которые его толкает уязвлённое эго. Никогда не хотелось.
Вик вздыхает, и воздух вырывается из его губ со свистом и хрипом.
– Эмбер… – Он качает головой, словно превратившись в разумного взрослого, который пытается рассказать несмышлёной девчонке о том, что из себя на самом деле представляет их жизнь. – Я не боец. Если у меня что-то не получается, я предпочитаю этого просто не делать.
По коже Эмбер пробегают мурашки. Дело плохо, если Вик позволяет себе такие признания. Он, конечно, не Лисса, чтобы постоянно играть по чьим-то правилам и не показывать своих чувств, но хоть и придумывает для себя правила сам, всегда был далёк от того, чтобы признавать свою слабость.
Спрятать боль за бравадой, или ударить кого-то прежде, чем они ударят его, или изобразить железобетонную уверенность там, где вместо уверенности на деле есть только страх – что угодно, но не вот так вот расписываться в отчаянии и безысходности.
Эмбер пожимает плечами, пытаясь скрыть собственную растерянность.
– Ты не узнаешь, пока не попробуешь, – говорит она, ощущая себя очень глупо.
– Я уже пробую, ты разве не видишь?
Его пальцы бессильно скребут по стене, ослабевшая ладонь медленно съезжает до самого пола, и Вик, пригнув голову к коленям, заходится в приступе кашля. Ни одна прочитанная в детстве энциклопедия не может подсказать Эмбер, что с ним не так; здесь нужен врач, но в том, что что-то не так, она не сомневается. Он кашляет и хрипит, на его губах выступает светлая пена – смешанная с кровью слюна, пузырящаяся и пугающая до дрожи в коленях, она струится сквозь пальцы, которые он прижимает ко рту. На лбу выступает пот, он стекает вниз, смешиваясь с пылью и грязью.
Эмбер присаживается на корточки напротив него.
– Эй, – говорит она, не зная, что ещё сделать. – Ничего. Всё нормально.
Не разгибаясь, Вик отрицательно трясёт головой, и только протянув руку, чтобы коснуться его щеки, Эмбер замечает, что его бьёт мелкая дрожь.
– Брось меня, – неразборчиво бормочет Вик. – Иди одна.
Теперь отрицательно трясёт головой уже Эмбер. Обрывочные мысли кружатся у неё в голове: Лисса бы бросила, а Антонио и вовсе бы пристрелил, и вообще кто угодно мог бы бросить – этого не узнаешь, пока не окажешься в такой ситуации, но…
Она действительно могла бы оставить Вика здесь, в этом безопасном подъезде, и добежать до трубы – легко и свободно, тем более что нога практически перестала её беспокоить, и даже могла бы успокоить себя саму, пообещав, что обязательно вернётся за ним потом, когда убедится, что выиграет… Но Антонио ясно дал им понять: каждый участник выйдет из мёртвого города ровно тогда, когда выйдет. Сам. Или не выйдет вообще. Помощи не будет. Организаторы не планируют ни за кем возвращаться.
Их взаимоотношения с Виком сейчас не имеют никакого значения, на его месте мог оказаться любой – и Эмбер точно так же разрывалась бы, желая одновременно помочь и найти выход из города. Разве что сидела бы ближе и утешала сердечнее.
Разве что всё было бы проще.
Несколько глубоких вдохов не помогают ей успокоиться.
– Вик.
Отодвинув розовый шлем в сторону, она переползает к нему, устраивается рядом сама и устраивает его голову у себя на плече. Вик не сопротивляется, и его покорность тоже тревожна. Эмбер гладит его волосы, грязные и липкие от крови, и почему-то ей кажется, что сейчас они ближе, чем были когда-либо.
– Брось меня, – говорит Вик. – Брось, а то не успеешь.
Кровь с его подбородка капает Эмбер на шею.
«Брось его, – думает Эмбер. – Брось его, как он когда-то бросил тебя! Сделай вид, что вы не знакомы, и встань, отвернись, уходи и не оглядывайся – даже не думай оглядываться».
Она сгребает вещи и помогает ему подняться.
Его рука на плечах такая тяжёлая, его заплетающиеся ноги мешают идти, его спёкшиеся от грязи и крови волосы торчат жёстким ёжиком и больно тычутся в щёку, его вес тянет вниз, и каждый шаг даётся с трудом.
«Брось его, – думает Эмбер, – брось его, брось».
И дальше мыслей у неё не заходит.
Она упрямо передвигает ноги – одну за другой, упрямо буравит взглядом сначала серый пол подъезда, потом – серый камень крыльца и точно такой же серый асфальт, изрытый трещинами, будто морщинами. Если поднять голову, то небо наверняка окажется серым, но Эмбер не смотрит вверх, ей достаточно серого под ногами.
Серого, покрытого розовато-белёсыми пятнами – там, где пена с его губ, сорвавшись, всё-таки падает вниз. И как раз туда Эмбер старается не смотреть.
Они идут, ничего не замечая по сторонам (не только потому, что тяжело поднимать голову, но ещё и потому, что не хочется замечать отовсюду глядящие на них телекамеры), и ей остаётся только прислушиваться, чтобы не пропустить появления зомби, и надеяться на то, что необязательно скрываться в здании, можно просто вжаться в стену и замереть – и тогда они тебя не заметят. Скольких до неё подводила такая тактика? Сколькие до неё точно так же брели по мёртвому городу, надеясь отыскать выход? Сколькие до неё несли на себе бывших друзей?
Сейчас Эмбер кажется, что её бывший друг всегда был с ней. Что она всегда несла его на себе, пусть и не в прямом смысле, а в переносном: не на плечах, а где-то за рёбрами; он всегда жил именно там, и память о нём жила тоже именно там, и, может быть, именно эта память делала её жизнь такой тяжёлой и сложной – всякий раз, кроме тех, когда в крови закипал адреналин, призывавший к свободе.
«Было бы символично, – думает Эмбер, – избавиться от этой тяжести раз и навсегда, прямо здесь, и стать наконец-то свободной». Символично и нереально. Она никогда так не сделает. Просто потому, что потом не сможет смотреть на себя в зеркало и жить с самой собой тоже не сможет. Просто потому, что избавляться от того, что делает тебя слабой, нужно по-честному, а не тогда, когда твоя слабость может умереть без тебя (и всё равно убьёт тебя этим).
Бросить Вика сейчас будет… Не будет. Если она оставит его здесь, еле живого на развалинах мёртвого города, это не будет победой. Это будет бегством и поражением, но никак не победой, и пусть она всегда от чего-то да убегала, сейчас – не тот случай. Если она оставит Вика и уйдёт без него, она всё равно никуда не уйдёт, он так и останется у неё между рёбер, только теперь горькая память будет приправлена ещё одним чувством – чувством вины. Не тот груз, с которым вообще выживают. И дело тут вовсе не в том, что она недостаточно сильная. Никто бы не выжил.
Она справится со своими проблемами, но потом, когда будет готова посмотреть им в лицо. Когда их лицо не будет мертвенно-бледным. Когда на нём не будут диковинными цветами полыхать ссадины и синяки. Может быть, это разрушительный путь, может быть, это почти что самоубийство, но Эмбер хочет быть честной.
И потом, именно сейчас Вик не делает её слабее. Нисколько. Ирония судьбы, но с ним она сильнее, чем без него. Без него она, возможно, уже устала бы сражаться – и перестала бы. Сдалась и всё бросила. Калеи – её единственный повод для выигрыша – ещё так далеко впереди, а Калани уже так далеко позади, что между «ещё» и «уже» становится слишком легко потеряться. Просто перестать бежать и навсегда остаться здесь, потому что так проще.
Ничего не делать всегда проще, ведь так?
Вик говорил, что он не боец, как будто намекая, что если кто и боец, то это она, Эмбер, но самое смешное заключается в том, что без него вряд ли у кого-то вообще был бы хоть какой-нибудь повод считать её сильной. Останься он рядом с ней, с детства и до сегодня, и ей не пришлось бы встречать каждый свой день в одиночестве, не пришлось бы учиться самостоятельно справляться со всем, что с ней происходило. Да, по сравнению с проблемами многих участников гонок её проблемы просто смешны, но это не означает, что они не имеют значения и от них не может быть больно. Глупо сравнивать, кому больнее и хуже.
Не надо сравнивать, и не надо чувствовать себя виноватой, если чья-то жизнь сложилась печальней, чем складывается твоя, и казнить себя по поводу и без тоже не надо. Надо вставать и разбираться, и именно этому научил её Вик. Точнее, то время, которое она провела без него, снося его же насмешки.
А теперь… Теперь он – её причина не опустить руки и, несмотря ни на что, дойти до конца. Не только потому что ей просто нравится идти (в бесконечной пустоте между Калани и Калеи, кажется, вообще нет критерия «нравится»), но и потому что просто нужно. Нужно, и всё тут.
Нужно – и, сцепив зубы, Эмбер идёт.
Она запинается только один раз – когда находит на асфальте прядь рыжих волос. Тошнота подкатывает к горлу моментально, и Эмбер крепко сжимает челюсти, вскидывая голову, чтобы осмотреться. Придерживая ладонью руку Вика у себя на плече, она обводит взглядом узкую улочку, хотя больше всего на свете сейчас, пожалуй, хотела бы убежать и не видеть.
Не видеть, например, впечатанного в стену мотоцикла, который когда-то был блестящим и чистым, а теперь покрыт гниющими фрагментами тел – видимо, Лисса прямо на нём вламывалась в толпу живых мертвецов, превращая их в кашу, а они только и могли, что цепляться за руль и сиденье истлевшими конечностями. Рядом с мотоциклом ничего нет, и это означает, что Лисса, пусть и не справилась с управлением, но сумела выжить, сумела спрыгнуть и побежать. Кто знает, может быть, она спрыгнула с мотоцикла раньше, и он врезался в стену уже пустой, по инерции.
Эмбер хочется свернуть, чтобы не знать продолжения этой истории, но как назло до ближайшего переулка ещё идти и идти.
Вик у неё над ухом матерится сквозь зубы, и его тело становится будто бы тяжелее, а пальцы впиваются Эмбер в плечо так крепко, что там наверняка останутся синяки.
Стараясь унять тошноту, Эмбер судорожно сглатывает, но лучше, конечно же, не становится. Они идут дальше, и на глаза то и дело попадаются следы недавней борьбы: фляжка и фонарик, которыми Лисса, видимо, бросалась в зомби, разорванный рюкзак с испорченным содержимым – наверное, она отбивалась им точно так же, как Эмбер когда-то, но это ещё не самое худшее. Хуже всего становится, когда Вик случайно наступает на рыжие волосы: прядь, вырванная прямо из головы. А потом ещё и ещё. Пару раз даже с кожей.
Когда Эмбер замечает чёрный сапог, каблуком застрявший в асфальте, всё у неё внутри холодеет. Вопрос, недавно заданный Вику, становится неактуальным: что бы Лисса ни искала в мёртвом городе, кажется, она уже ничего не найдёт. Ни здесь, ни в Столице, ни где-то ещё.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.