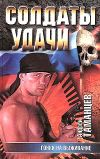Текст книги "Девочка с самокатом"

Автор книги: Дарёна Хэйл
Жанр: Боевая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Некому больше искать.
От сапога вперёд убегает цепочка следов. Сильно сказано, конечно – на самом деле это просто отпечатки одной ноги, пятна крови. У мусорных бачков, притаившихся между двух домов, валяется второй сапог, его каблук сломан. Здесь Лисса разулась, но надеяться на лучший исход бесполезно: у ближайшего подъезда Эмбер замечает бесформенную тёмную кучу.
Лисса не успела спрятаться.
И обратиться тоже не успела. Её не укусили, её буквально разорвали на куски. И им с Виком нужно пройти мимо того, что от неё осталось, если они хотят двигаться дальше.
Вместо лица у Лиссы – сплошная рваная рана, как будто его то ли сгрызли, то ли просто долго возили по асфальту, стирая с него кожу, как когда-то сама Лисса стирала с лица макияж. Волосы вырваны и оранжевыми лентами валяются рядом, скальп наполовину сорван – держась за край, на нём висят чёрные от гнили пальцы. Похоже, когда зомби вцепился в голову Лиссы и дёрнул, отошла не только её кожа, но и его собственная истлевшая плоть, как было тогда, с челюстью, вцепившейся Эмбер в жилетку.
Руки Лиссы вывернуты под неестественными углами, на одной не хватает кисти, другая заканчивается возле локтя. Кожаные штаны разорваны, белые ноги под ними располосованы, изломанные колени сверкают алой кровью и белыми пятнами торчащих костей. Ниже этих костей – только пустые штанины, и Эмбер отпускает Вика, чтобы подойти ближе. Она ни на что не надеется, просто хочет проверить и словно со стороны видит собственную руку, которая тянется к окровавленной шее Лиссы.
Умом она, конечно, понимает, что с такими повреждениями не выживают, но всё равно зачем-то ищет пальцами сонную артерию и, затаив дыхание, пытается нащупать пульсацию.
Ничего.
Только Вика у неё за спиной начинает тошнить, и этих звуков оказывается достаточно, чтобы и её самообладание дало огромную трещину. Поспешно отвернувшись от Лиссы, Эмбер упирается ладонями в асфальт – на языке разливается неприятная горечь. Сначала её тошнит желчью и утренними сухарями, потом – утренними сухарями и желчью, а потом опустевший желудок пытается вытошнить сам себя и все другие внутренности снова и снова, а ещё позже Эмбер замечает, что чьи-то руки касаются её головы, придерживая волосы и не давая ей удариться лбом о бетонный бордюр.
Её трясёт так, что она совершенно не контролирует своё тело и собственные движения.
Руки у Вика липкие и холодные, но это лучше, чем если бы она была здесь одна.
Он убирает её волосы за уши, заглаживает чёлку назад, медленно поднимает. Вытирает её губы собственным рукавом и хмурится в ответ на её вопросительный взгляд. Его глаза моментально становятся жёсткими, как будто она сказала ему какую-то гадость.
Как будто это она всегда была тем, кто в принципе говорил какие-то гадости.
– Раньше начнёшь, раньше закончишь, – бросает он, словно стремится объяснить, что раз его раньше согнуло пополам от увиденного, то и содержимое желудка закончилось раньше, и вот, пожалуйста, теперь он готов о ней позаботиться, ничего необычного.
Просто по-дружески.
Ну разве что они – не друзья.
Эмбер садится на колени, удерживая его запястья. Вик держит её лицо в ладонях и не отводит взгляд. В кои-то веки.
У неё нет сил думать, что это значит и чем оно закончится. Эмбер закрывает глаза.
– Лисса… – только и может сказать она. – Мне очень жаль.
Вика с ней вроде как что-то связывало. Эмбер не сомневается, что именно. Если они и не ночевали в комнатах друг друга, то только потому что предпочитали засыпать в одиночестве. Для Лиссы, надо думать, секс был естественным продолжением выбранной линии поведения, что-то вроде звериного инстинкта найти себе лучшего самца и завести от него потомство, только без потомства, а вот для Вика…
– Мне тоже жаль, – отвечает он. Сожаления в его голосе нет, но так, наверное, даже лучше, потому что если он сейчас начнёт страдать, Эмбер этого просто не выдержит.
Поплакать они оба смогут потом, когда всё закончится, а сейчас нужно выбираться отсюда. Минутка слабости, минутка тошноты и минутка пальцев Вика у неё на щеках закончились – практически одновременно; настало время вставать и идти.
Снова.
– Нет, – стонет Вик, когда она поднимается с места. На его лице, кроме ссадин и синяков, расцветают ещё и красные пятна румянца. У него жар. Опять.
– Да, – говорит Эмбер, протягивая ему руку, и сейчас этот жест даётся ей чрезвычайно легко.
Так легко, что на мгновение ей становится страшно привыкнуть. Злясь на саму себя, она резко дёргает уже начавшего подниматься Вика вверх, и тот, пошатнувшись, почти заваливается на неё. Он обхватывает её, чтобы не упасть, цепляется, прижимает к себе, весь горячий, и Эмбер злится на себя ещё больше.
В молчании они преодолевают примерно четверть пути. Импровизированная дубинка в руке Эмбер кажется ей слабым утешением и практически никакой защитой после того, как она увидела, что зомби сделали с Лиссой, но она всё равно её не бросает. Если придётся драться, то Эмбер хочет сделать всё возможное для того, чтобы подороже продать свою жизнь. И всё же… Она надеется, что драться им не придётся. Именно поэтому им приходится прятаться, когда мертвецы оказываются рядом, и осторожно выглядывать из-за каждого поворота, и пугаться каждого шороха, и почти не дышать. Перед глазами всё ещё стоит мёртвая Лисса… Нет, на самом деле, перед глазами всё ещё стоит лицо Вика, когда он сидел напротив, гладя её по щекам, хотя должна бы стоять мёртвая Лисса, и на душе у Эмбер так паршиво, что попадись ей на дороге пара живых мертвецов, она, наверное, разорвала бы их на части. Голыми руками, даже без ножки табуретки.
«За что! – думает она. – Я не хотела всего этого. Я всего этого не хотела!»
Игры играми, гонки гонками, всё что угодно всем чем угодно, но она не собиралась воскрешать бывшую дружбу и дважды лезть в одно и то же дерьмо.
Дыхание Вика у неё над ухом надсадное, хриплое, и ей становится стыдно перед этим дыханием за то, что она называет его хозяина дерьмом, пусть и мысленно.
Эмбер хочется выть.
Она почти позволяет себе то ли действительно взвыть, то ли просто выдохнуть – громко и долго, как вдруг Вик замирает. Его хватка на её плечах превращается в железную, не даёт сделать и шага. Эмбер так и останавливается с поднятой ногой и тут же гневно разворачивается к Вику.
– Тихо, – встречает её едва слышный шёпот. – Идут.
Убежать у них нет ни малейшего шанса. То есть тело Вика, судя по всему, ещё способно на подвиги, потому что любой метр в его состоянии – подвиг, но просить о чудесах было бы окончательной наглостью. Либо бежать, либо прятаться, и ни для кого из них двоих не секрет, что Эмбер предпочитает бежать, но Вик забивается в узкий проход между домов и тащит её за собой. Значит, прятаться.
На этот раз они совсем не в безопасности, как тогда, в магазине. От безопасности не остаётся даже иллюзии, когда мертвецы нестройной толпой проходят совсем рядом – протяни руку, и притронешься к зловонным телам. Эмбер не протягивает к ним руки. Эмбер осторожно отступает в темноту, натыкаясь спиной на грудь Вика, и отчаянно уговаривает своё сердце не колотиться так громко.
Ей страшно. Им обоим страшно. Не нужно оборачиваться и смотреть, чтобы почувствовать испуг и напряжение Вика.
Им обоим страшно настолько, что потом, когда зомби уходят (а они уходят нескоро), сил хватает только на то, чтобы, не выходя из узкого закоулка, вломиться в выходящую сюда же дверь чёрного хода и устроиться там на ночлег.
Жажда сводит с ума, и они по очереди пьют из бутылки, припадая к ней иссушенными ртами, пока на дне не остаётся совсем мало воды. «Необходимо её сохранить», – думает Эмбер, с усилием отрываясь от узкого горлышка и убирая бутылку-флягу обратно в рюкзак. Разноцветный и детский, с ярко-зелёными вставками и рисунком из каких-то забавных зверят и цветочков, он кажется слишком светлым и радостным для того, что происходит сейчас.
Победа, с одной стороны, становится всё более и более призрачной, а с другой… Эмбер как может гонит от себя некрасивую мысль, но если Лиссы теперь нет в живых, то и конкуренции меньше. Претендентов на победу остаётся лишь трое: она сама, Вик и Кэт, причём точно сказать можно только насчёт неё и Вика, ведь кто знает, что сейчас с Кэт.
Она вполне могла, например, оказаться в той стае живых мертвецов, которые только что едва не заставили Эмбер поседеть. Или там мог оказаться Калани.
Эмбер стискивает зубы, чтобы не разреветься. Она не собирается плакать при Вике. Если он станет смеяться над ней, она его просто убьёт. А если он её пожалеет – это убьёт её саму. Ей не нужна его жалость.
Впрочем, вряд ли он сейчас способен на жалость, равно как и на насмешки. Усталость, боль, травмы и нервное напряжение дают о себе знать одновременно: Вик проваливается в некрепкий, горячечный сон, то и дело прерываемый бредом. Он снова и снова говорит что-то про «брось меня», про ярко-оранжевые ленты волос на сером асфальте, про лето, воду и солнце (Эмбер не хочет вспоминать, не хочет, не хочет, не будет), про похожую на фляжку бутылку у неё в рюкзаке (последние капли воды Эмбер тратит на то, чтобы смочить ими отрезанный от футболки рукав – и приложить его ко лбу Вика, размышляя о том, насколько глупа надежда найти воду в давно неработающих кранах мёртвого города). Вик бормочет что-то неразборчивое и иногда зовёт её по имени, но тут же замолкает и засыпает опять.
Если бы только у Эмбер были с собой хоть какие-нибудь травы… Перевязанные красным, перевязанные жёлтым, перевязанные зелёным, неважно. Она бы придумала что-нибудь. Она бы справилась. Она бы не сходила с ума, понимая, что либо в ближайшие сутки они доберутся до врачей, либо она рискует потерять в этом городе не только Калани.
«Нельзя потерять то, чего у тебя нет», – тут же одёргивает она саму себя. Вика у неё нет. Вика она в любом случае не потеряет.
Он приходит в себя, когда время по её ощущениям подходит почти к бесконечности. Три или четыре часа ночи, наверное. Свет луны падает прямо в крохотное окно – и аккуратными квадратиками дробится на полу лестничной площадки, которую они выбрали для ночёвки.
Ну, то есть как «выбрали». До которой они смогли доползти.
В этом свете лицо Вика выглядит откровенно пугающим.
– Я видел их, – говорит он хрипло, но внятно. Его взгляд кажется неожиданно осмысленным, совсем не пустым, вовсе не затуманенным болью, как было последние несколько раз, когда он открывал глаза.
– Все видели, – отвечает Эмбер. Если уж она тащит бывшего друга и лучшего врага на себе, если она сидит с ним в призрачном свете на пыльной площадке, бесчеловечно оставлять его без ответа.
Но, в самом деле, кто из них не видел живых мертвецов?
– Нет, – морщится Вик.
– Что «нет»?
– Я не про зомби.
Поразительно, как после стольких лет он всё ещё может читать её как раскрытую книгу.
Или, одёргивает себя Эмбер, кто знает, не исключено, что просветление наступило на фоне жара, бреда или сотрясения мозга, а до этого она была для него тёмным лесом.
– Кого ты видел? – спрашивает она, скатываясь по стене прямо напротив него и, обняв колени, смотрит Вику в лицо.
– Своего отца, – медленно отвечает он, и на спёкшихся было уголках губ снова начинает пузыриться кровь, смешавшаяся со слюной. – И твою мать. Вместе.
Хорошо, что Эмбер успела сесть.
– Что ты имеешь в виду? – глупо переспрашивает она.
Вик ухмыляется. Это чужая, незнакомая ухмылка, которую Эмбер, однако, видела на его лице тысячу раз, вот только появилась она уже после того, как они перестали называть друг друга друзьями. К которой она успела привыкнуть за то время, когда они перестали называть друг друга друзьями.
В лунном свете эта ухмылка выглядит особенно жутко.
Собственно, её одной вполне достаточно для того, чтобы обо всём догадаться, такая она грязная и откровенная, но Эмбер не хочет догадываться.
Но Вику плевать.
– Она выходила из его спальни, – всё так же медленно и тихо говорит он, только слова всё равно звучат будто молот. – Платье было расстёгнуто. В дверях они целовались. Выходила из его спальни она, а возненавидел я почему-то тебя.
На мгновение Эмбер зажмуривается.
Это уже чересчур. Слишком много всего: мёртвый город, мёртвая Лисса, мертвенный лунный свет, тихий голос Вика, его свистящее дыхание и его ужасные откровения. Слишком много, чтобы вынести здесь и сейчас, и Эмбер представляет себе щербатую кружку Хавьера. Она сама – щербатая кружка Хавьера, ещё пара капель – и всё.
– Логично, – ровно говорит она.
Кружки ничего не чувствуют, кружки ничего не чувствуют, им даже не горячо и не холодно, не горячо и не холодно, кружки ничего не чувствуют, не…
– Нет. – Вик скалится, и пустота на месте выбитого верхнего зуба скалится тоже.
Нелогично.
Они молчат. Эмбер молчит, и Вик молчит, и пустота вместо зуба, и кружка Хавьера с щербинкой на самом краю – они тоже молчат. Здесь тихо, даже очень, только за несколько улиц отсюда раздаются глухие удары – кто-то из живых мертвецов с завидным упорством раз за разом ударяется то ли об стену, то ли об остов какого-то автомобиля.
– Это было в ту ночь, – выдавливает из себя Вик, кровь стекает на подбородок, – когда она выкинула твоё шмотьё на помойку.
Эмбер кивает. И снова логично, даже если Вик опять будет спорить.
Ей совсем не хочется всё это знать и вместе с тем очень нужно узнать всё до мельчайшей детали. Саморазрушение и способ проснуться одновременно: как во сне, когда ты настолько устаёшь от догоняющих монстров, что втыкаешь себе в грудь первый попавшийся острый предмет – давай, просыпайся.
С той разницей, что всё и так наяву. Эмбер не спит.
– Я думал, что отомщу ей, если сделаю больно тебе.
Эмбер хмыкает.
– Ты ошибся, – отвечает она, чувствуя, как в груди зарождается смех. – Ей наплевать.
Она смеётся, и Вик тянется к ней через узкое пространство, чтобы зажать ей рот и не дать приманить к их убежищу всех живых мертвецов, согнанных в разрушенный город ради финала, но вместо того, чтобы накрыть её губы ладонью, почему-то прижимает к себе – так что можно решить, будто это Дженни или Калани, кто-то, кому не всё равно и никогда не было всё равно, кто-то, кто не сделал ей ничего плохого, только хорошее. Но рядом только Вик, и она зарывается лицом в его пахнущую кровью толстовку, и смеётся, смеётся, смеётся.
Эмбер смеётся и никак не может остановиться.
– 26-
Ночь проходит быстро. Так быстро, что Эмбер даже не успевает отдохнуть, но зато успевает в который раз отмотать время назад, словно перелистать страницы какой-нибудь книги – сразу десятками, если не сотнями, и вспомнить всё, что на самом деле не стоило бы вспоминать.
Она прокручивает в голове совместные прогулки и посиделки на берегу, и смятые записки на уроках математики в школе, и ту единственную дружбу, которая была у неё до участия в гонках, ту единственную дружбу, которой не стало намного раньше, чем случилось гонки. Расцарапывая саму себя, она вспоминает все обидные слова Вика, все его усмешки и презрительные взгляды – один за другим, и толчки в плечо, и демонстративное нежелание находиться рядом, стоило им только оказаться друг к другу ближе, чем на метр.
Всё это теперь обрастает новыми смыслами, окрашивается новыми красками, и ей больше не хочется смеяться. Она сидит всё так же, рядом с Виком, и близость его тёплого бока кажется пыткой, но Эмбер не отстраняется. Смысл?
Он находился чуть дальше, когда делал ей больно и наслаждался реакцией – тогда, на вечеринке в честь первой гонки, и был совсем далеко, когда раскрывал журналистам её семейные тайны, но это не мешало ему ранить так, будто он орудовал не словами, а острым ножом – с максимально близкого расстояния. Что изменится от того, что теперь её голова лежит у него на плече?
Ничего.
И вместе с тем – теперь всё действительно по-другому. Теперь Эмбер знает больше – возможно, даже больше, чем следовало, если бы она хотела, чтобы всё было просто. Уже можно с уверенностью сказать себе: «Просто не будет», и она только стискивает кулаки и крепче сжимает зубы, жмурясь, чтобы не плакать.
Каждый раз, когда Вик пытался сделать ей больно, он делал больно себе. Она могла бы позлорадствовать, но вместо злорадства только усталость и голод, сдавливающий желудок костлявой рукой. А ещё тоска, такая тёмная и всепоглощающая, что даже мерцающий лунный свет кажется сплошной чернотой, что и говорить об убегающей вверх лестнице, на которой не видно ни зги.
Эмбер тоже хотела бы убежать, но бегство сейчас слишком большая роскошь. Нужно остаться. Остаться и посмотреть в глаза всему, что с ней происходит. Посмотреть в глаза тому факту, что её мать спала с отцом Вика, и что именно этого Вик не смог ей простить. Посмотреть в глаза тому факту, что у Вика была причина не разговаривать с ней и делать ей больно (пусть со стороны его причина и кажется нелепой и глупой), а заодно – тому факту, что знание этого вовсе не делает жизнь легче. Ничто не означает, что ей станет легче.
Ей не легче от того, что за всеми обидами и унижениями стояла другая обида, и что Вик наверняка злился и плакал (и стыдился собственных слёз), что он, скорее всего, в кровь сбивал костяшки пальцев о стены своего дома – и ничего не мог сказать своему отцу, просто потому что отец ни за что на свете не стал бы его слушать. Теперь она знает, что заставило того, прежнего Вика стать Виком новым, и вполне представляет, как ему было мерзко, больно, страшно и отвратительно – но от этого тоже не легче.
Но хуже всего вспоминать о другом.
Хуже всего вспоминать о том, как он увёл её со двора бывшей гостиницы – подальше от ошалевших фанатов, как его руки жгли её через футболку и как в его глазах плескалось что-то, о чём он так и не сказал. Что он тогда чувствовал? О, Эмбер знает его достаточно, чтобы ответить: он был в бешенстве от того, что кто-то посмел её тронуть (она видела это бешенство на его лице каждый раз, когда кто-нибудь – ещё до их ссоры – кричал ей в спину обидные гадости, вот только она обычно успевала заткнуть обидчика раньше, чем Вик). Он был в бешенстве от того, что кто-то посмел её тронуть, а ещё – он был в бешенстве от того, что посмел ей помочь.
Он этого не хотел. Он хотел, чтобы ей было больно – и её матери было больно (они ведь предали его, обе предали, и если Эмбер знала о той интрижке, то она становилась предательницей номер один, и кого волновало, что до сегодняшней ночи Эмбер о ней не догадывалась). И он с успехом справлялся, легко находил все нужные точки для того, чтобы сделать ей больно, но когда то же самое пытался сделать кто-то другой…
Эмбер никогда не была девочкой, которая нуждается в чьей-то защите. А Вик всегда был готов защищать её от всего мира.
И даже после того, как они прекратили общаться, это желание никуда не ушло. Только теперь он ненавидел себя всякий раз, как ему подчинялся.
С Дженни и Джонни, с Калани всё было проще в тысячу раз. Она всё ещё не была девочкой, которая нуждается в чьей-то защите, но зато была девочкой, которая не откажется от тепла и заботы – и они могли это дать. Они хотели ей это дать. Они дружили с ней, они любили её, они окружали её теплом и заботой – и не корили себя за каждое доброе слово. Они обнимали её, и им не хотелось после этого отрубить себе руки.
Всё было так просто.
Они могли сказать ей всё что угодно и сделать ради неё всё что угодно, им не нужно было ни стыдиться, ни скрываться, ни прятаться… Ни маскировать свою помощь под очередную колкость и гадость. Эмбер не дура. Она прекрасно понимает: когда Вик рассказал журналистам о её матери, он убил одним выстрелом сразу двух зайцев. Или даже трёх. Наконец-то добрался до её матери и ранил саму Эмбер, но вместе с тем – обезопасил её от нападок болельщиков, гонщиков и журналистов.
Самое смешное, что никто не смог бы сделать это лучше и надёжней его.
Самое смешное, что, обеспечив ей такую надёжную защиту от чужих домыслов, расспросов и нападений, он собственными руками увеличил пропасть между ними, как будто было вообще куда её увеличивать.
Интересно, как он тогда себя чувствовал?
Эмбер силится представить этот коктейль ощущений – и не может. Злость. И обида. И удовлетворение от того, что ей больно. И торжество от того, что её мать получила своё. И страх – что скажет отец. И старательные попытки не думать о том, что сделать ей больно – значит спасти её от всех остальных. И невозможность не думать о том, что спасти её от всех остальных – значит сделать ей больно. И ненависть к себе за желание уязвить, и стыд за желание спасти, и наоборот точно так же. И невозможность ничего изменить, что самое страшное.
И ещё одна невозможность – невозможность забыть и не думать.
Не бывает бывших друзей, не бывает. Даже если нить между вами рвётся, даже если её перевирает и искажает какое-нибудь злобное зеркало, ничего всё равно не проходит бесследно. Вы никогда не будете друг для друга двумя незнакомцами.
Вам всегда будет больно.
Эмбер прижимает ладони к груди, пытаясь унять то, что бушует внутри. У неё внутри поселился свой собственный Казан, полуволк-полусобака – это её тоска: она воет на луну, но если так будет и дальше, то к зданию, где они спрятались, сбегутся все живые мертвецы… И выйти уже не получится.
Где-то далеко-далеко начинает заниматься рассвет. Небо медленно светлеет, и на лестничной площадке становится самую малость светлее, и Эмбер смотрит на поникший профиль Вика и не может от него оторваться. Раз уж она и так всегда носит его с собой, между ребёр, то надо запомнить и эти полутёмные кадры: рваную ссадину на щеке, и разбитые губы, и синяк вокруг глаза, и правильную дугу брови, и прямой нос с красиво вырезанными ноздрями, и слипшиеся ресницы, и нависшую надо лбом кудрявую чёлку.
Вик просыпается резко, как будто отряхиваясь ото сна, как собака. Он быстро-быстро моргает, а потом кривится и щурится, разминая лицо, трёт глаза и, не поворачиваясь к Эмбер, спрашивает:
– Как ты?
– Нормально, – отвечает Эмбер. Выходит пискляво и слабо, так что она откашливается перед тем, как продолжить. – У нас нет воды, и из еды осталась одна шоколадка. Нужно идти.
– Да… – Вик соглашается, но даже не пытается встать. – Ещё пять минут посидим…
Пять минут растягиваются, Эмбер не может точно сказать, на сколько, но явно не на десять и даже не на пятнадцать. На неё нападают сонливость и равнодушие одновременно, и она уже тянется ущипнуть саму себя за запястье, чтобы взбодриться, как за неё это делает внезапный вопрос.
– Что у тебя было с Дженни? – спрашивает Вик, глядя в стену.
– Что?
– Она ходила в твоей футболке. На завтрак. – Он тяжело сглатывает и с усилием продолжает: – Если бы девушка пришла на завтрак в моей футболке, это бы означало только одно…
Эмбер надевала его футболку. Однажды. Они ходили на берег: смотрели на воду, бегали по деревянным мосткам. Прогнившим, как выяснилось. Мостки под ней проломились, и Эмбер рухнула вниз, успев только нелепо взмахнуть руками. За эти руки и поймал её Вик, ещё и держал с полминуты, засранец, вместо того, чтобы вытащить. Дразнил. Говорил, что поможет, только если она даст ему что-нибудь почитать. Она, конечно, пообещала – не сразу, сквозь зубы, потому что, Вик, это не по-дружески, хватит, а он только смеялся, так что в конце концов и она тоже смеялась. Они оба смеялись, но вода была всё-таки очень холодной. Вик тогда отдал ей футболку и отвернулся, а Эмбер сняла с себя мокрую майку и шорты и моментально переоделась.
Моментально, потому что боялась, что он будет подглядывать.
Через два дня она принесла ему книгу – рассказы о животных, про огромного полуволка-полусобаку, который пытался примирить в себе тягу к свободе и любовь к человеку, а через два года случилось то, что случилось.
– Ты слишком много болтаешь, – говорит она гораздо грубее, чем чувствует. Эмбер не знает, почему, но ей совсем не хочется думать о тех, кто спускался к завтраку в его футболках.
Вик улыбается. Его лицо – сплошная корка засохшей грязи и крови, но это улыбку нельзя не узнать. Тогда, на реке, именно так он и улыбался.
– А у тебя веснушки на плечах. Я видел. И что?
«Ничего, – думает Эмбер. – Совсем ничего. В том-то и дело».
Она тяжело вздыхает и цитирует его самого:
– Раньше начнём, раньше закончим. А на середине пути я, так и быть, дам тебе шоколадку.
– Шантаж, – тянет Вик. – Пытаешься подкупить меня шоколадом. Прямо как в старые добрые… – Он не договаривает.
Он не договаривает, и как-то сразу становится ясно, что никуда они прямо сейчас не идут, потому что сразу за «старыми добрыми» следует такой оглушительный кашель, что Эмбер хочется зажать себе уши руками. Она беспомощно замирает, едва решаясь положить Вику руку на плечо, и чувствует себя бесполезной и беззащитной, как будто с неё содрали кожу и бросили умирать, как будто это она, а не он, кашляет кровью на грязном полу чёрного хода.
Нет лекарств. Нет воды. Ничего у них нет.
А Вик кашляет, и кашляет, и кашляет, и Эмбер теряет счёт времени. Всё, о чём она может думать, это «пожалуйста, пусть он не умрёт у меня на руках, пусть он вообще не умрёт ни здесь, ни когда мы найдём отсюда выход». Его кашель звучит как гром, он разрывает ей барабанные перепонки, а потом всё неожиданно резко заканчивается, и Эмбер тянется вытереть кровь с его губ – бесполезно, потому что крови слишком много, слишком.
Вик утыкается лбом в её плечо, и руки Эмбер неловко повисают вдоль тела. Она отвыкла от него. Она не знает, что делать.
– Всё будет хорошо, – обещает Эмбер, наконец находя собственный голос и обнимая Вика, баюкая его у себя на плече. – Всё будет хорошо, и мы вернёмся домой, и наши родители будут нами гордиться, и всё будет как раньше…
Она врёт напропалую и, что хуже, не верит ни единому слову. Вик тоже не верит.
– Ничего… не будет, – хрипит он ей в шею.
Эмбер обнимает его, пытаясь удержать, как будто руки, вцепившиеся в толстовку, как-то в этом помогут.
– Мы можем не возвращаться домой, если не хочешь. Давай останемся в Столице, найдём чем заняться…
Ложь выходит такой же слабой, как предыдущая. Наверное, лучше молчать.
В тишине их дыхание кажется почти громовым. Вик дышит рвано и хрипло, как будто с каждым вдохом воздух с трудом пробивается к нему в лёгкие, и, кто знает, может быть, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть, думает Эмбер.
– Я так перед тобой виноват, – говорит Вик. – Прости меня. Скажи, что простила.
– Конечно, простила, – врёт Эмбер. – Всё будет хорошо, я тебе обещаю. Мы выберемся отсюда, Лилит найдёт хороших врачей, ты будешь как новенький. Я никогда тебя не оставлю.
На этот раз у неё получается. На этот раз она сама почти верит.
И Вик тоже верит. Он расслабляется у неё в руках и снова проваливается в тяжёлый горячечный сон: его руки подрагивают, ноги порываются куда-то бежать… Они так любили бегать когда-то. Постоянно носились наперегонки, и в девяти случаев из десяти Вик побеждал, но каждый десятый всегда был таким сладким. Они так смеялись! Они были такими детьми.
«Я никогда тебя не оставлю», – мысленно повторяет Эмбер и морщится. Слова кажутся кислыми и почти ядовитыми, прогоркшими, как рыбные консервы, срок годности у которых истёк.
Лет этак двадцать назад.
– Я тебя никогда не оставлю.
Она целует жёсткие, спёкшиеся от крови волосы.
«Я никогда с тобой не останусь, – вот как это звучит на самом деле. – Я уеду, как только пойму, что с тобой всё в порядке. Как только мы выберемся отсюда, как только Лилит найдёт хороших врачей и как только они скажут мне, что ты будешь как новенький».
«Прости меня», – думает Эмбер.
Теперь она знает, какими будут её кошмары, когда всё закончится. Там будет не только оторванная, валяющаяся на деревянном полу пуговица Дженни, и не только разочарованный вой зомби за запертыми воротами. Там обязательно будет ещё и полутёмный подъезд, и раздирающий сердце кашель, и мальчик, который когда-то был её лучшим другом. А когда она проснётся, рядом с ней не окажется ни первого, ни второго, ни третьего, но легче и проще не станет.
Возможно, в жизни вообще не бывает никаких «легче» и «проще».
Она думает об этом, когда вздёргивает Вика себе на плечо и когда пытается подняться с ним. Она думает об этом, когда, чертыхаясь, наклоняется за рюкзаком, дубинкой и шлемом (почему-то бросить его так же невозможно, как Вика), и когда они неловко спускаются по узенькой лестнице, а потом осторожно выходят наружу. Она думает об этом всю первую улицу и ещё два переулка потом, под каждым долбаным домом, что нависает над ними, под каждой долбаной вывеской и каждой долбаной камерой…
Она думает об этом каждый долбаный метр, что они проходят со скоростью черепахи, и ещё думает о том, что Калани этого бы не одобрил.
А Вик, как всегда, чувствует её мысли.
– Думаешь о нём? – спрашивает он, абсолютно игнорируя своё состояние и то, что в таком состоянии лучше молчать.
Эмбер кивает. Это проще, чем объяснять, о чём она думает на самом деле, а Калани уже не обидится. Она пытается понять: как бы он поступил, оказавшись на её месте? Не сдался, это понятно, но в остальном… Неужели он ощущал бы себя таким же беспомощным? Неужели он так же не знал бы, что ему делать? Неужели… Неужели Калани так же, как и она, на какое-то время принял бы «брось меня» Вика всерьёз – и засомневался бы в том, что следует сделать?
«Калани никогда бы так не поступил», – думает Эмбер.
Живи он в любое другое время, в любое сложное, опасное время, будь он свидетелем Апокалипсиса, он стал бы героем, непременно стал бы героем. Кто, если не он? У Калани было всё для этого: сила, доброта, благородство.
Она – не Калани.
Она никого не бросает, но ей слишком страшно. Ей не хватает благородства для того, чтобы не думать о предложении Вика. Пусть разжать руки и отпустить его у неё никогда не получится, но его сиплое дыхание над ухом снова и снова превращается в «брось меня, брось меня, брось». За это стыдно – до безумия стыдно! – но ещё хуже от того, что Калани она уже бросила. Можно сколько угодно говорить себе, что шанса не было никакого, что его укусили, а укушенные попросту не выживают, вот только внутри это ничего не меняет. Внутри больно и мерзко, и даже Антонио с его пистолетом – это лучше, чем просто развернуться и бросить.
Она ничего не могла сделать. Разве что выжить и сделать то, что сделал бы Калани, окажись он на её месте. Помочь кому-то. Спасти кого-то. Не бросить Вика умирать, несмотря ни на что. И суть не в том, что Вик такой хороший, что его нужно спасать, ведь Вик совсем не «хороший». Суть в том, что если Эмбер не попытается, то для себя самой она никогда уже хорошей не будет.
– Поменяла бы меня на него? – хрипит Вик. Его голос звучит страшно, с присвистом, будто из пробитого воздушного шарика выходит весь воздух, но ещё страшнее – смотреть на него.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.