Текст книги "Против ветра"
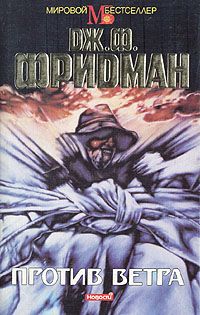
Автор книги: Дж. Фридман
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
31
Это аксиома: чем дольше совещаются присяжные перед вынесением приговора по делу о преступлении, за которое предусматривается смертная казнь, тем лучше для защиты. Присяжные не показываются уже три дня. В первый день мы сидели как на иголках: если бы присяжные вернулись в зал суда, это бы значило, что нашим ребятам прямая дорога на электрический стул.
Но вот прошел день, еще один – их не было. Когда мы гурьбой вернулись в зал на исходе второго дня и Мартинес посоветовал нам расходиться по домам, стало ясно, что ждать, по крайней мере до утра, нечего. У всех нас одновременно вырвался такой вздох облегчения, который мог бы подхватить воздушный шар и нести его до самого Таоса.
Внешне Робертсон невозмутим, что у него на душе, он не показывает. С Моузби пот катит градом, у него на лице все написано. В их рядах замечена размолвка. Наши соглядатаи (секретарши, которые общаются со Сьюзен, хранящей мне верность, несмотря ни на что) донесли, что под конец суда разгорелась перепалка из-за того, кому выступать от лица обвинения. Впервые на моей памяти Моузби взбунтовался, открыто выступил против босса, обозвав его показушником, политиканом, о котором после ухода не останется даже воспоминаний. Робертсон, в свою очередь, напустился на Моузби и на его сыщиков, Гомеса и Санчеса, за то, что те напортачили в истории, связанной с изнасилованием, да так, что это могло бросить тень на результаты всего расследования.
Может, присяжные чувствуют, что обвинение нервничает. У присяжных так бывает, время от времени у них вырабатывается на редкость обостренное восприятие действительности, которое подсказывает им, у какой из сторон лучше обстоят дела, и тогда они могут принять решение в ее пользу. Мне не раз доводилось видеть, как это делается. Вот почему, как бы ни скребли у меня на душе кошки, внешне я всегда держусь как ни в чем не бывало.
Третий день заканчивается так же, как и два предыдущих. Теперь в комнате для совещаний присяжных события могут развиваться по нескольким возможным сценариям, ни один из которых не устраивает обвинение, жаждущее отправить на виселицу всех четверых рокеров. Может, жюри присяжных рассматривает возможность смягчения приговора, например, за совершение убийства со смягчающими вину обстоятельствами или за непреднамеренное убийство, или, может, решило, что в нем замешаны только двое рокеров (мне лично это не сулит ничего хорошего, если на кого и укажут пальцем, то на моего подзащитного). Лучше всего, если бы один, а то и больше присяжных сочли, что обвинение не располагает достаточно вескими аргументами для доказательства своей правоты. Я мечтаю, чтобы сомнения зародились у всех двенадцати, чтобы они вынесли оправдательный приговор, но в суде мечтать не полагается. Пусть бы хоть один из присяжных отказался участвовать в голосовании, пусть они не придут к согласию – это все, что сейчас нам нужно.
32
Сегодня четверг, сейчас четыре часа дня – пошел уже четвертый день. Мартинес посылает присяжным записку. Как идут дела, спрашивает он, есть ли прогресс, позволяющий надеяться на вынесение приговора? Приближаются выходные, если обсуждение зашло в тупик, сообщите об этом.
Мы ждем, сидим, так сильно сцепив пальцы, что кажется – вся кровь остановилась. Если староста присяжных ответит, что у них нет единого мнения, Мартинесу придется объявить об этом. Тогда во всем Санта-Фе не хватит шампанского, чтобы отпраздновать нашу победу.
В ответ приходит записка, из которой следует, что у них есть кое-какие проблемы, но сдаваться пока они не намерены и просят дополнительное время, по крайней мере еще полдня.
Завтра к обеденному перерыву мне нужен более определенный ответ, снова пишет Мартинес. Сделайте все, что в ваших силах. Вы под присягой обязались вынести приговор, если только это возможно.
Лучше он вырвет себе ногти, чем будет снова рассматривать это дело в суде. И он и Робертсон. Если состоится повторный суд, номер с матерью убитого уже не пройдет, от брата Одинокого Волка тоже, пожалуй, останутся только воспоминания. Обвинение понимает, что мы камня на камне не оставим от их топорного расследования.
По пути домой Мэри-Лу заходит в церковь и ставит несколько свечек. Она не католичка.
33
– Вы вынесли приговор?
– Да, Ваша честь.
Уже четверть шестого вечера, суд давно должен был бы закрыться. Перед самым обедом присяжные известили, что им наконец удается прийти к единому мнению.
К тому времени мы уже вернулись в зал суда, я имею в виду адвокатов, а не подсудимых. Нам показалось добрым предзнаменованием то, что они не стали объединять в одном деле убийство и изнасилование, теперь им было определенно сказано, что этого делать не стоит. Если бы они на самом деле пошли по этому пути, то могли бы и не прийти к единогласному решению. Мартинес ясно дал им это понять.
Ему-то больше ничего и не нужно, но в самый последний момент присяжные плюют на инструкции, и весь этот расклад летит к чертовой матери.
Без десяти пять от них приходит записка: мы готовы.
Из камер временного содержания приводят подсудимых. Они садятся за один стол с нами. Робертсон, Моузби, остальные представители обвинения рассаживаются за другим столом. За ними мать убитого, Гомес с Санчесом. Брата Одинокого Волка среди нас нет. Как нет, разумеется, и Риты Гомес, и всех остальных свидетелей.
Зал переполнен, дышать нечем. Журналисты стоят даже в коридорах, куда ведет открытая дверь.
Я гляжу на Робертсона. Почувствовав мой взгляд, он поворачивается и смотрит на меня. У меня сейчас на карту поставлена жизнь четверых подзащитных, моя должность компаньона в фирме, у него вообще все зависит от исхода процесса.
– Передайте вердикты присяжных сюда, пожалуйста, – говорит Мартинес, обращаясь к старосте.
Тот вручает вердикты судебному приставу, который несет их на судейское место. Мартинес медленно перебирает их один за другим и бросает взгляд на подсудимых. По виду не скажешь, что у него на уме. Он снова рассматривает вердикты и с кивком возвращает их судебному приставу, тот отдает их судебному исполнителю.
– Вердикты присяжных огласит судебный исполнитель, – глядя на нас, говорит Мартинес.
Судебный исполнитель встает.
– Рассмотрев дело, возбужденное властями штата против Стивена Дженсена, – торжественно читает он, – мы пришли к выводу, что подсудимый виновен в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах.
В зале поднимается страшный гвалт. Робертсон и Моузби кидаются в объятия друг другу. Мартинес ударяет молотком по столу, требуя тишины.
– Тихо! – кричит он. Какое там!
Одинокий Волк обмякает. Я ободряюще обнимаю его за плечи.
– Я не убивал, старин.
– Знаю, – говорю я. Слабое утешение.
– Рассмотрев дело, возбужденное властями штата против Ричарда Патерно, мы пришли к выводу, что подсудимый виновен в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах.
Теперь очередь Таракана валиться на стул. Я не верю своим ушам, впечатление такое, что меня шарахнули обухом по голове.
– Рассмотрев дело, возбужденное властями штата против Роя Хикса, мы пришли к выводу, что подсудимый виновен в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах.
Голландец. Двадцать два года. Он ошарашенно смотрит на остальных. Как я сюда попал, это что, на самом деле или я вижу сон?
И наконец, Гусь, этот седобородый старик. Виновен. Ему тоже изменяет выдержка, у него единственного на глазах появляются слезы.
– Господи! Не может быть.
Просто слов нет. Чушь собачья, а присяжные ей поверили, черт побери! Четыре человека, которые, я знаю, знаю наверняка, невиновны, только что приговорены к смертной казни.
34
Через неделю присяжные снова собираются на заседание для вынесения смертного приговора, что представляет собой пустую формальность. Поскольку мне не удалось вытащить их из этой передряги, им теперь прямая дорога на электрический стул. Присяжные времени не теряют. Жалеть этих людей ровным счетом нет никаких оснований. Они не принадлежат к цивилизованному обществу, стало быть, надо изолировать их от него, и чем надежнее, тем лучше. Их будут держать в тюремных камерах, пока не приведут смертный приговор в исполнение, сделав инъекцию яда.
На рокеров надевают наручники, заковывают в ножные кандалы и уводят. Я уже сказал им, что мы подадим апелляцию – после обвинительного приговора по делу о преступлении, караемом смертной казнью, это делается автоматически. Если апелляция, минуя все промежуточные инстанции, в конце концов доберется до Верховного суда, то приведение приговора в исполнение потребует лет семь, а то и больше.
– Надеюсь, ты на меня не злишься, – говорит Робертсон. Подойдя, он протягивает мне руку.
Своей руки я не подаю.
– Они невиновны, черт побери! – Это просто невыносимо.
Ему этого все равно не понять, он страшно рад, но держится спокойно.
– Присяжные рассудили иначе. Так уж получилось.
– Их подставили.
– Ты писаешь против ветра, Уилл!
– Когда-нибудь я это докажу! – запальчиво восклицаю я. К черту вежливость!
– Они были виновны, – спокойно отвечает он. Победа осталась за ним, он может позволить себе быть вежливым. – Они были виновны еще до того, как переступили порог зала суда. Все это знали, кроме тебя.
– Ну да, как ведь раньше говаривали? «Сначала мы будем судить их по всей справедливости, а потом повесим». – Эти слова даются мне с трудом. – Ты забыл мне об этом сказать, когда я с твоей подачи взялся за это дело, многозначительное упущение, тебе не кажется?
Он и ухом не ведет.
– А мне казалось, правосудие, понимаемое так примитивно, – уже дело прошлого, Джон.
– Иной раз иначе нельзя, – отвечает он и, повернувшись ко мне спиной, выходит.
Зал суда пустеет. Мне не хочется уходить, ничего хорошего меня все равно не ждет. Впрочем, тут тоже. Такое ощущение, что все чувства атрофировались.
Все ушли, мы остаемся вдвоем с Мэри-Лу. Она то ли обнимает меня, то ли прижимается ко мне.
– Мы сделали все, что могли.
– Слабое утешение.
– Пойдем. Уже пора.
Она берет меня за руку.
– Не сейчас. Мне нужно посидеть еще немного. Пожалуйста.
Она понимающе кивает.
– Ты будешь составлять апелляцию?
– Да.
– Сам?
– Наверное. Так или иначе, теперь это пустая формальность, хоть тут повезло.
– Тебе помочь?
Я пожимаю плечами. Даже не знаю, что сказать.
Она выпрямляется, берет портфель.
– Ты знаешь, как меня найти.
Я киваю.
Она хочет еще что-то сказать, но, передумав, поворачивается и уходит, стук ее каблучков гулко разносится в опустевшем зале.
Уже темно, когда я наконец выхожу на улицу. Вокруг – ни души, журналисты обхаживают победителя. Я сажусь в машину и еду домой. Сегодня вечером повода для веселья нет, если он и есть, то скорее для траура. И в том и в другом случае я напьюсь так, что уже не смогу вспомнить, зачем я это делаю.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Я сижу в баре аэропорта в Альбукерке и жду, когда объявят посадку на мой рейс. Из радиоприемника, стоящего в глубине, доносится попурри из любимых моих рождественских песенок: «Про бабку, которая попала под оленя», «Санта-Клаус и его старуха» в исполнении «Чич энд Чонг», «Рок с бубенцами». Через полчаса я с подарками вылетаю в Сиэтл. Рождество в незнакомом городе, с дочерью, которая живет уже в новой квартире.
Я лечу туда в первый раз. Можно было бы пригласить ее к себе на каникулы, ведь мы с Патрицией договаривались в том числе и об этом, но мне кажется, что не следует гонять Клаудию туда-сюда, словно пешку. Пусть побудет и со мной и с матерью, привыкая к своему новому окружению. Это не так-то просто.
Я перехватываю взгляд бармена, делаю ему знак. Еще одну. Хосе Куэрво, я с тобой дружу. Хотя на самом деле этого парня зовут Джонни Уокер. Один черт!
Прошедшие два месяца были, мягко говоря, погаными. На следующей неделе после того, как был оглашен приговор, я получил итоговое постановление суда, занимавшегося расторжением нашего брака. Холли обобрала меня до нитки: дом, вся мебель, ее машина, большая часть денег с нашего общего счета в банке – словом, все подчистую. Твое – это мое, а мое – это тоже мое. Ну и черт с ней, мне было наплевать, если честно, даже легче на душе стало! С прошлым покончено, о нем мне больше ничто не напоминает.
Я не стал платить ей алименты: она работает, руководит картинной галереей, неплохо зарабатывает. Детей у нас не было, она была вечно «не готова». Слава Богу, задним числом думаю я, от одного-то, которого приходится делить на двоих, взвоешь! Она снова взяла девичью фамилию, собирается продать дом и махнуть в Таос. Меня это вполне устраивает, по мне, так больше никогда ее не видеть!
Неделю спустя другой сюрприз преподнесли мне Энди с Фредом. Они все решили уже давно, может, в тот самый день, когда заставили уйти в отпуск за свой счет. Если бы я выиграл дело, они могли бы передумать.
Но я его проиграл.
Мы старательно делаем вид, что расстаемся, как и подобает друзьям, которые, мол, просто разошлись во взглядах на то, по какому пути следует развиваться нашей адвокатской конторе. Разрыв обошелся им в двести тысяч долларов, но эта сумма подлежит выплате в рассрочку сроком на пять лет, так что в конечном счете она ненамного превысит мои служебные расходы.
Некоторые из клиентов ушли со мной вместе. Фред начал было ворчать, что, мол, неплохо бы ограничить начавшийся отток, но клиенты поступили так исключительно по собственному желанию, сам я помалкивал. В глубине души, конечно, я был рад. Сьюзен тоже ушла вместе со мной.
С голоду я не умру, к тому же у меня будет довольно много работы, чтобы не заниматься самокопанием и не растравлять душу, норовя вызвать жалость к самому себе.
По крайней мере, я утер нос Холли. Не так, как хотелось, но, если неудачи следуют одна за другой, любая победа приятна на вкус, даже если для того, чтобы ощутить его, приходится съесть целую тонну дерьма. От продажи дома она не выручит ни единого цента, вот если бы переезд состоялся двумя неделями раньше, она бы положила себе на счет лишнюю сотню тысяч долларов. Когда она об этом узнает, то наверняка подумает, что ее надули и подставили. Ну разве это не плохо, черт побери? Как я уже говорил, была бы победа, а как она достигается – дело десятое.
Фред хотел показать мне на дверь, зная, что впереди у меня напряженные дни, связанные с разводом. Энди не позволил ему это сделать. Как только избавлюсь от ненависти к этим ублюдкам, у которых, как оказалось, кишка тонка, надо будет когда-нибудь поблагодарить его.
Вообще-то, я уже избавился, в тот первый день, когда меня попросили вон, бросив на произвол судьбы, а теперь все оформили, как полагается. Я не хочу им зла, у нас было много хорошего в то время, когда мы только начинали.
Мэри-Лу позвонила мне сразу, как только обо всем узнала. Голос у нее был встревоженный, чувствовалось, что она по-настоящему расстроена. С тобой обошлись страшно несправедливо, сказала она, как бы невольно давая понять, что на мне можно ставить крест. Как будто это не происходит каждый божий день. Если на тебе крест ставить еще рано, с тобой таким голосом говорить не станут, правда же?
Мы встретились, чтобы вместе выпить, и она смогла воочию убедиться, что я в полном порядке. Она еще хотела отвезти меня домой и начать за мной ухаживать. Стараясь говорить как можно вежливее и мягче, я отказался.
Причина проста: если бы я поехал к ней домой, то уехать уже не смог бы. Мы принялись бы ворковать, как голубки, и дело кончилось бы тем, что она стала потакать любому желанию такого типа, как я. Мы стали бы и завтракать, и ужинать вместе, даже после изнурительного рабочего дня она в два счета может приготовить что-нибудь такое, что пальчики оближешь, или уединяться в романтической обстановке в каком-нибудь тихом ресторанчике.
Мы по-настоящему влюбились бы друг в друга. А я не могу влюбляться. Черт побери, у меня и так на душе кошки скребут, а тут еще это! Мне нужно время, чтобы прийти в себя, нужно, подсказывает внутренний голос, разобраться в себе. У меня такое ощущение, будто на меня все смотрят, все меня жалеют, причем я уверен, что так оно и есть. А я не хочу с этого начинать отношения с женщиной. К тому же в самых дальних уголках подсознания, где, как на маленьком чердаке, у меня хранятся обиды, аккуратно свернутые, словно кипы старых газет, притаилась жгучая неприязнь ко всем женщинам, всколыхнувшаяся сейчас из-за Холли и всего того, чего мне стоила женитьба на ней, – ведь я тоже любил ее когда-то. Мэри-Лу не должна нести этот крест. Когда такое ощущение пройдет, а для этого понадобится время, я буду думать о том, чтобы снова завязать отношения с женщиной.
Может быть.
Если бы речь шла лишь о том, чтобы спать друг с другом, проблем бы не было. Но с ней я не смог бы просто спать и все. Я попытался ей объяснить. Она не согласилась, сказав, что, если о большем пока говорить не приходится, ее это устраивает.
Она сама не поверила в то, что сказала, да и я тоже. Вот почему мы порознь отправились по домам.
С тех пор я ей не звонил. А когда наберусь храбрости и позвоню, у нее наверняка будет уже кто-то другой.
Повалят беды, так идут не врозь, а скопом – так, кажется, писал Шекспир. Черта с два! Самое плохое случилось под конец. Патриция переехала месяц назад, в первый же уик-энд после Дня благодарения – 24 ноября. Они уехали в субботу утром на ее машине.
Последние несколько дней Клаудия провела со мной, День благодарения мы с ней отметили на свой манер. Вместе сходили в магазин, чтобы купить самую что ни на есть натуральную индейку, которую я потом приготовил с гарниром. А она сама, так что мне даже не пришлось ей помогать, испекла тыквенный пирог. Погуляли в горах, порыбачили, побросали друг дружке ее мяч от американского футбола с автографом Дэна Мэрино. Чего мы только ни делали, но вот о предстоящем отъезде не сказали ни слова.
Мы молчали об этом до пятницы, до того момента, когда вечером сидели у нее на кровати в окружении старых плюшевых игрушек. Мы толком даже не знали, что сказать, кроме фраз типа «Я буду по тебе скучать», «А я буду тебе звонить», «Мы часто будем видеться» и так далее в том же духе. Мы вступали в полную неизвестность. Мы расстались чуть ли не с того самого дня, как она родилась, но никогда не расставались на самом деле.
Я стоял у дома Патриции и смотрел, как они уезжают. Забравшись на заднее сиденье, где уже лежали книги и пластинки, Клаудия прижалась носом к заднем стеклу, глядя на мою удаляющуюся фигуру. Я помахал ей рукой. На улице было холодно, на предыдущей неделе раньше обычного выпал снег, и на земле там и сям еще лежали его остатки. Я чувствовал обжигающий ветер, который овевал мои мокрые щеки.
«Джонни Уокер» приятен на вкус, даже приятнее, чем обычно. Я буду смаковать его до тех пор, пока не сяду в самолет. Из радиоприемника слышится «Грустное Рождество» в исполнении Элвиса. Вот и говори после этого, бывают ли в жизни совпадения: в кино сказали бы, что песенка пришлась более чем кстати. Иной раз в жизни это и угнетает: в ней все не так, как в кино.
2
Несмотря на то, что Партиция уже говорила мне, куда они собираются переезжать, вид ее новой квартиры застигает меня врасплох. Квартира расположена на двадцать втором этаже небоскреба, чуть ли не на самой крыше, откуда открывается потрясающий вид на залив. Так высоко, что видно чуть ли не до Канады. Вся мебель новая, но хозяйка дома, памятуя о правилах хорошего тона, отзывается о ней довольно сдержанно, как и подобает адвокату, дела у которого внезапно пошли в гору.
– Это все заслуга декоратора, – признается она, с видом собственницы поглаживая абажур из хлопчатобумажной ткани на настольной лампе от Анны Тэйлор. – У меня времени не было. Все уже было готово и дожидалось меня... то есть нас.
– Шикарно, – говорю я. И слепому ясно, что это заслуга декоратора, – квартира выглядит так, будто в ней никто не живет. Не видно ни дыр, оставшихся от горящих сигарет, ни винных пятен. Кроме нескольких детективов, валяющихся на полу, ничто не говорит и о присутствии Клаудии. Я расхаживаю по комнатам, любуясь открывающимися из окон видами. Дело близится к вечеру, Патриция только что вернулась с работы, где у нее свой кабинет (который, как я узнаю позже, тоже заново отделан). Она сбрасывает туфли, швыряет пальто на кресло, и без того заваленное вещами. Вещи у нее тоже новые. Со вкусом подобранные, дорогие, словом, не прикид, а сказка. Пожалуй, после сисек она сменила все, что только можно было. Интересно, какой теперь ждать пластической операции.
– Пришлось обновить гардероб, – поясняет она, перехватывая мой взгляд.
Она нервничает, оставаясь наедине со мной, не может спокойно усидеть на одном месте. Когда самолет приземлился, я позвонил ей на службу, она отпросилась с работы, и мы договорились встретиться у нее дома. Я сразу отправился туда, не заезжая в отель, где она забронировала мне номер, – в двух кварталах от дома. «На мой взгляд, тебе не стоит останавливаться здесь», – сказала она по телефону. Я не был в этом так уверен: легкое шевеление у меня в брюках при звуках ее грудного голоса напомнило о нашей последней встрече, о которой у меня остались довольно приятные воспоминания. Но теперь, увидев ее, я целиком и полностью с ней согласен: ту женщину, которая стоит передо мной, я в упор не вижу. Новая одежда, новый блокнот для записей, что ни возьми – все новое, выглядит она потрясающе, я искренне за нее рад, на самом деле рад, и все же что-то не так, как если бы девочка надела мамины туфли, которые ей слишком велики, и старательно изображает взрослую. Это не она, не та Пэт, которую я знаю. Вся сексапильность, так меня притягивающая, испарилась, улетучилась куда-то вместе с майками и шортами для бега.
Окликнув кого-то внизу, она просит мать Лили сказать Клаудии, чтобы та как можно скорее поднималась.
– Выпьешь? – спрашивает она. – Уже не помню, по-моему, ты пьешь мартини?
Мартини? В последнее время, когда мы с ней виделись, она терзалась угрызениями совести из-за пива.
– Был за мной такой грешок.
– Я тоже с тобой выпью. – Она идет на кухню, достает из холодильника бутылку джина – «Бомбей», я восхищен ее вкусом, – бутылку вермута, кувшин, кубики льда.
– Тебе вермута меньше?
– Чем меньше, тем лучше. – Я наблюдаю, пока она со знанием дела смешивает коктейли. Опыт в этом деле у нее есть.
– Я и не знал, что ты пьешь. То есть ты же не пьешь, да?
– Ну, знаешь! – со смехом отвечает она, смех слишком громкий, принужденный. – Когда все остальные... вообще, я не слишком увлекаюсь. Так, время от времени, чтобы расслабиться. – Она передает мне бокал с мартини, положив туда две маслины, как и себе. – Будь здоров!
– Будь здорова! – Мы отпиваем из бокалов. Не нравится мне все это. За месяц она переехала в квартиру в небоскребе, отделанную без нее и совсем не в ее вкусе, стала иначе одеваться, копируя стиль деловой женщины, одержимой желанием сделать карьеру, и пристрастилась к крепкому спиртному.
Выпив, она корчит гримасу и, взяв маслину, кладет ее в рот.
– Мало-помалу начинаешь входить во вкус.
– Вряд ли это станет моей привычкой. Этого недостаточно, чтобы войти во вкус по-настоящему.
Как получилось у тебя, недоговаривает она. Плевать! Если из-за того, что сам я пью, она не хочет всерьез увлекаться спиртным, значит, я исполнил свой долг перед человечеством. И перед своим ребенком.
– Может, это и неплохая мысль. – Я вижу, что от волнения она буквально места себе не находит. Ведь я – то, что еще связывает ее с прошлым, от которого она старается отделаться, она хочет, чтобы никто и ничто, а я – особенно, не вставало у нее на пути.
Дверь позади распахивается, и, не успел я обернуться, как Клаудия уже повисла у меня на шее. Взяв на руки, я обнимаю ее.
– Папа! – восклицает она таким голосом, что не поймешь – ребенок она или уже выросла. – Я и не знала, что ты здесь.
– Только что приехал, солнышко. Даже в отель не заезжал. – Я опускаю ее на пол. Она уже совсем взрослая, я и забыл. Прошел всего месяц.
– Пойдем. – Она хватает меня за руку. – Я покажу тебе свою комнату. Она такая миленькая.
Она тащит меня за собой. Оборачиваясь, я смотрю на Патрицию, которая стоит на еще неистоптанном коврике в середине прихожей с застывшей на губах робкой, выжидательной улыбкой. Она выпила свой бокал до дна, даже не заметив.
Удивительно, как быстро могут пролететь две недели. Не у ребенка, у него время тянется медленно, неделя может продолжаться бесконечно. Но у взрослого, пытающегося выгадать драгоценные часы, даже минуты, чтобы откладывать их про запас на недели и месяцы разлуки, время несется, словно космический корабль. Трудно жить данным конкретным моментом, если нет уверенности в будущем.
Занятия в школе закончились, идут рождественские каникулы, поэтому я и здесь. Патриция работает буквально на износ, у нее нет праздников. «Мне надо наверстать потерянные пять лет, – говорит она мне вечером того же дня, когда я прилетел, – другие и так носом землю роют!» Добро пожаловать в частный сектор, так и подмывало меня ответить. Но я не стал этого делать, потому что не ее же вина, что предыдущая работа оказалась неудачной. Сейчас она рада, что приходится вкалывать как проклятой, рада и тому, что на время можно сбыть Клаудию мне на руки, а самой повкалывать, не мучаясь угрызениями совести.
В результате мы с Клаудией все время вместе. После первых нескольких дней, когда я утром захожу за ней, а вечером привожу домой, я уговариваю ее переехать ко мне в отель, прихватив с собой книжки, одежду, плюшевого мишку. Мы шатаемся по улицам, заглядываем в музеи и кафе – папа и дочка, гуляющие по городу. Я поражаюсь тому, как сильно она повзрослела: Санта-Фе напоминает прекрасный маленький бриллиант, но Сиэтл – настоящий город, большой, на редкость разнообразный, и она чувствует себя в нем как рыба в воде, прекрасно ориентируясь в бесконечной череде кинотеатров, мест, где можно пообедать, походить по магазинам. Мы с опозданием покупаем рождественские подарки для каких-то ее друзей и подруг, оставшихся дома, она грустит по ним, тем более что со многими дружит еще с пеленок, но новые друзья – тоже ребята что надо.
В глубине души, будучи эгоистом (преобладающая черта моего характера), я жалею о том, что она так быстро освоилась. В глубине души я выстроил план, по которому испуганная девочка упрашивает отца забрать ее с собой, туда, где ее настоящий дом, где ей все хорошо знакомо. Иными словами, туда, где живу я сам. Но лучшая часть моего характера – я обнаруживаю, что такая существует, – счастлива, на самом деле счастлива, потому что, вопреки моим опасениям, переезд оказался не столь болезненным и ее, похоже, все устраивает. Конечно, все для нее здесь в новинку. Может, когда жизнь заявит о себе, она будет думать иначе. Я надеюсь, что нет. Или большая часть моей натуры хотела бы на это надеяться.
– Ты разрешишь мне остаться у тебя до полуночи, чтобы посмотреть бал, когда он начнется?
– Конечно. А иначе как ты узнаешь, наступил уже Новый год или нет?
– А как же календарь, дурачок? – хихикает она. В ее смехе слышатся еле уловимые кокетливые нотки. Она подрастает, девочка моя.
Несколько дней мы провели, катаясь на лыжах, несколько отличных дней, и вернулись в Сиэтл в самый канун Нового года. Снова сидим в моем гостиничном номере и ужинаем тем, что нам принес дежурный по этажу, – она сама так захотела, я позволил ей принять решение, хотя мы могли бы пойти куда-нибудь в город и поужинать там. Я рад, что она так решила, не хочу ни с кем ее делить. К тому же я знаю, что в ее представлении ужин в номере отеля – синоним ослепительной роскоши. Коктейли с креветками, чизбургеры, имбирный эль и шоколадные пирожные с мороженым. Словом, все, что полагается. Из уважения к ней (только на словах, но все же...) сегодня вечером я спиртного в рот не беру, из-за этого я на самом деле доволен собой, дело не только в раскаянии.
Мы разговариваем: о ее новой школе, друзьях, матери, обо мне самом. Новая работа матери ее беспокоит. Она отнимает у Патриции больше времени, чем предыдущая, гораздо больше. К тому же после школы она не может заходить к ней на работу, как это было раньше. До нее слишком далеко ехать, Патриция не хочет, чтобы она одна ездила на городских автобусах, к тому же атмосфера в офисе не такая, чтобы дети могли себе валяться на полу, читая и рисуя. Клиенты не поймут, было ей сказано. Что-то, связанное с конфиденциальностью – очередное новое словечко, которое она выучила. Мама теперь куда строже, чем раньше.
Теперь мама меньше бывает дома, больше времени проводит на работе, к тому же с кем-то встречается. Постоянного ухажера, насколько Клаудия знает, у нее нет. Услышав, что она с кем-то встречается, я чувствую, что ревную, я не хочу с ней видеться, честное слово, но мысль о том, что на горизонте появился другой мужчина, беспокоит меня. Самая заурядная, примитивная мужская ревность: другие мужики спят с матерью моего ребенка. Грязное это чувство – ревность. Я и не подозревал, что оказался таким агрессором.
– А тебе попадался кто-нибудь из тех ребят, с которыми она встречается?
– Один.
– Ну и каков он из себя?
– Лысый.
– И это все? – смеюсь я. – Ну и что, если человек лысый?
– Да ничего, по-моему. Ты же не лысый.
– А если бы был лысым, ты бы так же меня любила?
– Ну да. Но ты же не такой.
– А тебе он понравился?
– По-моему, да. – Она пожимает плечами, как бы давая понять, что не хочет об этом говорить. – Я и видела-то его мельком, когда он как-то заезжал за мамой.
То, что приобретает Патриция, теряет Клаудия. От этого никуда не деться, в конечном счете это, может, пойдет лишь на пользу, но, черт побери, меня это беспокоит! Девочка оказалась одна в незнакомом городе и слишком много времени проводит вместе с матерями других детей и их няньками. Я знаю, что не мое это дело, но обязательно поговорю с Пэт. Ей это не понравится, но мне плевать. Клаудия – это и моя дочь тоже.
На экране появляется ведущий Дик Кларк, и начинается бал, который приурочен к Новому году. Мы видим по телевизору, как тысячи психов носятся словно угорелые по Таймс-сквер на острове Манхэттен, распивая спиртное и испуская истошные вопли, некоторые обнажены до пояса, хотя на улице мороз, впечатление такое, что смотришь на оголтелых болельщиков, которые встречаются на футбольных матчах в Питтсбурге или Кливленде. По прошествии времени я начинаю отдавать себе отчет в том, что люди, копошащиеся на экране, словно муравьи, сейчас уже либо спят, либо где-нибудь размозжили себе головы. Буйство толпы осталось, хотя и отличается от того, что я видел в возрасте Клаудии, когда смотрел телевизор вместе с дедом и бабкой. Настоящий канун Дня всех святых, с настоящими ножевыми ранениями и настоящей кровью. Я всегда был рад тому, что мой ребенок растет не в большом, а в маленьком городе, но теперь она неминуемо вольется в эту громогласную орду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































