Текст книги "Современная комедия"
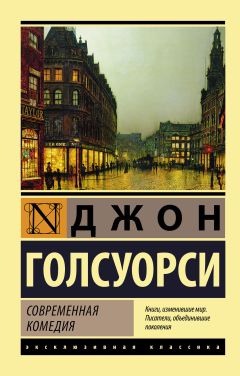
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 60 страниц)
Дивная ночь
В Лоринге у волнореза сидела Флер. Мало что так раздражало ее, как море. Она его не чувствовала. Море, о котором говорят, что оно вечно меняется, угнетало ее своим однообразием – синее, мокрое, неотвязное. И хотя она сидела лицом к нему, мысленно она от него отворачивалась. Она прожила здесь неделю, но Джона не видела. Они знали, где она, но навестила ее только Холли; и верное чутье подсказало Флер причину – должно быть, Энн поняла. А теперь она знала от Холли, что и Гудвуда ждать нечего. Не везло ни в чем, и все существо ее возмущалось. Она пребывала в грустном состоянии полной неопределенности. Знай она в точности, чего хочет, могла бы с собой сладить, но не знала. Даже о Ките уже не нужно было особенно заботиться: он совсем окреп и целые дни возился в песке с ведром и лопаткой.
«Больше не могу, – подумала она, – поеду в город. Майкл мне обрадуется».
Она позавтракала пораньше и поехала; в поезде читала мемуары, автор которых с успехом погубил репутацию ряда умерших лиц. Книга была модная и развлекла ее больше, чем она ожидала, судя по заглавию; и по мере того как все меньше ощущался в воздухе запах устриц, настроение ее поднималось. В сумочке были письма от отца и от Майкла, и она достала их, чтобы перечитать.
«Радость моя!
(Так начиналось письмо Майкла. Да, наверно, она еще и сейчас его радость.)
Я здоров, чего и вам с Китом желаю. Но скучаю без тебя ужасно, как всегда, и думаю в скором времени к тебе заявиться, если только ты не заявишься первая. Не знаю, видела ли ты в понедельник в газетах наше воззвание. Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскошелился. Морж выложил пять тысяч, маркиз прислал чек на шестьсот, который ему дал за Морланда твой отец, сам он и Барт дали по двести пятьдесят. Помещик дал пятьсот, Бедвин и сэр Тимоти по сотне, а епископ дал двадцать и свое благословение. Так что для начала у нас шесть тысяч восемьсот двадцать с одного комитета – не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет. Воззвание отпечатано и рассылается всем, кто когда-нибудь на что-нибудь жертвует; среди прочих средств пропаганды мы имеем обещание «Полифема» показать фильм о трущобах, если мы сумеем его выпустить. Дядя Хилери настроен радужно. Забавно было наблюдать за твоим отцом – он долго думал, а потом побывал-таки в «Лугах». Вернулся, говорит – не знает; квартал весь разваливается, пятьсот фунтов на каждый дом – и то будет мало. Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хилери. Но на следующее утро был сильно сердит, говорил, что, раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему: «Подумают, что я с ума спятил». Но, в общем, в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, неважная; по-моему, их только и связывает, что мысль о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт зол не на шутку: говорит, что я изменил ему и фоггартизму. Конечно, это неправда, но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим!
Крепко целую тебя и Кита. Майкл.
Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом, очень хорошо получилось. Отец твой прямо поразился. М.»
Над письменным столом – «Золотое яблоко»! Вот ирония! Бедный Майкл – если б он знал!
Письмо отца было короткое, как и все его письма:
«Дорогая моя дочь!
Твоя мать уехала домой, а я пока остался на Грин-стрит в связи с этой затеей Майкла. Право, не знаю, стоящее ли это дело: о трущобах болтают много вздора. Все же я нахожу, что его дядя Хилери приятный человек, хоть и священник, и среди членов комитета есть неплохие имена. Там посмотрим.
Я не знал, что ты еще работаешь акварелью. Рисунок сделан очень недурно, хотя тема мне не ясна. Для яблок фрукты слишком мягкие и яркие. Ну, тебе лучше знать, что ты хотела изобразить. Я был рад услышать, что Кит хорошо поправился и что морской воздух идет тебе на пользу.
Любящий тебя отец С. Ф.»
Знать, что хотела изобразить! Только бы знать! И только бы не знал отец! Вот какие мысли не давали ей покоя, и она разорвала письмо и через окно разметала его по графству Суррей. Он следил за ней, как рысь, как любовник, а ей сейчас не хотелось, чтобы за ней следили.
Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джун должна знать что-нибудь об этих двоих: все ли еще они в Уонсдоне, где они вообще.
Как ясно она помнила особнячок Джун с того единственного раза, что была в нем, когда они с Джоном…
Джун была в холле, собиралась уходить.
– О, это вы! – сказала она. – Вы так и не пришли тогда в воскресенье!
– Да, слишком много дел набралось перед отъездом.
– Сейчас здесь живут Джон и Энн. Харолд пишет с нее прелестный портрет. Вещь получается исключительная. Она, по-моему, милая малютка (насколько помнила Флер, «она» была на несколько дюймов выше самой Джун) и хорошенькая. Сейчас мне нужно пойти купить ему кое-что необходимое, но я через четверть часа вернусь. Если хотите, подождите меня в столовой, а потом вместе пойдем наверх, и я покажу ему вас. Он единственный человек, который сейчас работает по-настоящему.
– Хорошо, что хоть один есть, – сказала Флер.
– Вот репродукции с его картин. – Джун раскрыла большой альбом, лежавший на маленьком обеденном столе. – Какая прелесть, правда? И все его работы такие. Вы посмотрите, а я сейчас вернусь.
И, слегка тронув Флер за плечо, она умчалась.
Флер не стала долистывать альбом, она посмотрела в окно, окинула взглядом комнату. Как она помнила ее – и это вот круглое зеркало, старинное, тусклое, в которое она смотрелась семь лет назад, поджидая Джона, и бурную сцену, происшедшую тогда между ними в этой комнате, слишком тесной для бурь! Джон живет здесь! Сердце ее громко билось. Она опять поглядела на себя в тусклое зеркало. Ведь она хороша, не хуже, чем была тогда! Даже лучше! Черты лица определились, нет прежней девичьей расплывчатости. Как бы дать ему знать, что она здесь? Как бы повидать его одного хоть минутку? Сейчас вернется эта восторженная слепая дурочка (так Флер мысленно окрестила Джун). И быстрый ум принял быстрое решение: если Джон здесь, она найдет его! Она поправила волосы на висках, жемчуг на шее, провела по носу пуховкой почти без пудры, вышла в холл и прислушалась. Ни звука! И она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье – больше укрыться некуда. На первой площадке справа – спальня, слева – спальня, прямо – ванная; двери открыты. Пусто! И в сердце у нее тоже пусто. Наверху помещалось только ателье. Если Джон там, то там же и художник, и эта девчонка, его жена. Стоит ли? Она пошла было вниз, потом вернулась. Да! Стоит! Медленно, очень тихо она пошла дальше. Дверь в ателье открыта, слышно быстрое, знакомое шарканье ног художника перед мольбертом. На минуту она закрыла глаза, потом опять пошла, на площадке у открытой двери остановилась. Дальше идти было незачем: в комнате, прямо против нее, висело широкое зеркало, и в нем, оставаясь невидимой, она увидела: в углу низкого дивана сидел Джон с незакуренной трубкой в руке и глядел в пространство. На возвышении стояла его жена: в белом платье, с лилией на длинном стебле в руках – цветок доставал ей почти до подбородка. О, какая хорошенькая и смуглая, глаза темные, лицо в рамке темных волос. Но лицо Джона! Что выражает оно? Мысли ушли глубоко под маску, как глубоко под брови ушли глаза. Ей вспомнилось – так иногда смотрят львята: ничего не видят вблизи, а вдали видят… что? Глаза Энн – как это Холли про них сказала: «Как у самой славной русалки»? – скользнули по его лицу, и тотчас же его взгляд оторвался от пространства и улыбнулся в ответ. Тогда Флер повернулась, быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун, чтобы выслушивать ее панегирики, знакомиться с художником, сдерживать себя при этой девчонке? Нет!
Забравшись на империал автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун, и злобно порадовалась ее разочарованию: когда тебе сделали больно, хочется причинить боль другому. Автобус повез ее прочь, по Кингз-роуд, через Хаммерсмит, потеющий под послеобеденным солнцем, прочь в большой город, с его миллионами жизней и интересов, неприступный, равнодушный, как судьба.
Она сошла у Кенсингтонского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы и нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие, и она слишком быстро дошла до угла Гайд-парка – к великой, впрочем, радости одного из старичков, который все время старался не отставать от нее, потому что в его возрасте возбуждение было ему полезно. Она пересекла улицу, вошла в Грин-парк и замедлила шаг. И на ходу презирала себя. Презирала! Она, считавшая, что сердце – это так vieux jeu[45]45
Несовременно (фр.).
[Закрыть]; постигшая, казалось бы, искусство сдерживать или обгонять свои чувства!
Она добралась до дому, а дома было пусто: Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкого кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло ей некоторое облегчение. Все ее друзья пользовались этим средством. Вдоволь насладившись, она надела халатик и пошла в кабинет Майкла. Вот и ее «Золотое яблоко» – очень мило окантовано. Сейчас плод казался ей особенно несъедобным. Как улыбался глазами Джон в ответ на улыбку этой женщины! Подбирать объедки! И пробовать не хочется. Зелено яблоко, зелено! Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяне на китайской картине – почти что человечьи глаза, и все-таки не человечьи, потому что смотрело ими создание, понятия не имевшее о логике. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, была и логика, и чувство традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь, и запечатлел его навеки.
А Флер, прелестная в ярко-зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату – одеваться. Она выбрала самое красивое платье. Если заветное желание ее невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы и спокойна и логична, пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение – хватать их обеими руками, пить жадным ртом! И она уселась перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила и надушила волосы. Губы и брови красить не стала, лицо едва заметно напудрила, а шею, потемневшую от приморского солнца, – побольше.
Там и застал ее Майкл – шедевр современного искусства, такое совершенство, что дотронуться страшно.
– Флер! – сказал он, и только, но слова были бы излишни.
– Я считаю, что заслужила свободный вечер. Одевайся поскорей, Майкл, и пойдем пообедаем где позабавнее, а потом в театр и в клуб. Тебе ведь сегодня не нужно идти в палату?
Он думал пойти туда, но было что-то в ее голосе, что удержало бы его и от более важных дел.
Вдыхая ее аромат, он сказал:
– Дивно! Я только что из трущоб. Сию секунду, родная! – И умчался.
Пока длилась секунда, она думала о нем и о том, какой он хороший. И, думая о нем, видела глаза, и волосы, и улыбку Джона.
Местом «позабавнее» был ресторанчик, полный актеров. Со многими Флер и Майкл были знакомы, и перед тем как разойтись по театрам, они подходили и говорили: «Вот приятная встреча!» – и, что самое странное, их лица и впрямь это выражали. Но такая уж публика – актеры! У них лица что угодно выразят. И все повторяли: «Постановку нашу видели? Непременно сходите – гадость ужасная!» Или: «Замечательная пьеса!» А потом, приметив через плечо других знакомых, восклицали: «А! Вот приятная встреча!» Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности. Флер выпила коктейль и два бокала шампанского. Когда они вышли, щеки ее слегка горели. «Такая милашка» уже полчаса как началась, когда они до нее добрались, но это значения не имело – из того, что они увидели, они поняли не больше, чем могли бы понять из пропущенного первого акта. Театр был переполнен, в публике говорили, что «пьеса продержится много лет». В ней была песенка, которую распевал весь город, танцовщик, ноги которого могли складываться под самым острым углом, – и ни капли логики. Майкл и Флер вышли, напевая все ту же песенку, взяли такси и поехали в танцевальный клуб, где состояли членами не столько потому, что когда-либо там бывали, сколько следуя моде. Клуб был для избранных, среди членов числился и один министр, вступивший в него из чувства долга. В момент их прихода танцевали чарльстон, семь пар в разных углах комнаты пошатывались на расслабленных коленях.
– Ой-ой-ой, – сказал Майкл. – Ну, дальше в пустоту идти некуда! Что тут интересного?
– Пустота, милый! Мы живем в пустое время – разве ты не знал?
– И нет предела?
– Предел, – сказала Флер, – это то, чего нельзя преступить, а пустоту можно совершенствовать до бесконечности.
Сами по себе слова ничего не значили: цинизм как-никак был в моде, – но от тона их Майкл содрогнулся: в тоне прозвучала личная нотка. Неужели она находит, что жизнь ее так уж пуста? Почему бы?
– Говорят, – сказала Флер, – скоро будут танцевать новый американский танец, называется «Белый луч», он еще менее содержателен.
– Не может быть, – сказал Майкл, – этого образчика врожденного идиотизма не превзойти. Посмотри-ка вон на ту пару!
Пара, о которой шла речь, покачиваясь, двигалась к ним, выгнув колени так, точно в них провалились их души; в глазах, устремленных на Флер и Майкла, было не больше выражения, чем в четырех стеклянных шариках. От талии вниз они излучали странную серьезность, а выше казались просто мертвыми. Музыка кончилась, каждая из семи пар остановилась и стала хлопать в ладоши, не поднимая рук, точно боясь нарушить достигнутую выше талии пустоту.
– Неправда, – сказал вдруг Майкл.
– Что?
– Что это характерно для нашего века: ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки, – делай глупое лицо и дрожи коленками.
– Потому что ты сам не умеешь.
– А ты что, умеешь?
– Ну конечно, – сказала Флер, – нельзя же отставать.
– Только ради всего святого, чтобы я тебя не видел.
В этот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши, оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались. Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота и вальс, потом ушли.
– В конце концов, – говорила Флер в такси, – в танцах забываешься. В этом была вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, Майкл; Кита я смогу привезти через неделю.
– Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб? Ты была бы незаменима для устройства балов, базаров, утренников.
– Ну что ж! А их стоит перестраивать?
– По-моему, да. Ты не знаешь Хилери. Надо пригласить их с тетей Мэй к завтраку. После этого сама решишь.
Он просунул руку под ее обнаженный локоть и прибавил:
– Флер, я тебе еще не очень надоел, а?
Тон его голоса, просительный, тревожный, тронул ее, и она прижала его руку локтем.
– Ты мне никогда не надоешь, Майкл.
– Ты хочешь сказать, что никогда у тебя не будет ко мне такого определенного чувства?
Именно это она и хотела сказать и потому поспешила возразить:
– Нет, мой хороший: я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже кто-нибудь стоящий.
Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам.
– Если б не быть такой сложной! – воскликнула Флер. – Счастье твое, что ты цельная натура. Это величайшее благо. Только, пожалуйста, Майкл, никогда не становись серьезным. Это было бы просто бедствие.
– Да, в конце концов все – комедия.
– Будем надеяться, – сказала Флер, и такси остановилось. – Какая дивная ночь!
Расплатившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Флер в открытых дверях. Дивная ночь! Да – для него.
XIII«Вечно»
В следующий понедельник, узнав от Майкла, что наутро Флер с Китом приезжает домой, Сомс сказал:
– Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Флер ничего не говорите. Я извещу ее из Нетлфолда. Там, я слышал, есть отель.
– И очень неплохой, – сказал Майкл. – Но он, наверно, будет переполнен: ведь завтра начало скачек.
– Я предупрежу по телефону. Для меня номер найдется.
Он позвонил, и номер для него нашелся – кто-то другой его не получил. Выехал он часов в пять, узнав от Ригза, что ехать предстоит два с половиной часа. С утра погода была типично английская, но к тому времени, как они достигли Доркинга, прояснилось, стало приятно. В течение многих лет Сомс почти не заглядывал в ту часть Англии, которая лежала за прямой линией, соединяющей его имение на реке с центром Лондона, и так как в этот день он был менее обычного озабочен, то мог даже заняться более или менее объективными наблюдениями. Местность, конечно, пестрая и бугристая, неисправимо зеленая и совсем непохожая на Индию, Канаду или Японию. Говорят, меньше чем полторы тысячи лет назад здесь были чащи, вереск, болота. Что тут будет еще через полторы тысячи лет? Опять чащи, вереск, болота или сплошной громадный пригород – как знать? Где-то он читал, что люди будут жить под землей, а по воскресеньям вылезать на поверхность и дышать воздухом, летая на собственных аэропланах. Что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка, и, по его мнению, играть в мяч под землей всегда будет душно, а в воздухе – невозможно. Те, что пишут пророческие статьи и книги, всегда забывают, что у людей есть страсти. Он пари готов держать, что и в 3400 году страстью англичанина будет: играть в гольф, ругать погоду, сидеть на сквозняках и изменять текст молитвенников.
И тут он вспомнил, что старый Грэдмен сильно постарел; надо подыскивать ему заместителя. По управлению имуществом семьи делать, в сущности, нечего – нужна только абсолютная честность. А где ее найдешь? Если она и существует, установить это можно только путем длительных экспериментов. К тому же человек должен быть молодой – сам он вряд ли долго протянет. И, подъезжая к Биллингсхерсту со скоростью сорока миль в час, он вспомнил, как старый Грэдмен вез его со скоростью шести миль с вокзала Паддингтон на Парк-лейн. Ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома, и было это лет шестьдесят назад, когда сам старый Грэдмен был двадцатилетним юнцом, пытался отрастить баки и целые дни писал круглым канцелярским почерком. Столб, на нем дощечка: «Пять дубов», – и ни одного дуба не видно! Ну и гонит этот Ригз! Не сегодня-завтра опрокинет машину – сам жалеть будет. Но велеть ему ехать тише как будто и недостойно, в автомобиле нет ни одной женщины, Сомс и сидел неподвижно, лицо его выражало легкое презрение – своего рода страховка от собственных ощущений. Через Пулборо, зигзагами вниз, по мостику, через речку, в совсем незнакомую местность. Непривычный вид: справа и слева плоские луга, – зимой тут, конечно, будет болото; на лугах – темно-рыжий скот, и черный с белым, и розово-пегий, а дальше к югу – высокие холмы необычного голубовато-зеленого оттенка, будто внутри они белые; выходы мела то тут, то там, и, наверно, на холмах есть овцы – отец его всегда почтительно отзывался о южноанглийской баранине. Очень хорошее освещение, все серебрится, красивая в общем местность – здесь чувствуешь, будто тело становится легче, и голова не такая тяжелая. Так вот где обосновался его племянник и этот молодой человек, Джон Форсайт. Ну что ж, бывает хуже – очень своеобразно; точно такой местности он как будто не видел. И нехотя, из присущего его натуре чувства справедливости, Сомс одобрил их выбор. Как этот Ригз бьет машину на подъеме, а подъем трудный; мелькают разработки мела и разработки гравия, поросшие травой холмы и полоски леса в низинах, сторожка у ворот парка, потом большой буковый лес. Очень красиво, очень тихо; живого – только деревья, развесистые деревья, очень тенистые, очень зеленые! Дальше какая-то большущая церковь и нагромождение высоких стен и башен – по-видимому, замок Эрендл, мрачный, тяжелый; чем дальше от него отъедешь, тем, наверно, красивее он выглядит; потом опять через реку и опять в гору, и дальше во весь дух в Нетлфолд, и вот отель, и впереди – море!
Сомс вышел из машины.
– Когда обедают?
– Уже начали, сэр.
– Одеваться полагается?
– Да, сэр. Сегодня бал-маскарад, сэр, по случаю скачек.
– Тоже затея! Оставьте мне столик, я сейчас приду.
Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена – умение одеться к обеду за десять минут, и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через двенадцать минут он сидел за столом. Уже кончали обедать, одеты все были как обычно. Сомс ел не спеша, поглядывая в окно на сад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю, не то что Флер: недаром семь лет прожил в Брайтоне и каждый день ездил на работу в Лондон. То было время, когда его покинула первая жена и он старался забыть свой позор. Странно, почему это позор всегда достается в удел тому, кто обижен? Людей восхищает безнравственность, сколько бы они ни утверждали обратное. Покинутый муж, покинутая жена вызывают пренебрежение. Что это – остаток дикости в человеческой природе или просто реакция против официальной нравственности судей и духовенства и так далее? Нравственность иногда уважают, но официальную нравственность – нет! Он читал это во взглядах людей после своего несчастья; убедился в этом во время процесса против Марджори Феррар. Выходит, что люди прибегают к защите закона, но втайне недолюбливают его, так как он обязывает. Та же история и с налогами: без них не обойтись, но когда есть возможность не заплатить – отчего же?
После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы: дамы с детьми или собаками, разодетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы в еще более невероятных позах; титулованные мужчины, мужчины на аэропланах, государственные мужи в неприятных ситуациях, скаковые лошади; большие дома и люди, выстроившиеся перед ними в ряд, и тут же напечатанные имена их, и прочие признаки Царства Небесного на земле. Остальные гости, верно, «расфуфыриваются» для бала (как сказал бы Майкл); подумать только – в их возрасте, и рядиться! Но дураков на свете много – это он давно знал! Флер удивится, когда он нагрянет к ней завтра утром. Скоро она приедет к нему на Темзу – сейчас там самое лучшее время, – и, может быть, ему удастся уговорить ее поехать с ним в автомобиле куда-нибудь на Запад и отвлечь ее мысли от этой части Англии и этого молодого человека. Он часто сам себе обещал поездку на родину старых Форсайтов; только вряд ли Флер заинтересует такая примитивная картина, как владения бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук, и он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Не много уж, верно, лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше, но как прожить дольше старых Форсайтов, он, право, не знал. В среднем десятеро их прожили по восемьдесят семь лет – чудовищный возраст! А между тем как будто и странно будет умереть через пятнадцать лет, когда, вот как сейчас, цветут цветы и внук так хорошо подрастает. В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился. Вот, например, коровы, и грачи, и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь, так близка и нужна становится природа? Впрочем, Флер она, вероятно, никогда не будет нужна – ей нужны люди; хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз и навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья Сомса. На набережной было людно, играл оркестр. Оркестр играл и за его спиной, где-то в отеле. Наверно, танцуют! Пойти посмотреть – а потом спать. Во время кругосветного путешествия с Флер он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцуют; странное это занятие в наше время: шимми, чарльстон – так, кажется, – ужас! Он вспомнил танцкласс, где маленьким мальчиком его обучали польке, мазурке, манерам и гимнастике, и бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Ширс, маленькая старушка, обучавшая его и Уинифрид, умерла бы на месте, доведись ей дожить до современных танцев! Старые танцы теперь презирают: он, по правде говоря, и сам их раньше презирал, но по сравнению с теперешними – ходить взад-вперед и дрожать в коленях – это все-таки были танцы. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться и подвывать, или старый галоп под песню «Джон Пиль молодец» – забористые были танцы, приходилось менять воротничок. Теперь воротничков не меняют – знай себе прохлаждаются. Странный способ наслаждаться жизнью в эпоху, когда только об этом и кричат. Он вспомнил, как еще до первого брака забрел как-то случайно в один из старых танцевальных клубов «Атеней» и видел, как Джордж Форсайт и его приятели кружат своих дам в вальсе так, что у тех ноги пола не касаются. В то время девушки в этих клубах все были профессиональные ночные бабочки. Сейчас, говорят, совсем не так. Но верно одно: люди притворяются – притворяются прожигателями жизни и все такое, а жить не живут, все только думают, как бы пожить.
Музыка джаза смолкла, потом опять зазвучала, и он встал. Взглянуть одним глазом – и спать.
Зал был расположен где-то в стороне, Сомс пошел коридором. В конце его вихрем кружились звуки и краски. Танцевали «расфуфыренные» на совесть мефистофели, испанки, итальянские крестьяне, пьеро. Ошалелый взгляд с трудом охватывал расхаживающую, вертящуюся толпу; ошалелый слух решил, что мелодия пытается изобразить вальс. Он вспомнил, что вальс идет на счет «три», вспомнил, как танцевали вальс в прежнее время, слишком ясно вспомнил бал у Роджера и Ирэн, свою жену, вальсирующую в объятиях Босини; до сих пор он не забыл выражения ее лица, и как волновалась ее грудь, и запах гардений, приколотых к ее платью, и лицо этого человека, когда она поднимала на него свои темные глаза, и как ничего для них не существовало, кроме их преступного счастья; вспомнил балкон, на который он бежал от этого зрелища, и полисмена внизу, на красной дорожке, постеленной через тротуар.
– «Вечно» – хороший вальс! – сказал кто-то у него за спиной.
И правда неплохой, такой нежный. Из-за плеча крупной дамы, пытавшейся, по-видимому, изобразить фею, он опять стал разглядывать танцующих. Что это? Вот там? Флер! Флер в своем костюме с картины Гойи! Виноградного цвета платье – La Vendimia, сбор винограда, – разлетается от колен, лицо почти касается лица шейха. Флер! И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии! Чтобы не застонать, Сомс закашлялся. Эта пара! Так близко, и словно ничего для них не существует. Как Ирэн с Босини, так она с этим Джоном! Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой феи. Сомс старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять близко, глаза ее почти закрыты, он еле узнал их, а над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи, – глаза Джона, глубокие, напряженные! А жена его где? И в то же мгновение Сомс увидел ее – она тоже танцевала, но все оглядывалась на них – русалка в чем-то длинном, зеленом, с удивленными ревнивыми глазами. И понятно, когда у нее перед носом плывет юбка Флер, волнуется ее грудь, излучают томление глаза! «Вечно». Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия, не кончат танцевать эти двое, которые с каждым тактом словно все теснее прижимаются друг к другу! И из боязни быть замеченным Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к себе в номер. Взглянул одним глазом, и довольно!
Оркестр на набережной перестал играть, публика расходилась, огни гасли. За окном шумело – должно быть, подходил прилив. Сомс тронул рукой крахмальную сорочку: там, где болело, – и замер на месте. «Вечно». Страх перед неисчислимыми последствиями заливал его сознание, как рокочущий морской прилив. Дочь отверженная; внука у него отняли; память о прошлом отравлена; надежды пошли прахом! «Вечно». Как бы не так! Не допустит он! Никогда! И мрачное самообладание, которое только два или три раза в жизни изменяло ему, и всегда с плачевным результатом, опять изменило ему на мгновение, так что всякий, кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля, счел бы его за безумного. Припадок прошел. Что толку лезть на стену! Еще хуже: только заболеешь, – а ему нужны все его силы. Для чего? Чтобы сидеть смирно, ничего не делать; чтобы ждать, что будет. Венера! Не прикасаться к богине – злобной, ревнивой, с пустыми темными глазами! Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться! Владеть наболевшим, тревожным сердцем! И просто ждать, что будет.









































