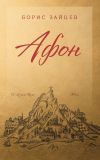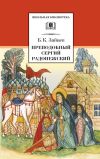Текст книги "Святая гора Афон"
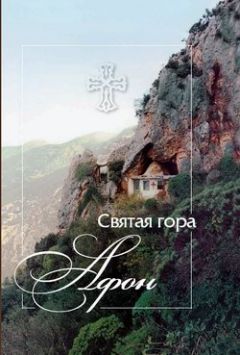
Автор книги: Е. Михайлов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
И только! – Доброта, прощение, милосердие… Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее существенной стороной! – Но аскетизм и суровость они забыли? – Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались? – О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спаситель крестился, был монах в высшей степени они не знают? – О сорокодневном посте самого Христа в пустыне они не думают? – О догмате греха первородного, о духе тьмы, о догмате Троицы христианской они молчат, а это есть в Евангелии и в Апостольских письмах. – Нельзя, принимая святость Евангелия и божественность Христа, отвергать одно место в книге и выбирать по вкусу другие. Все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать, как несущественное. – Что-нибудь одно: или Ренан и Штраус – правы или все существенно! —
Религия всепрощения; – да! – Но вместе с тем и религия самобичевания, покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе, но и разумной строгости к другим. —
«Иди и не греши»… – сказал Христос, прощая блуднице. – Он не сказал: «Иди, ты права!» —
Первоначальная, Православная Церковь, эта Византийская, высокая культура, столь оклеветанная враждебными ей Церквами и так плохо понятая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего века поверили в осуществление реального Эдема на этой земле, – вся эта особого рода культура, весь этот особый род просвещения был лишь развитием, объяснением основного Евангельского учения, а никак не искажением его, как думают те, которым бы хотелось из христианства извлечь один лишь осязательный практический утилитаризм. – Впрочем не одни утилитаристы так думают; – так думают нередко и люди религиозные. – Ты помнишь, мой друг, мою воспитательницу? – Ты сама любила и уважала ее. – И конечно, она в высшей степени заслуживала этих чувств. – Всю жизнь – в борьбе с нуждою, вскормленная у отца в богатстве, самолюбивая, умная, высокообразованная, привычная ко вкусам и понятиям самого высшего общества времен Александра I-го, – она должна была всю жизнь свою пересоздать, перестроить не так, как хотело ее воображение; – окружающие не умели вполне ценить и понимать ее; – большинство детей ее было гораздо глупее и ниже ее; – они больше боялись, чем любили ее, и не постигали ее изящных и вместе с тем строгих требований. – Она стала взыскательна, раздражительна, иногда несправедлива в гневе; ты все это знаешь, но ты знаешь также, какая глубина благородства, любви и какой-то мрачной доброты проявлялась в ней до последнего издыхания…
Мир ее высокой душе! Мир подай, Господи, ее страдальческому праху! – Однако… и эта просвещенная, эта необычайно умная женщина платила дань тому полулиберальному, полухристианскому веку, в котором она выросла и жила. —
Она, например, не любила постов и на содержала их, кроме дней говения, не любила монахов, не любила духовенства вообще. Говеть – она говела, как ты знаешь, и плакала даже почти всегда на исповеди у простого сельского духовника своего. – Она утром и вечером понемногу молилась и, закрывая Ж. Занда или Дюма, бралась нередко за Евангелие с большой любовью. – Но я замечал, что житий она не читала, хотя, конечно, с детства кой-что помнила из них. – К мощам на поклонение, впрочем, она заезжала не раз в течение своей жизни, но и тут, я помню, она полушутя говорила мне: «Я гораздо больше люблю своего милого Димитрия Ростовского, чем Св. Сергия Чудотворца. – C’est plus comme il faut а Ростов.[6]6
Это было для меня невыносимо (франц.).
[Закрыть] – Тихо так; – зайдешь и помолишься. А уж Сергий такой демократ! – Мужиков и нищих бездна! – Je ne puis pas souffrir tout cela[7]7
Живи и жить давай другим (франц.).
[Закрыть]; – хотя я и знаю, что это грешно!..»
Милая и строгая тень моей благородной благодетельницы! – Я верю в загробную жизнь; но какова она – кто знает? —
«На крест, на могилу;
На небо и землю
Творец Всемогущий
Печать наложил…»
Видишь ли ты, как я пишу эти строки? – И если видишь, то как? – Так, как мы: с участием? – с улыбкой? – с прощением? – с человеческим чувством? – Или иначе – я не знаю!..
Но я прошу тебя, тень святая моей памяти, прости мне, если я скажу, что и ты платила дань веку, не понимая иногда Православия и отделяя его от какого-то особенного, простого и чистого христианства! И от тебя я слыхал не раз, что учение Евангельское просто и доступно, но что духовенство исказило его, прибавив слишком много сложного…
Боже! – Но мог ли краткий и простой рассказ Евангелистов, не развиваясь далее, объединить в едином учении такое множество разных народов: Греков, Евреев, Славян, Египтян, Римлян и Сирийцев?..
Сложность необходима для единства, по мере расширения поприща во всем. – И Христу угодно было предоставить первоначальное учение свое обыкновенным законам развития всего земного. —
Именно слишком свободное понимание первоначального учения и породило столько вредных ересей, борясь против которых. Церковь развивала постепенно и естественно трудную философию, единый, но изящный и сложный обряд; нравственность – одну по цели и духу, но разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам… Да! Миряне, и верующие даже, нынче плохо знают свою веру. – И потому, отчасти извиняя им, Церковь говорит: «Иное – мирянин, обремененный в наше время такой бездной настоятельных забот и потребностей; иное дело – монах, которому вся обстановка его должна помогать для достижения высшего христианского идеала, который выразился в словах: «Царство мое не от мира сего». —
И мирянин, который воображает, что он всегда прав и никогда не имеет мужества или простодушия сознаться громко в своих ошибках и проступках, возмущает нас и внушает нам отвращение, помимо всякого религиозного чувства. – Не раз, я думаю, и тебе случалось предпочитать человеку, который во всем себя оправдывает, такого, который говорит грубо и твердо: «Да! Я знаю, что не прав, но я так хочу и сделаю по-моему!» —
Тебе, конечно, нравилась эта прямота и самобытность в зле. – Но суждение это не нравственное, а эстетическое. И демон привлекателен; – иначе он не был бы искусителен…
Господень Ангел тих и ясен,
Его живит смиренья луч,
Но пышный демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч.
Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живит смиренья луч». – Он, кажется, находил его смысл неясным.
Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; – чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие… Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, – исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. – Идеал искреннего, честного монаха – это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, к семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному, – должны быть отвергнуты. Бесстрастие – вот идеал. – Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу… «Его живит смиренья луч…»
Да! Путь и просто христианский, а тем более монашеский труден! —
Раскрой книгу Иоанна Лествичника о монашеской жизни. – Что ты увидишь? – Каждая добродетель грозит тебе грехом. – Уединение в особом жилье пустынном, в лесу или в горах грозит тебе то внутренней гордостью: «Я свят», то унынием и отчаянием: «О, я погиб, я ни на что не годен; не хочу ни молитвы, ни рукоделья ни размышлений о Божестве!» – Жизнь в многолюдной обители угрожает тебе: – тщеславием. (Посмотрите, братия, и вы, мои добрые миряне-посетители, какой я набожный, смиренный, какой я примерный инок!); – завистью, при виде какого-нибудь малейшего предпочтения или внимания другому; – гневом, при каких-либо столкновениях, неизбежных в тесно живущем обществе. —
У свободного пустынножителя доброта душевная, желание раздавать милостыню нищим монахам или мирянам может тоже переродиться или в сребролюбие для себя, или в тщеславие и гордость вследствие лести и благодарений, которыми бедные начнут меня осыпать. – Под предлогом приобретения для раздачи другим я могу начать приобретать побольше и для себя и буду радоваться, как осужденный Христом фарисей, что десятую часть раздаю нищим. —
Во всем и везде нравственная опасность. – «Рассудительность, – говорят опытные иноки, – располагает к жестокости; снисходительность – к греховному потворству себе и другим; недостаточные телесные подвиги, слабый пост, малая молитва, неутомительный телесный труд дают в организмах сильных слишком много простора плотским страстям и сладострастной фантазии… И наоборот – чрезмерное утомление тела, не по силам природным, наводит духовную усталость, уныние, отвращение от начатого пути, располагает к фантазиям, характера более мистического, положим, но все-таки лживым и вредным для здравого и постепенного совершенствования в монашеской жизни». —
Такова постоянная внутренняя борьба, преследующая добросовестного инока иногда и до гроба. —
Если ты, читая мои первые письма, подумала, что монастырь есть всегда «тихая пристань» для нашего внутреннего мира, ты ошиблась. —
В монастыре или в пустыне ищут правды, спокойствия, но какого? —
Спокойствия христианской совести, сознавшей свои прежние проступки или испуганной еще при самом вступлении в жизнь водоворотом страстей, обманов, огорчений, водоворотом, который кипит и клокочет вокруг каждого человека со дня его вступления в эту горькую жизнь земную! —
В обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно, в скиту лесном с тремя-четырьмя товарищами, в хижине – старец вдвоем с покорным послушником или молодой послушник вдвоем с любимым старцем-повелителем – везде монахи ищут забвения мира и его борьбы, его горя и его наслаждений; – но лишь для того, чтобы, отдохнувши ненадолго, начать новую, иного рода внутреннюю борьбу, – для того, чтобы узнать новые горести крайне жгучие и новые радости, новые наслаждения, которых тебе и не понять, пока сама их не испытаешь! —
Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? – Знаешь ли сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?
Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих моих строк…
Неправда ли, ты восклицаешь: «Хорошо! Но какая же польза во всем этом?» —
На этот вопрос я отвечу тебе тоже вопросом: «А ты знаешь, что такое всеобщая польза?» —
Если ты в силах ответить мне на это серьезно, глубоко и научно, если ты можешь сказать мне о пользе что-нибудь убедительное, математически точное, а не социально-чувствительное; что-нибудь такое ясное, перед чем бы я задумался, то я согласен не хвалить более ни того, что вы зовете мистицизм, ни монахов, ни Афонскую гору. —
А так как я знаю, что ни ты, ни вся стая ваших прогрессивных пустозвонов, все сотрудники «Вестника Европы»,«Голоса» и «Дела» не в силах объяснить мне научно и точно, что такое по-ихнему всеобщая польза, то я предлагаю тебе избрать лучше путь смирения, молчать и слушать меня внимательно. —
Прежде всего, кончая это письмо, я спрошу тебя, понимаешь ли ты, что значит слово эвдемонизм? – Конечно, нет! —
У Греков для выражения идеи счастия есть два слова. Одно – эвтихия; – это значит внешнее счастие, удача, хорошая судьба; а другое – эвдемония – внутреннее счастие, субъективное довольство, благоденствие… Ты согласишься, что это огромная разница? —
Потрудись же запомнить, мой друг, слово эвдемонизм; я буду часто употреблять его, ибо так лучше всего назвать ту новую религию, которую проповедуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века. – По-моему все остальные названия неверны; – они все менее широки и не касаются самой сущности, самого основного догмата этой новой веры во всеобщее земное благоденствие, которое отныне должно составлять конечную цель человечества. —
Реализм обозначает в науке лишь методу; – в искусстве – любовь к осязательным мелочам будней наших; отсутствие лиризма в приемах и духе. – Реализм сам по себе не отвергает и не принимает никакой религии, никакой социальной тенденции, никакой философии. Он игнорирует их; – с чистым реализмом ум наш свободен за пределами явления. —
Если мы скажем прогрессизм… Это будет неверно. – Прогресс – значит движение вперед. – Но я имею право спросить, что такое движение вперед? – Вперед можно идти к старости, к смерти, к разорению; – вперед можно идти не к лучшему, а к худшему. – Человек может верить в нынешний прогресс, не сочувствуя ему; – Француз умный может верить, например, прогрессу своей Франции… но куда?.. К разложению… Так верил бедный Прево-Парадоль, который застрелился. – Он, конечно, не сочувствовал этому прогрессу Франции. —
Демократизм – слово одностороннее и выражает только юридическую или политическую сторону вопроса. – Равенство прав считается лишь одним из главных условий для торжества новой эвдемонической религии. —
То же самое и либеральность. – Коммунизм – экономическое понятие. – Коммунистами можно назвать и монахов общежительных монастырей; но они коммунисты для отречения, для аскетизма, а не для земной чувственной эвдемонии, которой аскетизм христианский есть сильнейшая антитеза. – Матерьялизм есть термин столь же односторонний, сколько и демократизм, например; – последний имеет смысл только юридический, а первый – только философский. – Можно быть материалистом и не верить в земное благоденствие и даже не любить его. Любопытно, что из поэтов многие были материалистами; – но всеобще-сухой эвдемонии все они, видимо, терпеть не могли. – Нигилизм еще хуже; – во 1-х, Кельсиев еще прежде меня хорошо возражал, что это слово значит отрицание всего, а люди, которых прозвали нигилистами, имели хотя бы и ложный, или вредный идеал, но очень ясный, положительный: республика, атеизм, экономическое равенство… А, во 2-х, слово нигилизм соединилось в наших русских привычках и представлениях, с легкой руки Тургенева, с чем-то отчаянным, свирепым, всеразрушающим, Сибирским, революционным…
Но нигилистов таких бурных мало везде, а эвдемонистов – множество, и очень честных, скромных, везде таящихся, пишущих, служащих, торгующих, даже… даже… у нас, в России, я боюсь, в среде молодых людей, одетых в рясу иереев…
Эвдемонизм – это вера в то, что человечество должно достичь тихого, всеобщего блаженства на этой земле. —
Разве только революционеры и государственные преступники верят этому идеалу? Не служат ли ему тысячи людей везде полусознательно… подкапывая наивно то один, то другой оплот, то из честолюбия личного и моды, то из вялого и незоркого добросердечия. —
Прогрессист, пожалуй, в известном смысле может вовсе не быть эвдемонистом. —
Например, Православный человек может думать так: «За днем следует ночь, за ночью – опять утро. Теперь вечер… И так, если поток уже неотвратим, то пошли Бог, чтобы скорее уже настала ночь, чтобы я видел зорю возрождения той Веры, которую я считаю истинной. Ибо, даже говоря исторически, лучше ее не было и не будет на земле… Вперед! Вперед! Слава Богу…
Умеренные эвдемонисты ужаснулись горящего Парижа. Либерал-эвдомонист Жюль Фавр послал циркуляр, повсюду привлекший внимание монархических Правительств на замыслы международной ассоциации, желающей тоже общего блага, но не по-Фавровски.
Ренан простирает с отчаянием руки к католическому прошедшему Франции… Тем лучше. Вперед, вперед!
Запомни же, прошу тебя, это имя новой веры, обещающей всебуржуазный, всетихий и всемелкий Эдем на нашей, до сих пор еще, слава Богу, как будто бы капризной и причудливой земле. – Цель – всеобщая польза, понятая как всеобщее, внутреннее, субъективное довольство; средства – у дерзких – кровь, огонь и меч – словом, новые страдания; – у осторожных, лицемерных, или робких – проповедь однообразного реализма, всеобщего ограниченного знания, всеобщей бездарности и прозы! —
Если бы я хотел все это забыть здесь на Афоне, то не мог бы. —
Субъективный эвдемонизм есть в высшей степени антитеза христианского аскетизма, как я уже сказал. —
И тот, и другой имеют в виду прежде всего личность, душу человеческую (индивидуума); – но один говорит: все на земле и все для земли; – а другой – ничего на земле; ничего для земли. – «Царство мое не от мира сего!» —
И в то же время (какая странная игра идей! Какое перекрещивание исторических законов!) – в то же время аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенство, то есть остается верен феноменальной философии строго реализма, а эвдемоническая вера мечтает уничтожить боль, этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной феноменальности… Христианство сообразнее на практике и с земной жизнью, чем эти – холодные надежды бесполезного прогресса!
Письмо 3-е
Июль. 16; 1872
Я очень люблю отыскивать у наших светских поэтов православные христианские молитвы. – Ты уже заметила, я думаю, из моих прежних писем. —
У Кольцова, у Пушкина их много, но у Лермонтова – больше всех. – «По небу полуночи Ангел летел» – прекрасно, но христиански не совсем правильно. – В нем есть нечто еретическое; это идея о душе, приносимой извне на эту землю «печали и слез». – Это теория Платона, а не христианское понятие о появлении души земного человека впервые именно на этой земле. —
Зато «Молитва»,«Ребенку»,«Ветка Палестины», некоторые места из «Купца Калашникова», из самого«Демона» могут выдерживать самую строгую Православную критику и благоухающей поэзией своей могут сделать иному сердцу больше пользы (видишь, как это понимание пользы шатко; – статистик твой скверный сказал бы – вреда), больше пользы, я говорю, чем многие скучные проповеди.
Есть у Лермонтова одно стихотворение, которое ты сама, я знаю, любишь… В нем надо изменить, одну лишь строку… (и, мне кажется, он сам изменил бы ее со временем, если бы был жив) и тогда оно прекрасно выразит состояние моей души теперь. – Без этого изменения, созна юсь тебе, оно теперь было бы мне противно, обо напомнило бы мне все то, о чем я так рад забыть:
Выхожу один я на дорогу —
Сквозь туман кремнистый путь блестит
Ночь тиха; – пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит…
Да! Для меня теперь жизнь на Афоне почти такова. —
В последнем письме моем я говорил о том, что и в обителях, и в пустыне человек не может достичь полного спокойствия. – Борьба и горе, ошибки и раскаяние не чужды ему везде. – Я говорил о той внутренней, духовной борьбе, которая есть удел каждого честного, убежденного инока. —
Но ты не думай опять-таки, что монастырь есть какой-то ад. – Это опять будет крайность. – Не Эдем нерушимого земного спокойствия, и не ад. – Монастырь есть жилище человеческое, с особыми горестями и особыми наслаждениями. – Человек, чтобы иметь эти особые радости, решается на особые, сопряженные с ними горести, стеснения, падения и подвиги. – Вот и все. —
Мне, как непостриженому, как гостю, достался пока еще один только благой удел… Созерцание, беззаботность обо всем внешнем, о материальных нуждах, например, по временам почти полное приблизительное спокойствие…
Уж не жду от жизни ничего я.
И не жаль мне прошлого ничуть,
Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть.
Но не тем холодным сном могилы
Я б желал навеки тут заснуть.
Чтоб в груди дрожали жизни силы.
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
«Мне про Бога» сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел. —
Не думай, однако, что и вид других, вид настоящих монахов внушает скуку, тоску или какое-нибудь постоянное сожаление. —
Есть минуты, в которые действительно на них тяжело смотреть. – Например – великим постом; и особенно в Страстную неделю. – Тогда в самом деле непривычному человеку страшно немного смотреть на эту нескончаемую службу в храмах, на эти бессонные ночи и на полное воздержание от пищи и пития в иные дни. Только певчим, для поддержания их сил, дают в такие дни по куску хлеба. —
Но когда вспомнишь, что этих людей никто здесь насильно не может удержать, что у многих есть даже и хорошие средства к жизни, которые они могли бы себе возвратить из кассы без всяких юридических препятствий (о нравственных я не говорю)… тогда и эти дни слишком тяжелого, хоть самовольного подвига, производят совсем иное впечатление. – Люди хотят этого сами; – они рады этим тягостям, они не хотят отказываться от них…
Воля твоя! Но презренны и смешны становятся рядом с такой идеальной жизнью, с такими идеальными радостями ваши «каскадные» увеселения, ваша нынешняя, средней руки, мелкая, дряблая роскошь из картона, бронзы и папье-маше.
Зато, как все веселы на Пасхе! – Впрочем, о Пасхе я уже прежде писал тебе.
В обыкновенное время многолюдная, хорошо управляемая киновия производит на посетителя успокаивающее и скорее даже веселое впечатление. – В киновии унынию мало места. – Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; – довольные, спокойные лица; – каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. – Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом. – Дрова ли рубишь или землю роешь в саду и винограднике, комнату ли ты метешь, хлебы ставишь в печь, управляешь ли ты небольшим имением монастырским, даже за чертой Афона, и там входишь в сделки с мирянами, продаешь и покупаешь, нанимаешь работников и рассчитываешь их; быть может, иногда даже споришь и ссоришься с ними; – при всех этих трудах, вовсе не духовного свойства, тебе ежеминутно присуща мысль, что ты трудишься не для себя и не для труда самого (как советуют многие нынешние материалисты; – что за скука!), но для обители, которая тебя приняла в свою среду. – И если ты при этом хоть сколько-нибудь самосознателен, опытен, начитан в Писании, то тебе на ум легко при всякой работе может придти такой ряд мыслей: «Мой простой, рабочий, или торговый труд нужен обители, обитель нужна Церкви, ибо монастыри суть лучшие склады преданий и обычаев Церковных – они – средоточия, из которых обыкновенно исходят, по совершении общежительного испытания, и самые высшие аскеты в лесные хижины и пещеры; – монастыри суть неподвижные звезды Церкви, от которых далеко льется свет на весь Православный мир». – Свет этот может быть бледнее, тусклее по временам; монашество может слабеть и падать нравственно; оно может даже вырождаться и становиться грубым о порочным; но в этом виновато мирское же общество, не отдающее в обители лучших своих представителей; виновато большинство, не выносящее даже и подобие аскетической жизни, а не сам аскетический этот идеал и те немногие, которые остались ему верными слугами!.. И вот, когда случится мирянину, погруженному в «житейские попечения» до невозможности какого бы то ни было богомыслия, увидать перед собой в наше время высокого подвижника в пещере или лесной хижине, подвижника, которого вся жизнь, – все попечения – только одно это богомыслие, – как бывает поражен и тронут этот далеко удалившийся от духовного настроения человек!.. Мне скажут на это: «Да, пустынник, быть может, и полезен в этом смысле; – но обыкновенный монах? Монах рабочий, хозяйственный, практический монах, хлопотун по соборам и доходам обители? В нем-то какая святость?!» Пустынник этот (повторяю я) вышел на свободное пустынножительство, послуживши смолоду покорно или другому пустыннику-старцу, или многолюдной общине. – Аскет нужен, как путеводная звезда, как крайнее выражение Православного отречения и нам монахам-непустынникам, и многим мирянам, которых воображение требует сильных впечатлений. – Аскет нужен мирянам и Церкви; монастырь нужен аскету; – он изредка придет в обитель; – он причастится в ней, он побеседует с духовниками; – он и сам подаст им советы, если они его спросят. – Монастырь нужен и мирянину, как посредствующее звено между городской роскошью и сырой пещерой пустынника. – Богатый горожанин хочет видеть пустынника. – Он приехал издалека. – Где он успокоится и отдохнет? – Где ему будет ночлег, гостеприимство? – Где та беседа, которая ему нужна? Конечно, не в самой пещере или хижине аскета. – Строгие, истинные аскеты (какие и теперь существуют, слава Богу) не любят посещений. – Они, как огня, боятся репутации святости. – Придите, – они не прогонят вас, они будут и говорить с вами, но, конечно, не будут зазывать к себе. – Зачем им посетители? – Одно смущение! Денег они не берут; питаются иные от какого-нибудь рукоделья, посылая, например, послушника своего продать на базаре деревянные ложки своей скромной работы; – другие и того не имеют, а ожидают, чтобы им из монастыря соседнего дали сухарей. – Живут они на Афоне в таких местах, которые доступны не всякому человеку и не всякому здоровью. – Вот, например, как описывает один лично знакомый мне автор, человек очень правдивый и умный, образ жизни и жилище строгого Афонского отшельника. —
«Испытавши все степени трудов и лишений пустынной, в диких местах, жизни, о. Пахомий, наконец, вселился в упоминаемой выше пещере, в которой никто из обыкновенных людей жить не может; – так, что самые строгие отшельники дивятся его необычайной решимости и самоотверждению. – Но нужно было о. Пахомию получить еще от духовника благословение на водворение в новой пещере. – Желая, чтобы духовник выслушал его без предупреждений и отечески, о. Пахомий стал говорить, что, проживая временами в такой-то пещере, не ощущает никакого вреда и проч. – и убедил, наконец, духовника пойти с ним и посмотреть его пещеру. – На месте, выслушав опять исповедные слова старца, – что он ощущает великую пользу от совершенного удаления от всяких попечений и что избранная им пещера вполне соответствует его духовному настроению, духовник соизволил его желанию и благословил водвориться ему в этой пещере, но только в виде опыта, а если не сможет жить, то переселиться вниз, – ближе к морю. – Много прошло времени, пока духовник окончательно благословил о. Пахомия водвориться в пещере. —
В этой пещере и тепло бывает только зимою, когда заметет ее всю совершенно снегом. Недавно кто-то снабдил о. Пахомия рубашкою, или двумя, обувью, постилкою, подрясником и рясою; все это вместе со священными книгами, какие он имеет, бывает сухо только, когда вывешивается на солнце, ибо в пещере сырость, и сырость всегдашняя. – Некоторые из ревнующих подражать жизни его решались проводить у него малое время; – но, как видно, не стяжали еще веры неколеблющейся, и все, при виде холодного и сырого камня пещерного, усумневались и пострадали различно: у одного иеромонаха в одну ночь все тело покрылось волдырями, как бы кто усыпал его горохом; – другой простудил половину тела с той стороны, какою лежал к стене пещеры, успокоившись после мирного ночного подвига; – а некоторые пострадали расстройством желудка и теперь боятся Пахомиевой пещеры как огня. —
Проводя подвижническую жизнь в таких местах, где неоткуда было достать хлеба, о. Пахомий приучил себя к такой пище, которую редко кто может кушать! – И до днесь он употребляет почти одно и то же: потолчет, например, камнем гнилых каштанов, прибавит, если есть, сухарей, тоже зацветших, положит все это в воду и, заболтав мукою, иногда варит, а то и так, – и кушает себе на здоровье, прибавляя иногда дикие сухие плоды, которых никто не станет кушать и свежими, – и удивительно, остается здоровым!!
Удивительная в нем черта всецелой преданности Промыслу Божию! – Как бы в чем он ни нуждался, никому не скажет о своей нужде, оставаясь и теперь нередко без сухарей; – а если сам кто вызовется что дать ему, усмотрев его крайнюю нужду, то старец примет, как посылаемое ему от руки Божией. – Разительнее всего преданность воле Божией, как плод живой, действенной веры, обнаруживалась в о. Пахомии во время болезней; – тут ни лекарств, ни удобств больному никаких нет, да что говорить об удобствах, когда и воды подать некому и неминуемо приходится умереть от одного только голоду и жажды! – О. Пахомию только и зрится один Бог, Который послал ему болезнь, Который силен исцелить его, или призвать его к вечной жизни; он в руках Божиих как бы весь, выражаясь в словах, часто им произносимых: «Да будет воля Твоя! – Слава Тебе, Господи!» – Что бы с ним ни случилось, он все примет одинаково – с благодарностью и преданностью Господу. —
Родом о. Пахомий – Сербин; – говорит по-славянски, примешивая немного болгарских слов; – беседу его понимать русскому можно. – Но как сладка его беседа, выражаемая самым простым сердечным словом, – это можно только испытать, а передать почти невозможно. – Судя по настоящей обстановке о. Пахомия и неразвитости его в прежнее время, нужно бы заключить, что ему естественно дойти до состояния звероподобного и потерять самую способность мыслить по-человечески, но опыт показывает другое. – Господь может, видно, и без книги отверзать ум к уразумению таких тайн, кои навсегда останутся недоступными для мудрецов века сего. – Да и как же иначе? – Они, эти дикари, полузвери пустынные, верят от всего сердца всему сказанному Господом в Евангелии; – сомневаться по-ученому они не умеют и приступают в полном смысле слова – в простоте сердца ко Господу, сказавшему: «Научиться от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим!» —
Святая улыбка всегда сияет на лице о. Пахомия, как будто всем он обилует, все ему служат, над всеми он царь! – Да и в самом деле, о чем ему скорбеть и сокрушаться? – Нет у него сухарей, одежды, или обуви?.. – Что ж? – У него есть Бог, Который все это видит и, как Ему угодно, так о нем и промышляет. – В сем старец уверен так же, как и в том, что имя ему Пахомий. – Сыро и холодно в его пещере, и нечем защитить ее, по крайней мере от снега, так что все у него мокро и плесневеет?.. Зато у него есть терпение, в которое он облекся как в броню! – Постигают его существенные бедствия, скорби монашеские и искушения от злокозненного врага? – Зато у старца столько преданности воле Божией, что хоть пусть столкнутся небо и земля и все превратится, его ничто не потрясет и не поколеблет! В самом деле, что может поколебать эту адамантову душу, если он в Боге и Бог в нем?!
В Апреле 1869 года мы нарочно ходили к о. Пахомию. – О, как мы утомились, пока достигли его обиталища! – Это неизобразимо! – И ноги подламывались, вовсе отказываясь двигаться, и утомление было такое, что хоть ложись среди дороги! – К нашему горю, или испытанию, пришедши, мы не застали о. Пахомия в нижней его пещере, – он должен был находиться или в отлучке, или в верхней пещере. – При взгляде на подъем туда я и другие спутники окончательно отказались взбираться туда; – вызвался же сходить один пустынножитель-пещерник, бывший на этот раз нашим проводником. Как он взбирался туда, это нужно было видеть!.. Тут мы еще больше убедились в невозможности взойти туда нам, хотя бы мы вовсе были не утомлены; – ибо, кроме неимоверной трудности подъе ма, угрожала еще опасность опрокинуться, скатиться вниз и жестоко разбиться. – Долго мы дожидались, разместясь в нижней трехэтажной пещере о. Пахомия, где горела лампадка перед иконою Божией Матери, разливая свой тихий свет на мрачные стены сырой пещеры и проливая в душу иной, тихий и сладостный свет от Самой Благодатной Игумении Афона. – Желая рассмотреть, далеко ли протягивается пещера о. Пахомия, мы стали взбираться по камням вверх, но свечи наши скоро потухли от густоты спертого сырого воздуха, и мы не могли потому дойти до конца пещеры. – После долгого ожидания я стал опасаться за целостность посла и отправился посмотреть, не увижу ли кого. – И что же? – В это время ожидаемые нами вдвоем спускались по скале: – старец был впереди и полз уже от места, где кончилась веревка, а проводник-пещерник спускался, держась еще за нее и подвигаясь к концу ее. – Ужас и оцепенение овладели мною. – Я смотрел на них несколько минут, и, пока они не стали уже твердою ногою на землю, у меня заболело сердце! – Что, если ради нас спускаясь, старец или посланный за ним поскользнутся и размозжат себе головы?.. Я был между каким-то неизъяснимым страхом и радостным ожиданием, и упал бы в ноги старцу, прося простить, что мы его обеспокоили и подвергли опасности спускаясь для нас, если бы не знал, что выражением уважения и особенного внимания к его жизни можно оттолкнуть его от искренности и простоты обращения. – Почему, сдерживая слезы радости, начал я упрекать его, предваряя свидание свое с ним и говоря: «Зачем ты, отче, забрался в такую даль? – Мы так утомились, идя сюда, что сил не стало и едва добрались до тебя!» – Это я говорил, пока он приближался по тропе ко мне. – За плечами у него была торба; – одежда на нем была хоть худенькая, но полномонашеская; под ряскою виднелась ветхая схима, на камилавке толстого сукна накинута худая наметка (креп). – Постническое лицо выражало строгость его жизни и невольно производило какое-то благоговейное впечатление. Приняв вину на себя, старец с удивительным сердолюбием стал кланяться и просить прощение за утруждение нас. Говорил же это с такою убедительностью, что я уже и пожалел о высказанных вольно словах, видя как старец искренно испрашивал прощение, будто действительно был виновен».[8]8
См.: Письма с Афона о современных подвижниках Афонских. Соч. Пантелеймона, монаха. Киев, 1871.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.