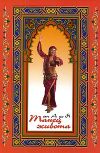Текст книги "Аргентинское танго"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
МАРИЯ
Я не помнила, как я под утро пришла из гостиницы домой.
Я не помнила, что я сказала Ивану в свое оправдание.
Я не помню, как мы танцевали на следующий день во дворце бизнесмена Игнасио Лопеса шоу «Коррида». Помню – после «Корриды», когда я сидела за кулисами, бессильно уронив руки на колени, ссутулившись, невидяще уставившись в пространство, а девочки-гримерши обмахивали меня полотенцами, как боксера после нокдауна, ко мне подошел сам Игнасио Лопес, заказавший у Станкевича это наше единственное выступление, и опустился передо мной на одно колено, низко наклонился и прикоснулся губами не к моей руке – к моей ноге, к ступне, обтянутой лишь прозрачным, в цвет тела, тонким трико.
Все сведения, добытые мною той мадридской ночью у крупного военного босса Америки, генерал-майора авиации США Джеймса Клэйвела, я наговорила на диктофон. Диктофон я обнаружила у себя в кармане, рядом с моим телефоном. Так же, как и пластиковую карту «Western Union» с моим жалованьем за мое шпионство, положенным мне щедрой рукой негодяя Беера.
Ким чуть не убил моего жениха. Ким убил моего отца. Ким своей рукой дал мне деньги за то, что я убила в Японии много людей в метро, своею рукой толкнул меня в спину, прогоняя в постель чужого человека, отвратительного мне, и своей же рукой всунул мне в карман рабочий миниатюрный шпионский диктофон. Как жаль, что я не взяла у него еще и пистолет. Он бы мне не помешал.
Я, как и Ким, выбивала на стрельбах двадцать очков из двадцати. Меня в Школе учили стрелять из положения стоя, сидя, лежа, на коленях, с колена и навскидку.
У меня просто руки чесались пострелять. Выстрелить в наглую светлоглазую морду Беера.
Но не в Кима. В Кима – никогда.
Я поняла, что я люблю его. И эта любовь – мне приговор.
И даже если бы Ким убил мою мать, всех моих родных, и навел бы пистолет на меня, и спустил бы курок, – и в этот последний миг я бы все равно, черт меня побери, безвозвратно погибшую тварь, – любила бы его.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ПЯТЫЙ. ГРЕНАДИНА
И мы прилетели в Москву из Испании, и началась жизнь, которой мог жить далеко не каждый сильный и выносливый мужик, не то что нежная женщина.
Я не мечтала о такой жизни.
За какие грехи мне судил ее Бог? За то, что я не удержала во чреве своем своего первенца? За то, что плохо и мало любила родителей своих? За то, что танец для меня стал превыше всего, мой успех стал для меня единственной целью, что я поставила себе, сцепив зубы и сказав себе: добейся! Ты станешь лучшей танцовщицей мира! Ты будешь танцевать в таких шоу, которых мир еще не видел! С тобой, мадридской девчонкой Маритой, будут снимать фильмы, за тобой будет тянуться шлейф поклонников, и лучшие хореографы будут припадать к твоим ногам, мечтая поставить спектакль, шоу, один лишь танец – с тобой, только с тобой! И ты поимела успех, Мара. Мария и Иоанн – это звучало навесь мир, плыло над миром! Но ты забыла о том, что ты – женщина. А когда ты вспомнила об этом, твоя судьба изломалась и перегнулась, как танцовщица в классическом па аргентинского танго, затылком – до самых пяток.
Мой телефон трезвонил постоянно. «Агент V25? Слушайте задание. Вы должны пойти на перекресток Поварской и Нового Арбата, встать спиной к зданию новоарбатской почты…». «Агент V25? Слушайте приказ. Садитесь в метро, поезжайте по Люблинской линии до станции „Братиславская“…». «Агент V25? Идите к храму Христа Спасителя. Войдите в храм. Там будет идти служба. Станьте слева от алтаря. К вам подойдет женщина в черном платье и красной косынке, она передаст вам…». Но больше всего я боялась услышать в трубке: «Агент V25? Поезжайте сегодня вечером по адресу: Фрязевская, одиннадцать, квартира пятьдесят шесть. Вам откроют дверь, спросите Андрея Завалишина. Вы представитесь девочкой из фирмы для услуг по эротическому массажу. Он действительно вызывал такую девушку. Вы проведете у него ночь. Возьмите с собой диктофон…» Я брала с собой не только диктофон, но и бутылку коньяка, и пачку снотворных таблеток, и упаковку презервативов. Я готова была взять с собой еще и хороший сильнодействующий наркотик. Коньяк и снотворное предназначались отнюдь не для клиента. Для меня. После ночи, проведенной по приказу Беера, я запивала дома пару снотворных таблеток стаканом коньяка, закрывала дверь на все замки, в том числе и на новейший финский, с девяносто девятью секретами – от него у Ивана ключей не было, – ставила квартиру на сигнализацию и, уже без сознания, рушилась на кровать.
А потом? Что потом? Потом, проснувшись, вставала под холодный душ. И стояла под душем до посинения. И растиралась махровым полотенцем до покраснения. И с ног до головы намазывалась персиковым швейцарским кремом для регенерации кожи. Мне хотелось сменить кожу. Содрать эту, оскверненную, и нарастить, приклеить новую. Когда надо мной поднималось и опускалось чужое, храпящее и сопящее тело, я закрывала глаза и говорила себе: это все скоро кончится, Марита. Это скоро кончится. Когда ты забеременеешь, ты удерешь от них от всех. И ребенок будет только твой. Твой – и больше ничей.
И Ты воспитаешь его одна. Сама. Без никого. Как хочешь ты. Одна ты.
Иван не надоедал мне. Казалось, он даже опекал меня. Он не спрашивал, почему я часто не открываю дверь. Почему от меня часто пахнет коньяком. Я никогда не опаздывала на репетиции. Он никогда не посягал на приватность моего жилья на Якиманке. Не стремился тут же, став моим женихом, опередить события и зажить со мной одним домом. Он не торопил время. Я тоже не торопила его.
Я проклинала его, время.
Ибо каждый день и каждый час, проведенный не с Кимом, вне Кима, без него, казался мне лживым, пустым, преступно потерянным временем.
А я не знала ни адреса, ни телефона Кима, хотя узнать его у Ивана была бы пара пустяков. Пустяков? Я же поклялась Ивану, что больше никогда… Я твердила себе: живи, живи своей жизнью. Ким, не вторгайся в мою. Пусть мы, как темные рыбы, поплывем в людском море бок о бок, рядом, но – не вместе. Рядом, ведь это не вместе, правда?.. Я произносила сама себе беспомощные и беспощадные монологи. Я понимала, что я крепко попалась в лапы Аркадия Беера, что он теперь отныне – не навсегда ли? – мой полноправный хозяин, – а в жирную рожу Станкевича мне частенько хотелось плюнуть, загвоздить ему по лысеющей башке вывернутым из мостовой на Красной площади старым булыжником. Время текло и утекало сквозь пальцы, и я измеряла его теперь не каждым новым танцем, как раньше – каждым новым днем, прожитым после очередного ледяного голоса в трубке: «Агент V25, на углу Никитского бульвара и Большой Никитской вас ждет черная „волга“, номер 22–78, вы подойдете и сядете в машину, водителя зовут Тарас, вы проведете с ним вечер и ночь, возьмите с собой диктофон, вы должны задать ему три вопроса, слушайте и запоминайте…» Я измеряла время каждый днем, прожитым без Кима.
И время, текущее для других, для меня однажды остановилось.
Я перестала чувствовать, ощущать его ход.
Я поняла, что времени – нет.
А есть только мы, плывущие и танцующие там, внутри, в нем, навеки застывшем, остановленном, и лишь нами стоячая вода времени просвечивается насквозь, и лишь от беспомощных взмахов наших ног и рук, от толчков наших барахтающихся в жалкой земной любви тел оно, время, движется и вздрагивает, течет и набегает прибоем на равнодушную, каменно-жесткую землю.
… … …
И настал день, когда Беер пригласил меня к себе на день рожденья.
На свой собственный день рожденья.
Скажите пожалуйста, какая цаца! Больше всего на свете я хотела бы сдать его в этот торжественный день в руки ФСБ. Но я прекрасно понимала: он не один. За ним – люди. Тайная группировка, мощная, разветвленная, пустившая щупальца в разные страны. Сеть Беера крепко опутала мир, и я – всего лишь маленькая рыбка-уклейка, попавшаяся в ее ячеи, туда, где бьют хвостами могучие тунцы и серебряные сельди, драгоценные осетры и умнейшие дельфины… «Стань умным дельфином и вырвись из сети, – шептала я сама себе, – ну неужели тебе это так трудно, ты же умная, ловкая, хитрая, сообразительная, Марита, ты же так красиво ускользаешь из-под руки партнера на сцене в стремительной гренадине, так ускользни из-под острого, как пистолетное дуло, локтя Беера! Удери в другую страну! Тебе же все равно, от кого у тебя будет ребенок. Иван, Ким… Плюнь на них и роди дитя от какого-нибудь чернокожего туземца в Новой Зеландии! Чем дальше ты смоешься, тем труднее тебя будет отыскать… Да никто, может, особо и не будет искать тебя, ты ведь мелкая сошка…»
День рожденья. День рожденья. Что этой сволочи купить в подарок?
Гад, ведь он будет ждать подарка.
Почему мир так устроен, что мы вынуждены улыбаться и дарить подарки людям, которых мы хотели бы убить? Стереть в порошок? Уничтожить?!
Я отправилась за подарком для Беера в магазин рядом с моим домом, на Якиманке. Еще чего, буду я рыскать по всей Москве, разыскивать для него невиданные роскошества! С каким бы удовольствием я преподнесла ему в фарфоровой вазе кучу свежего дерьма! Я мысленно взнуздала себя, как лошадь. Пластиковая карта, мой неслыханный гонорар за мою адскую работу, валялась в новой сумочке, что я приобрела себе взамен той, украденной в Мадриде цыганской Лусией. Из этих денег, сказала я себе, из этих поганых денег я куплю ему, козлу, первое, что попадется мне на глаза или под руку.
И я вошла в маленький магазинчик, и там, ура, был целый отдел всякой подарочной блесткой шикарной мишуры; и я подошла ближе к прилавку, и продавщица, молоденькая девочка, сначала пялилась на мои ноги, обтянутые колготками «Levante», я была в мини-юбке и в длинном черном, расстегнутом, метущем полами улицу осеннем макинтоше и в лакировках от Гуччи на высоких, десять сантиметров, каблуках; а потом девочка подняла глаза – и увидела мое лицо, и узнала меня.
– Ой, Мария Виторес, гляди! – Девочка ущипнула за локоть напарницу, оживленно болтающую с кассиршей. – Ой, Мария, здравствуйте, вы сегодня прекрасно выглядите, мы так рады, что вы у нас… Что вам подобрать? – Девочка смотрела на меня умильно. – Что желаете?
Я кинула взгляд на магазинную полку – и мне в глаза бросилось яркое, слепяще-алое, стекающее вниз атласной красной рекой, переливающееся багряным, оранжевым, малиновым.
– Что это? – Я показала на буйство красного атласного огня.
– Это? – Девочка с готовностью сдернула с витрины струящуюся ярко-алую ткань. – Это, знаете, чудо что такое, это мы получили недавно, точнее, только вчера, это замечательная атласная красная скатерть, ноу-хау, понимаете, белые праздничные скатерти уже немодны, все покупают только цветные, синие, красные… даже черные, представьте себе!.. сейчас в моде даже красные и черные свадебные платья… как ни странно, ха-ха… Видите, какая прелесть! Играет!.. Похоже на красную парчу, правда?.. хоть это и атлас… но особой выделки шелк, вы понимаете, бельгийский…
Я взяла ослепительно-красную ткань в руки.
И сердце мое замерло. Потом забилось, как бубен. Как барабан. Как маленький барабанчик в безумном танце болеро.
Мулета. Это была мулета.
Это была не красная импортная скатерть из Брюсселя. Это была настоящая мулета, и тореадор шел с нею на быка, дразня зверя, играя ею перед самым его носом, перед бешено вылезшими из орбит, затравленными глазами.
Я куплю эту мулету. Я подарю ее Аркадию.
– Сколько?
– О, совсем недорого, совсем…
Девочка назвала цену. Я вытащила из сумочки кредитную карту. Мне, подобострастно улыбаясь, завернули в красивую упаковку алую ткань.
Я подарю тебе, сволочь, мулету, думала я, садясь в машину. Я подарю тебе мулету, думала я, поднимаясь в лифте в двадцать пятую квартиру в доме на Первой улице Энтузиастов, я подразню тебя. На красной ткани не будет видна красная кровь. Чья кровь? Я не додумала. Рука уже нажимала на кнопку звонка. Уже мелодичный звон раздавался в глубине огромной элитной квартиры. Уже телохранитель открывал дверь, подозрительно-придирчиво, грозно ощупывая меня волчьими глазами: кто я, своя ли, не принесла ли с собой оружия или взрывчатки, не выстрелю ли прямо сейчас хозяину в лицо? Исправно служат службу. Хороших цепных псов Беер набрал.
Алая ткань сквозь прозрачный пакет жгла мне руки. Бьющееся сердце жгло мне ребра. Кто будет сегодня у него в гостях? Для всех приглашенных я – известная танцовщица фламенко. Для Беера – агент V25. Еще – для Станкевича и Метелицы-старшего, если они оба сегодня будут здесь.
Я во весь рот улыбнулась бодигарду. Стерла с лица улыбку. Надменно посмотрела поверх его долыса выбритой головы.
– К хозяину. Возьми пальто. Повесь.
Молниеносным движением я сбросила макинтош на руки опешившему охраннику, не подозревавшему, что он сегодня еще и гардеробщик. Огладила на себе тугое, подчеркивавшее мою грудь и тонкую, как у осы, талию, блестящее черное, с ниткой люрекса, нагло-короткое платье, купленное в Мадриде в Доме моделей Паломы Пикассо. Выставила колено перед угрюмым бодигардом.
– Все в гостиной?
– Да. – Он не знал, как меня назвать: мисс, сударыня, барышня, мадам, госпожа. Русский язык потерял обращение к женщине и к мужчине – главное в Европе. Сеньорита. Я же сеньорита, дубина, хотелось мне сказать ему. – Как доложить?
– Как? – Я думала один миг. – Агент вэ-двадцать пять.
– Прямо так и сказать?
– Прямо так и сказать.
Он, косясь на меня, пошагал впереди, грузно переваливаясь с боку на бок, всунул голову в украшенную лепниной дверь гостиной. Из-за приоткрытой двери донесся гул, повалил табачный дым, поплыл звон бокалов, смешки и пересмешки, праздничные возгласы. Цветная пестрота богатого пиршества, изысканно-разгульной вечеринки донеслась до меня из-за двери и обожгла меня. И мне до боли, до слез захотелось порушить, хулигански разрушить эту богатую, наглую праздничную идиллию. Ким убил моего отца… по чьему приказу?!
Все внутри меня будто обварило кипятком. Я догадалась.
Какая же я дура была раньше. Как я не поняла!
– Спасибо, – сказала я бодигарду, похлопав его по бычьей шее, – проваливай.
И, крепко сжимая в руке сверток, вошла в гостиную.
Все лица повернулись ко мне. Все фигуры обернулись ко мне. Все руки с бокалами, все намазанные, насурьмленные глаза, все голые шеи и плечи в блестящих камешках, все жирные хари над атласными галстуками, все приоткрытые для тостов и восхвалений хозяина, лживые, врущие, льстящие рты – повернулись ко мне.
– О, Мария! – Оскаленные зубы хозяина сверкнули навстречу мне остро, ножево. Светлые глаза прошили меня пулеметной очередью. – А я вправду думал, что ко мне агент. Джеймс Бонд, ха-ха-ха!.. в юбке… Очень, очень рад видеть вас! Господа, Мария Виторес собственной персоной!
Вывернулся, гаденыш. Гости зааплодировали. Лакеи наливали в бокалы шампанское. Я вернула Бееру праздничный оскал улыбки. Протянула сверток.
– Поздравляю! И желаю.
– Чего? – Острый, летящий навылет сквозь меня, белый взгляд. – Или кого? Может быть, меня?
Нервное, лебезящее хихиканье стоящих рядом, тех, кто услышал и оценил плоскую остроту. Звон бокалов, крики: «Разворачивай! Показывай, Аркашка, что тебе испанка подарила!» Злая дрожь, обнимающая мои колени, руки, ступни. Усилием воли я подавила в себе дрожь ненависти. Постаралась придать голосу и улыбке сплошное очарованье. Я ведь все-таки была актриса. Я не утеряла еще врожденного и наработанного на сцене артистизма.
Он медлил брать сверток. Чего-то боялся? Тянул время? Хотел меня смутить? На миг мне показалось – в его белых глазах робота мелькнуло человеческое.
И тогда я рванула хрустящую прозрачную упаковку. И дернула вверх сложенную вчетверо ткань. И алая, кроваво-дикая мулета взвилась перед лицом Беера, и я схватила другой рукой ее край, и так, держа красную тряпку двумя руками, встала перед Беером, встала прямо, гордо выгнув спину, плотно сдвинув ноги – так, как стоят в позе страшного, последнего торжествующего танца перед быком – тореро.
Поднялись крики, визги: «Браво!.. Браво, Испанья! Красиво придумано!.. Ай да Виторес, отмочила…» Среди выкриков и смеха я различила настойчивое: «Коррида! Коррида! Танец! Танец!»
Скоро уже вся толпа гостей, обернув ко мне разгоряченные, пьяные, скалящиеся в смехе лица, скандировала, хлопала в ладоши:
– Та-нец! Та-нец! Та-нец!
Я махнула красной тряпкой перед лицом Беера.
Перед мордой быка.
И толпа зрителей затихла.
И бык наклонил голову. И раздул ноздри.
Белоглазый, сивый бык. В Астурии бывают такие быки. Мой покойный отец, что погиб по приказу этого дьявола, возил меня в Астурию, когда мне исполнилось десять лет, и там я видела корриду с таким вот белым, как старый мерин, быком. Тореро тогда убил быка. На светлой шкуре рубиновой вышивкой горела алая кровь. С самых дальних трибун ее было видно. Меня тогда вырвало, и я горько плакала, забившись отцу под мышку. Это была моя первая коррида. Мать потом ругалась, кричала: «Ну можно ли было нежную девочку возить на этот ужас, сам подумай, Альваро!»
Я еще раз махнула мулетой и тихо, отчетливо сказала:
– Ну же, дерьмо. Ну же. Потанцуем. Поиграем. Нападай. Нападай в открытую. Гости твои просят. Давай.
И бык разъярился.
Бык разъярился мгновенно. Масла в огонь больше не пришлось подливать.
Жестко глядя мне в глаза глазами прожженного убийцы, он так же тихо и отчетливо сказал мне, чтобы слышала только я одна:
– Что ж, поиграем. Ты подписала себе приговор. Тебе, вижу, очень хочется на тот свет. Я же тобой не дорожу, падаль. Ты же уже добыла мне то, что я хотел. Ты поработала на меня. Хочешь унизить меня? Растоптать меня? Я вижу тебя насквозь. Потанцуем, сука, если тебе так неможется.
И только он ринулся на меня, сделал выпад, чтобы схватить мулету в кулак, как я, испанка, истинная пиренейка, горянка, всосавшая искусство танца с молоком матери, я, наблюдавшая потом, после первых слез, корриду множество раз и изучившая досконально все движенья тореро, все его повороты и нападения, изгибы его увертливого тела и неожиданные взмахи мулеты в его ловких и сильных пальцах, – только он рванулся ко мне, как я, встав на цыпочки и подняв мулету над его стриженой сивой головой, развернулась к нему спиной и резво, ловко отшагнула вбок. Беер чуть не упал на паркет. Я слышала, как он грязно выругался.
– Ах ты…
А я уже снова стояла перед ним, сдвинув ноги и вывернув носки туфель наружу. Классическая стойка тореро. И мулета – перед его разъяренным лицом – в моих откинутых вбок, вытянутых как палки руках, напряженных, застывших на миг.
И снова его бросок. И мой поворот. И сдавленное хриплое ругательство.
И мы выходим, незаметно для себя, на середину огромной гостиной, и на гладком паркете скользят мои ноги в «лодочках» от Гуччи, его ноги в модельных башмаках от Версаче.
И все смотрят на наши лица. И все смотрят на наши ноги. И все смотрят на алую слепящую мулету у меня в руках, что навек перестала уже быть красной брюссельской модной скатертью, последний писк, супердизайн, а манит и дразнит злого быка, когда-то бывшего человеком.
И я, не видя лиц, на меня обращенных, чувствую их – всею кожей. Я двигаюсь точно и рассчитанно. Чутье ведет меня. Бык бросается вперед – я уклоняюсь от него резко и изящно, как в танце. Да это и есть дикий, страшный танец. Танец-ужас. Танец-насмешка. Танец-бред.
Судьба есть бешеный, необъяснимый танец-бред. Все мы совершаем движенья и жесты. Делаем па. Фуэте и батманы. Повороты и поддержки. Отбиваем чечетку страха. Задираем ноги в канкане. И ускользаем от рогов сужденной смерти в черно-алой, жестокой корриде.
Бык ринулся – и увернулась. Мулета взлетела. Ударила воздух перед вытянутыми руками, перед кулаками человекобыка. Я прямо, весело и нагло взглянула на него. Я говорила глазами: ты, глупец. Ты, бык-дурак. Я же играю с тобой. И ты поиграй.
И он понял. Он наконец понял, что от него хотят. Народ хотел танца. А он сражался всерьез. Я играла, а он хотел меня подцепить на рога всерьез!
– Ты, – хрип его резанул меня по лицу, по горлу, как лезвие, – ты, танцорка… Танца хочешь?.. Идет…
И он прекратил наскакивать на меня с кулаками, с загнутыми крючьями пальцев, и поднял руки над головой, как это делают истинные испанцы в гренадине, в выходе фламенко.
Полная тишина настала в гостиной. Люстра над головами чуть позванивала на сквозняке – окно было открыто в ночь – всеми хрустальными висюльками. Я держала перед быком мулету строго, развернув алую ткань полностью, алым флагом, перед безумной мордой. Казалось, с зубов Беера капала слюна. Его лицо заливало потом. Я видела – он устал. Я изрядно измочалила его. Так, так, отлично! Теперь ты знаешь, сволочь, почем кусок хлеба танцора! Почем кусок хлеба наемника! Почем кусок смерти загнанного быка! Загнанного человека, ты, дрянь…
Он стоял перед мной, подняв руки над головой. Я стояла перед ним с широко растянутой мулетой. Публика молчала. Хрустально звенели подвески люстры. И я слишком близко подошла к нему с мулетой. И я, ничего не говоря, взяла мулету в левую руку. И так же молча, ничего не говоря, занесла над ним руку, как заносит ее тореро, чтобы всадить в горло быка острую наваху.
И я громко, со звоном, что отдался во всех углах гостиной, ударила человекобыка по щеке.
Это был мой удар навахой. Это была моя месть ему. Это было мое торжество. Это был мой подарок ему – на его день рожденья.
– Лучше бы ты никогда не родился, Аркадий Беер, – сказала я так же тихо и внятно, приблизив к нему потное лицо.
И бросила красную тряпку ему под ноги.
И наступила на нее ногой, будто бы попирала ногой его поверженное тело. Будто бы на грудь ему наступила, на его белоглазое, гладко выбритое, ненавистное лицо.
«А теперь будь что будет, – сказала я себе. – Пусть трибуны беснуются. Может быть, он выкинет меня в окно. Выбросит с балкона. Но я сделала, что хотела. Отец, ты можешь быть доволен».
Вся кровь отлила от его лица. Он стоял передо мной, бык, наклонив лобастую голову, и в его глаза было страшно заглянуть. «Сейчас он ударит меня», – подумала я мгновенно. Но не отшагнула от него. Не опустила голову.
И он, продолжая так же тяжело, набычась, страшно глядеть на меня, запустил руку назад, за спину, и вытащил из кармана своих праздничных портков револьвер.
Я не разбиралась в марках револьверов. Я видела – револьвер увесистый, серо-стальной, с длинной рукояткой, с широким отверстием дула. Черный глаз дула уже глядел мне в лицо. Я так и знала, что этим все кончится. Отлично! Мне надоело жить так, как меня принудили жить.
– На колени, – прохрипел Беер судорогой глотки. И страшно, весь налившись багровой кровью, завопил: – На колени!
На колени? Мне – на колени?!
– Стреляй, – отчетливо сказала я ему. – Я перед тобой никогда не колени не встану. Стреляй!
Тишина в гостиной. Только хриплое дыхание Беера. Только впившиеся в нас обоих, горящие глаза приглашенных на праздник.
Он вытянул вперед руку с револьвером.
Я ни минуты не сомневалась – он выстрелит.
Сейчас. Вот сейчас!
На миг, на короткий и ослепительный миг вся жизнь промелькнула перед моими глазами. Промелькнула – и погасла. Так гаснет пламя свечи. Я знала, знала, что меня убьют когда-нибудь. Мне моя Лола, пугаясь, отворачиваясь, разбрасывая веером карты Таро по столу, невнятно, щадя меня, пыталась это сказать.
Ребенок… Мой нерожденный мальчик… Отец, не продолжится твой род…
И из толпы, затаившей дыханье, выступил вперед человек. Все тут были в костюмах от Климентович и в смокингах от Валентино – он один был в белоснежной рубахе, заправленной в узкие, плотно обтягивающие мускулистые стройные ноги, черные джинсы. Я не взглянула на того, кто вышел вперед. Я и без того знала – это Ким.
Ким Метелица, ты же киллер. Ким Метелица, убей своего хозяина!
Бодигарды убьют тогда нас обоих. Толпа разорвет нас в куски. И это нам суждено. Толпа не прощает великой любви. Чернь не прощает преступной любви, выставляемой напоказ. Люди не прощают счастливой паре красивого Эроса. Они не прощают любящим – счастья.
Ким шагнул еще и оказался между нами.
Между дулом пистолета Беера, направленного на меня, и мною, ставшую ногой на скомканную красную мулету, лежащую, как мертвый зверь, на полу.
– Отойди, – одними губами выхрипнул Беер. – Отойди, Ким. Не мешай мне.
– Давай и меня вместе с ней.
Ким заслонил меня собой. Он заслонял меня спиной, расставив руки, и я чувствовала слабый манящий, переворачивающий все во мне запах его пота, исходящий от его рубашки. Ким, любимый. Ты сам сказал – мы уйдем отсюда вместе. Только вместе. Твое видение – сбудется?!
Толпа, что же ты молчишь… Тебе любопытно, толпа?!..
Тебе всегда любопытно, во все века…
– Ты, живой щит. – Вместо голоса из глотки Беера излетал наждачный скрежет. – Пропади. Последний раз говорю…
Ким выбросил назад крепкую смуглую руку и отодвинул меня в сторону рукой. Беер вскинул револьвер, вцепившись в рукоять, и оскалился. Я поняла – вот сейчас он выстрелит! И, мгновенным движением откинувшись назад, толкнув меня всем корпусом, торсом, Ким повалил меня на пол, и я упала на паркет, и все шпильки повыпали у меня из пучка, и волосы мои, иссиня-черные, которые я ненавидела лютой ненавистью, ибо они мешали мне во время танца, всегда хотела остричь, и которые так безумно любил Иван, распуская их, любуясь ими, купаясь лицом в их смоляных волнах, как в море, распустились и разбросались по паркету, как черные живые змеи. И Беер нажал на курок как раз тогда, когда Ким, бросившись на него, как хищный кот на охотника, схватил его за запястье и взбросил его руку с револьвером вверх, и пуля попала в шнур, на котором держалась массивная хрустальная люстра, висевшая прямо над пиршественным столом, и огромная люстра стала падать вниз, и упала со страшным шумом и звоном, погребая под собой стол с россыпями яств, визжащих, закрывающих головы руками, бросающихся врассыпную людей, обломки посуды, разбитые бутылки с вытекшим на скатерть вином и коньяком, вилки и ложки из серебряного старинного флорентийского сервиза, купленного на аукционе антиквариата в Бергамо, стулья и кресла, веера дам и цветы в упавших на пол вазах. И, пока Ким держал руку Беера вот так, вверх, поднятой к потолку, железной хваткой, Беер палил, палил, палил из револьвера в белый свет, как в копеечку, и сколько пуль он выпустил, я не считала, видно, многозарядной была его железная игрушка.
– Ким! – крикнула я пронзительно. – Ким, бежим! Он всех перестреляет! Ким, у тебя твоя пушка с собой?!
Беер изловчился и ударил Кима ногой в живот. Я снова закричала. Метелица боднул его головой в подбородок, зубы Беера лязгнули, изо рта у него потекла кровь. Он выплюнул зуб на паркет. Праздничные дамы визжали, присев, за раздавленным гигантской музейной люстрой столом. Кое-кто из гостей упал на пол животом, полз по-пластунски к изукрашенной лепниной двери. Беер сделал страшное усилие и освободился от железной хватки Кима. Теперь руки у него были развязаны, и он вскинул револьвер и выпустил из него в Кима пулю. Последнюю.
Миг. Один миг.
Время вздоха.
И воздух остановился и застыл торосом в моей груди.
Мой киллер, ты не сплоховал. Ты упал на пол рядом со мной в то время, когда в тебя летела пуля. И напрасно Беер нажимал еще и еще, и еще раз на курок. Все! Он расстрелял обойму.
Пустота. Хрустальная руина, под ней – погребенный богато накрытый стол.
Ким говорил мне: все надо делать быстро, Мария. Все, кроме любви.
Беер заорал, обернувшись к застывшим у двери охранникам:
– Пушку мне!
И, пока он это орал, Ким вскочил на ноги и выхватил из-за пазухи, из-под чисто-белой рубахи, свою собственную пушку. Свой пистолет. Тот самый, что протягивал мне на ладони там, в Мадриде, чтобы я – убила – его.
И наставил его на Беера, на хозяина своего.
– Все, мужик, – сказал он спокойно, буднично даже. В разгромленном зале его слова отдались легким звоном среди хрустальных обломков, среди разбитой утвари и зеркал. – Мы с моей женщиной больше у тебя не работаем.
Беер стоял посреди зала, расставив ноги, раскинув руки. Его черный смокинг делал его похожим на жука-плавунца. Его пальцы взбешенно шевелились. Вокруг него стыло, очерчивалось пустое пространство. Пустота. Он стоял в пустоте. Его лакированные башмаки отражались в навощенном паркете.
– Как? – Голос дракона. Взгляд василиска. Пальцы, как когти ящера. – Как ты сказал? С твоей женщиной? Повтори!
– Я люблю Марию Виторес, Арк. Я люблю ее. И я спасу ее от тебя. Даже если для этого мне придется пустить и себе, и тебе пулю в лоб.
От стены отделился и бросился вперед одетый в камуфляж бодигард. Он выстрелил из массивного «браунинга» – раз, другой. Промазал. Третий не успел. Ким, развернувшись, уложил его на месте. Женщины визжали. Мужики ползли по полу к раскрытой в ночь двери балкона. Ким, прищурившись, прицелился и уложил второго телохранителя в тот момент, когда тот, размахнувшись, бросил через головы гостей свой пистолет Бееру. Бодигард, обливаясь кровью, хрипя, катаясь по полу в предсмертных судорогах, умирал, а Беер, ловко подпрыгнув, поймав брошенное ему оружие, злорадно высверкнув глазами, прицелился в Кима.
И так они стояли и целились друг в друга.
Дуэль.
Это была дуэль по всем правилам. Дуло в дуло. Лицо в лицо.
И между ними было совсем немного шагов.
Я бы с такого расстояния попала Аркадию в зрачок, не то что в лоб.
И теперь я…
Теперь я ринулась вперед. Теперь я встала между ними – как Ким вставал между мной и Беером.
– Стреляйте в меня оба! Ну! Что же вы!
Умирающий охранник отвратительно хрипел. И Беер, держа пистолет наведенным мне в переносицу, проговорил, раздавливая башмаком хрустальную льдинку люстры на паркете:
– Ты! Мария! Слушай меня! Не время, конечно, трепаться об этом, но у нас другого времени уже нет. Я хочу тебя. И я заполучу тебя. Я хочу тебя давно, с тех пор, как я насиловал тебя тут, на полу этой гостиной, на его глазах. Я забыть не могу, какая ты женщина. Я делаю тебе предложение. Здесь и сейчас. Я еще не был женат. Я презирал женщин. Ты – единственная, кто мне нужен. Ты будешь моей женой. Соглашайся! Иначе я убью и тебя, и его! Он все равно не успеет!
И я, с сердцем, бьющимся, как пойманный голубь, в сдавленной ужасом глотке, видела будто в тумане, будто пьяная в дым я была, как Ким прыгнул вбок и выстрелил, и Беер выстрелил одновременно с ним, и они оба попали друг в друга; и Беер упал, продолжая держать оружие и целиться, и стрелять, а на белой рубахе Кима расцветало ярко-алое огромное пятно, как чудовищный красный цветок – на белом снегу, и я подумала, что он убит, а он в мгновение ока подхватил меня под мышку и потащил, поволок к балкону, и, обернувшись к гостям, стрелял, стрелял, стрелял неостановимо, это потом он мне сказал, что у него двадцатичетырехзарядный «руби», последняя модель, – и Аркадий тоже стрелял и не попадал, и страшно вопил, матерясь, и я чувствовала, как рубаха Кима пропитывается его живой, горячей кровью, как кровь течет под рубахой и вытекает из-под рукава, течет по его голому запястью, перетекает на мою голую руку, и я теряла сознание оттого, что мне казалось – это меня убили, это моя кровь течет и вытекает из меня навек, – и мы вывалились из гостиной на балкон, и Ким заглянул вниз и тоже выругался, и крикнул мне: скорей, а то сейчас прибегут бодигарды снизу, из подъезда!.. или кто-нибудь из гостей вызовет милицию!.. – и я глянула с балкона вниз и закричала, у меня замерло сердце от страшной высоты, и я крикнула Киму в лицо: мы разобьемся, мы не спустимся отсюда! ты с ума сошел! – и у него лицо стало каменное, гранитное, как скала в Пиренеях, и он выдернул из кармана джинсов моток шпагата, и в одну секунду морским узлом, накрепко, привязал его конец к балконной решетке, а другой сбросил вниз, как рыбак бросает в реку леску с катушки спиннинга с грузилом на конце, и крикнул мне страшно: давай! Хватайся! Ты первая! Крепче держись и скользи вниз, я за тобой, я буду отстреливаться, закрывать тебя! Руки обдерешь, но это ничего, мы должны уйти, слышишь?!.. должны уйти! – и я закрыла глаза, зажмурилась крепко-крепко, как в кошмарном детском сне, и ухватилась за шпагат, и перекинула ноги через перила, и, вцепившись в жесткий стебель шпагата, заскользила вниз, и резкая боль разрезала мне ладони, и я хваталась кровавыми ладонями за веревку и падала вниз, шепча: Божья Матерь, помоги, спаси, – и я почуяла, как напрягся шпагат, это Ким повис на нем, скользя вниз вслед за мной, и мы с ним оба стремительно, обдирая о шпагат руки в кровь, неслись к земле, а она была так далеко, как из космоса видели мы ее, и Ким, подняв пистолет, стрелял вверх, стрелял, стрелял, потому что сверху стреляли в нас, стреляли, стреляли, – и, падая вниз, к земле, крича от боли в ободранных до мяса, окровавленных руках, я понимала, что он ранен, и, быть может, даже смертельно, и я подумала: если его убьют, я подхвачу у него из руки падающий пистолет и пущу себе пулю в висок, мне не жить, не жить без него, – и земля приближалась так быстро, будто мы оба падали в самолете, так стремительно неслась земля нам навстречу, как несется навстречу подбитому, горящему самолету, и два самолета наших жизней еще летели, еще держались на встречных потоках тугого воздуха и ветра, еще не подбили им крылья, – и внезапно шпагат оборвался, выскользнул из моих рук, короток он оказался, не досягнул до земли, и я полетела с высоты вниз, а земля, родимая, оказалась рядом, ночная сырая осенняя земля, и Ким, подогнув ноги, спружинил, ловко спрыгнул рядом со мною, упавшей постыдно-грузно на землю, как мешок с картошкой, и я, лежа на земле, крикнула ему:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.