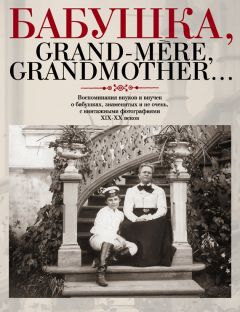
Автор книги: Елена Лаврентьева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Да и теперь-то тоже крайность. Если б был тут Митя, он бы мне разъяснил, а сама же я объясняю тем, что я привила себе с детства известные понятия, от которых не могу освободиться, несмотря на все мое желание. А иногда, да очень даже часто, встречаю такие сопротивления всем моим хорошим побуждениям, что и не могу им сопротивляться, и знаю, сколько ни борись, а победы не будет на моей стороне. Если я люблю, то не считаю безнравственным желание видеть его, слышать – вообще стараться быть близкой ему, нахожу все естественно, а вот это-то и осуждают и строго запрещают, даже проклинают и коверкают жизнь. Но вот другой явился, хотя и ненавистный тебе, но другие почему-либо видят счастье для тебя иметь его близким себе. И тогда уж ты обязана целовать его, дарить ему свои ласки и на виду, при всех, а если в душе его ненавидишь, до этого и дела нет никому: «Ведь ты обязана по закону поступать так нечестно, а на твое душевное состояние нам наплевать». Да еще утверждают, что для тебя желают счастья. Да и не поймут, что все это гадко и скверно, а я тоже не пойму их и не увижу хорошего. Пусть я даже соглашусь с Вами, господа законники, нравственные люди, что нехорошо и по-моему, но по-вашему в тысячу раз гаже – все человеческое достоинство уничтожается, человек обращается в бессловесное животное, потому что противиться по закону не имеет права.
Да животное счастливее в этом отношении: его против воли могут запрячь в какую-нибудь работу, но против воли не заставят полюбить. Я испытала и говорю и считаю себя вправе говорить.
А вот я тогда забыла сказать Мите, что хотела испытать, как можно по своей воле испытать любовь; мне нравилось, хоть и ошибалась я в своем чувстве, что никто не обязывает меня, не заставляет питать какое-либо влечение. Хочу я, так скажу ему хорошее слово, а не захочу, не будет желания, и никто не заставит. А чуть коснулось до законных прав на меня, и вот все улетело, я уж не могу по обязанности отвечать взаимностью. Конечно, если б я действительно имела расположение к нему, тогда подобная обязанность была бы приятна, но, повторяю, меня только завлекала свобода действий. Может показаться смешным – говорить о том, что всем, конечно, известно, но и я скажу, что, не испытавши, можно так судить, а вот испытаешь, да тогда и я послушаю. Теперь же при одном воспоминании вся возмущаюсь.
Недавно, кажется с неделю тому назад, умер ученик нашей школы, учившийся в прошлую зиму. Чувашонок, как его все школьники называли, был очень умный и серьезный мальчик. Учился он хорошо, прилежно. Со времени поступления не пропустил, кажется, ни одного дня, хотя здесь и вообще редко пропускают уроки. Умершего звали Сергей Васильев. Бывало, придет его мать в школу подтопить нам, так как у нас всю зиму было прохладно, и начнет по-нашему говорить, да еще старается пошутить и рассмешить, а и без того у нее смешно выходит. Сейчас же наш чуваш рассердится на мать, взглянет на меня и начнет по-своему, по-чувашски, останавливать, чтоб не говорила и уходила, что можно понять было из жестов.
Мать его – добродушная чувашка, и мы все, и я в том числе, были рады бы поболтать с ней, да и болтали, если приходила в перемену, только вот он почему-то всегда был недоволен ее приходам. Я вполне уверена, что Васильев явился бы в числе первых, если бы не хворал уже в то время. И вот этот серьезный умный мальчик умер, право, очень жаль. Уж одним тем, что он чуваш, он мне понравился, а чуваши все мне симпатичны: кротки, честны, ласковы. Такие, как Васильев наш, видно, и Богу нужны.
<…>
18 ноября
Вчера мне пришлось внезапно бросить письмо свое в дневнике.
Каждый почти день решаю бесповоротно бросить школу. А особенно когда ученики меня раздражат, что бывает почти каждый день, и, может быть, другой на моем месте и не раздражался бы так. Но к вечеру моя решимость исчезает, думаю, что бросить недолго, а потом что? Я бы с удовольствием поехала в Назарову, если б не надоело ухаживание… Хочется развлечься, но как вспомню про самого, то и желание пропадает.
Течение дня не описываю, потому что один уж очень походит на другой, погода и та не балует нас разнообразием, все стоит тепло, и только вот два дня сильный ветер, да и тот очень теплый, так что весь снег съело.
Сегодня, впрочем, было происшествие с одной ученицей, причиной тому был также ветер. Она – хорошая девочка, пошла утром в школу. Дорогой ее сильный порыв ветра уронил. В это время букварь выпал из рук, и ветер подхватил книжку и унес. Сколько она ни гналась за ней, не смогла достать. Приходит в школу и, что называется, воет на всю комнату, и на мой вопрос: «Что с тобой? О чем плачешь?» – только и смогла выговорить: «Ветер книжку унес». Насилу ее успокоила, дав ей новую книгу, но все-таки она в перемену опять плакала. Потом уже ей в школу принесли букварь, в котором только корки были целы, а листочка только три или четыре, да и то какие-то жалкие клочки.
<…> Как прихожу, то вскоре после обеда ложусь и непременно засыпаю тотчас. К чаю встану с тяжелой головой. Вечер опять злюсь на своих племянниц: приходится в одной комнате с ними сидеть, а они учат уроки, слушать же их для меня пытка, а особенно надоедает Клавдия своим «плен, сено, стрел и т. д.». Вот и все так.
Не буду писать, по какому случаю предстоит ехать в Назарову, а только для памяти напишу, что 21 ноября надо ехать.
6 декабря
По правде сказать, мне уже надоели заезжие гости: только хлопочи и угощай, а интереса и удовольствия ни на волос от них. Например, пришла Прасковья Федотовна, и я должна была выносить целый вечер, как она изображала из себя важную особу. Вся неделя эта выдалась такая.
Заезжала два раза скрипачевская матушка. Мамаши что-то еще нету, и сегодня получили письмо из Чебаков: Саша все еще жалуется на Машу. Что такое у них вышло? Слава Богу, папашина посылка нашлась: он, когда ехал 30-го числа на съезд в Ачинск, потерял 16 руб. денег, рясу и письма, в том числе и мои два, одно Мите, другое Анюте. Понятно, я очень огорчилась, да и боялась, они, т. е. письма, не попали бы в дурные руки, но не суждено ей было потеряться, ее нашел мужик и привез папе, папа дал ему за это 8 рублей, теперь я спокойна за письма.
Мамаша все ругалась, что я курю, а папаша взял да и купил мне в подарок портсигар. Теперь я скажу ей: «Когда сам папаша благословил меня портсигаром, то уж чего же еще».
22 января 1896 г.
Со мной случилось нечто необыкновенное: получила письмо от Ильи Ивановича Рыжова. Но почему же именно мне, а не кому другому, более близко знакомому. Неужели ему опротивели так все назаровские, признаюсь, меня немного удивляет, но, впрочем, особенно тут нечего и удивляться, это и из письма Ильи Ивановича можно видеть. Может, в Назаровой и есть знакомые, которым он бы и написал, но другие мешают. А впрочем, что я за судья такой и мне ли рассуждать о том и делать различные предположения. Я и вправду, кажется, начинаю проникаться здешними взглядами – нелепыми и дикими, и это меня даже пугает, нужно внимательнее быть к себе, чтобы не прилипла наша грязь, а впрочем, я почему-то не боюсь и знаю, пока я не опошлюсь, ничто не привьется дурное. Но чтоб стать пошлою, нужно для меня очень много. Всеми этими хорошими побуждениями и стремлением к борьбе за свои лучшие убеждения я обязана своему отцу, который и сейчас для меня живой пример, и, не будь его, во мне, может быть, заглохло бы все. Очень хорошо, если и решилась, кажется, расхвалить себя, то только в своем дневнике, ну стыд мне, если кто нечаянно прочтет, как я тут превозношу до небес свои добродетели. Ну, конечно! Что я тут расхвалилась в необыкновенных качествах, которые только я воображаю в себе. Уж и это одно очень скверно, глупость, больше ничего.
Алтат, 1896 год 5 августа
Боже! Уж больше полгода прошло с тех пор, что я писала, а в сущности, и еще более: хоть и писала после, но уже не аккуратно, все как-то урывками.
1896 год
5 октября, суббота
Завтра в школе молебен. Ученье началось 3-го. Из III отделения явилось меньше половины – всего четверо и новых очень много, кажется, трое. Только II отделение почти все, но как печально и досадно, что все, что учили прошлой зимой, забыто; в особенности малыши, те, что побольше, еще кое-что помнят. Вот теперь и приходится все снова повторять – время терять, которого и на новое-то не хватает.
Сегодня навели новичков, да все маленьких, много семилетних. Плохо с маленькими: ни за что не кончить программы в 3 года. Если б начинали 10 и 11 лет учиться, тогда бы можно успеть, а у маленьких и внимания не хватает, и как неразвитые – весь лексикон у них состоит из 5 слов… С большими дело идет успешнее. Не знаю, право, как я справлюсь, и теперь все это меня очень заботит, а главное, нынче хотелось бы к экзамену, даже обязательно нужно, а они все забыли. Труд просто непосильный – заниматься сразу с тремя отделениями. Нужно, как говорится, навостриться, а у кого мало практики и знаний, запутается, подобно мне. От всех забот и неудач я злюсь на весь свет, не то, что злюсь, а и сама не знаю что. Недаром О. М. весной говорил, как я к ним приехала, что у меня появилась в лице анемия. Я о анемии не знаю, но думаю, никакой мысли в моей физиономии не стало; не знаю и того, принято ли такое выражение, ну да все равно. Всего досаднее то, что еще в прошлом году можно бы представить хоть одного к экзамену, но и того в П. отобрали. Домой придешь, так ни за что не хочется приниматься и чувствуешь себя как будто не на своем месте. Как будто я ненадолго на квартире, а потом. У нас хорошая старушка-сторож: метет полы, стирает с досок, которых в классе две, топит печи и т. д. Я с ней душу отвожу иногда. Хочу и по вечерам с ней сидеть в школе, где теперь устроила себе свою комнату: поставила стол, табурет, две скамьи для сиденья. И я их поставила в ряд, чтобы прилечь, как угорю, или так [голова] разболится, что часто случается, а также и угорать приходилось. Ожидаем гостей: Петра Кузьмича, которого я ненавижу, и Кешу, а может быть, и Саша скоро приедет: Клашу привезет опять учиться.
17 ноября
Господи, что это случилось. Я даже понять не в состоянии, а главное, после того приема и чувства-то мои к этому человеку вовсе не такие, чтобы давать слово. Да в том-то и дело, что я теперь сама себя узнаю, свои дурные стороны. Ах, вот еще, на что я способна. Господи, какая я низкая: хотела отомстить тем, чтоб дать человеку опять надежду, и с тем, чтобы посмеяться, отомстить новым отказом, когда он уверится, что это не обман. Так ведь это низко, гадко, да этим нахала не проучишь, и только себе это, верно, я нажила неприятность: он не успел уехать, и давай по всему ачинскому округу хвалиться; да это еще ничего, а поездка моя в Чебаки еще хуже доказывает мою трусость: я испугалась, что он едет в Томск, где его адрес я не знаю, а то я хотела в Чебаки следом письмо послать. Как все гадко, скверно, и все от моего легкомыслия: нельзя так серьезно шутить и играть серьезным. Положим, я достигла цели, но это мне дорого стоит. Во-первых, я теперь мучаюсь, как я гадко поступила, пусть он навязчив и дурной человек, но это только указывает то, что и я, мстя ему, равняю себя с ним. И какой бы он ни был, а мне непростительно так поступать, нельзя быть такой легкомысленной и школьничать так, а ведь я не подумала тогда о последствиях, могло и так случиться, что я принуждена бы была сдержать слово. Да еще ведь он может по делу счесть, что я все это серьезно, и признаться стыдно, да ведь и действительно, кто его знает, шутка ли это была с моей стороны. Это я только сама так думаю, что против своей воли я так поступила гадко, потому что зла была, и потом, да черт знает еще почему, только одно знаю, что я его с момента его приезда к нам в день маминого Ангела от всей души презираю. Мне стыдно самой себя, я и себя презираю, да, Господи, я просто не постигаю, как могло все это случиться, и, чтобы больше не мучить себя, я не стану вспоминать и писать.

П. К. Палеев с женой Марией Петровной (Машей)
23 декабря 1896 года, понедельник
Чтобы не думать, не горевать так буду писать каждый вечер, потому что свободного времени больше вечером.
Вот у меня с писарем И. Мих. какая-то размолвка, которой, впрочем, я причин не знаю. Но легко видеть то, что он что-то дуется, и так как он слишком самолюбив и мстителен, то и немудрено. Недели две тому назад вдруг просит, чтоб устроить елку для учеников, и сам вызвался собирать на елку по подписке, обещал набрать рублей 25. Я не хотела и не думала устраивать елку нынешний год, но, видя, что он так горячо принимается, тем более что сам изъявил желание участвовать в этом деле, я, конечно, согласилась. Да и нехорошо было отказываться. Потом, как надул губки, чего терпеть не могу, лучше прямо сказать, что сердит, нашел отговорку, что потерял подписной лист, послал записочку мне в школу и предлагает попросить кого-нибудь другого принять участие. По своему обыкновению, я рассердилась больше за то, что его никто не просил браться, а если некогда, так раньше должен был сообразить, да больше-то, я знаю, что это «некогда» – одна отговорка. «Милостивый Государь И. Мих.! – писала я ему. – Вы мне премного обязаны тем, что потеряли подписной лист для елки, а другого я составлять не намерена, а тем более просить кого-нибудь участвовать. Т. Лихачева».
С тех пор Бурлев у нас еще не бывал…
Утром я сходила в школу. I отделению показала Ъ и Ь зн[аки] и распустила, но придется, однако, до 28 января заниматься: навязали обязанности счетчика [за участие в переписи населения Татьяна Петровна была награждена медалью. – Н. Р.].
Недавно на уроке арифметики в III отделении я спросила у Андрея Слепцова, как называются еще числа, данные для умножения, то есть множимое и множитель. Мне никто на вопрос не ответил. Тогда я им напомнила, что произведение не изменится, хоть и переменять места множимого и множителя, и из-за этой-то особенности их еще иначе называют. Тут Андрей Слепцов, подумав, говорит: «Переворотами». Мне кажется, он был по-своему прав, называя сомножители переворотами. А то еще много и нецензурных слов услышишь от некоторых, в особенности Патюкова. Когда он поступил, я не знала, что с ним делать, до того у него вкоренилась привычка ругаться гадкими словами. Я больше старалась его уговаривать добром и доказывать при всяком удобном случае, как скверно, нехорошо ругаться. Он мальчик способный и умный, понял это и старается, т. е. воздерживается, но уж привычка ругаться вкоренилась сильно, так что он еще иногда забывается, да вот недавно, но об этом я писать не буду.
<…>
Вот удивляюсь глухим ученикам, как они учатся и учатся хорошо, только с ними много не порассуждаешь. Их у меня два, один уж теперь не учится. Задача всегда решена, да и вообще, что ни спроси, он все знает и ответит, только уж никогда не объяснит, почему это так, может, потому, что для них тяжело много говорить. Им никто не подсказывает, они как-то сами ухитряются хорошо учиться, конечно, не очень хорошо-то, что объяснить не умеют. Первый писал худо, а этот лучше всех пишет в I отделении, почерк, кажется, будет хороший. Всех бы мне их хотелось на память себе описать, но… да я и напишу.
<…>
Завтра мне много работы. Пожалуй, благочинный еще приедет. Вот носит его! Любуюсь на подарок Мити – Лермонтова.
25 декабря 1896 года, среда
Ну как я буду писать о чем-либо постороннем, когда даже думать-то о том не могу?
Сегодня, например, я получила нечаянный интерес и столь неожиданный, что и одуматься-то не могу. Нет, так мне и надо, да еще и мало: не води знакомства с подлецами.
Еще только сегодня я узнала, что Бурлев хотел меня выгнать со своего вечера, но, слава Богу, он не посмел, но я одного этого намерения не могу вынести. Я ему ни за что руки не подам и прямо плюну в рожу или назову подлецом. Этого нельзя пропускать так, а то, пожалуй, подашь и другим повод к тому же. Как-то в начале сентября мы ходили по сакмалу гулять компанией: я, Бурлев, Калинин, Вера Павловна, Любовь Павловна Андреева. Когда шли назад, то начали швырять друг в друга прутьями. Вера и Любовь отстали, то есть швырянья в них прекратили, а меня еще все продолжали атаковать. Я обозлилась и начала швырять в них чем попало. Потом уж говорю им: «Не стоит позволять себе шуток с мужиками». И тем дело кончилось. Я этим словам не придавала оскорбительного смысла, хоть, сознаю, что они вышли резки и при других обстоятельствах очень хорошо могли задеть за живое. Назвала я их мужиками в том смысле, в смысле их физической силы, что я, как женщина, с мужчиной не справлюсь, а тем более с двумя, и мне же больше достанется, но я в том опрометчиво поступила, что сразу этого не объяснила. Конечно, как сама не думала оскорбить, и последствий не предполагала. А именно то и вышло, чего я не предполагала: Бурлев понял мои слова в буквальном смысле, т. е. что я их назвала мужиками. Он сразу и виду не подал, вместо того чтобы объясниться, а затаил злобу на меня, вскоре же, кажется, дня через два, приглашает к себе в гости с тем, чтобы танцевать.
Я, ничего не зная, иду к нему с Кешей и Машей. Но начинаю замечать что-то странное. Калинин говорит мне и не один раз: «Я Вас жалею, Т. П., и удивляюсь, зачем Вы здесь, Вас хотят оскорбить», – а писарь пьет, не переставая, водку, чего с ним никогда не случалось. Меня все это крайне удивило, хоть и не знаю ничего, а все-таки собираюсь уходить, да и неловко уходить ни с того ни с сего. Прощаюсь, начинаю одеваться, а Бурлев удерживает и другие, и довели до того, что я опять остаюсь, недоумевая, в чем дело. Немного погодя, Кеша вызывает меня в другую комнату, говоря, что Бурлев просит меня на несколько слов. Прихожу, Бурлев начинает объясняться, что, дескать, так и так, Вы меня оскорбили. Тут я объяснила ему, в каком смысле я сказала это, он убедился моим словам и извинился передо мной. И вот сегодня узнаю, что он с тем намерением меня приглашает и вечер устраивает, чтобы выгнать меня… И это все за то, что я снизошла до них, что от меня, кроме добра, ничего не видели, что старалась и их как бы поднять до себя. Да мало, нужно было ведь предполагать, что они на самом деле мужики, да еще низкой пробы, а я об этом-то и забыла, а может быть, это оттого происходило, да так и есть на самом деле, что раньше мне не приходилось иметь сношений с кавалерами подобного сорта, потому я так доверчиво и хорошо относилась, не подозревая в них ничего дурного и считая их за порядочных людей.
Боже мой! Что же Митя ничего не пишет? Это мне хуже всего. Здоров ли? Неужели, о Боже! Нет, я не хочу верить, чтобы он оставил без ответа моих писем, неужели он не поймет меня? Неужели не видит, что я одного его люблю? Неужели я бы стала откровенно ему писать, если б не питала к нему уважения и считала бы его только выгодным женихом? Не могу я его обмануть и мирюсь даже с отказом с его стороны, только не это холодное молчание, которое выражает презрение и убивает окончательно меня. Я до того уже дошла, что подозреваю немного писаря во вскрытии моих писем, хотя ему нет надобности так поступать.
А просто увидела, какой он дурной человек и на что способен, ну и нахожу причины. Боже! Дай мне силы и терпения. Этот случай помог мне оценить Митю и еще больше любить его.
8 февраля 1897 года
Третьего дня получила от Мити два письма, а сегодня видела его во сне: будто мы с ним собираемся куда-то ехать по железной дороге. Поезд скоро отходит, и Митя надевает на ходу шинель, чтоб идти за билетом на вокзал, а идти до вокзала версты полторы, у меня же ничего не готово. Когда Митя ушел, то я начинаю ужасно торопиться зашивать какие-то два чемодана и все не могу зашить, досадую, что не могу, боюсь опоздать и на Митю сержусь, что не предупредил об отходе поезда да не помог мне приготовить чемодан. Ужасно волновалась, страшно было, что я могу остаться, а он уедет один. Наконец он вернулся и рассказывает, что ссорился с кем-то на вокзале, а пассажиры третьего класса сказали про него: «Если он вернется, то мы его наругаем». Говорит, сам смеется, а я довольна более тем, что он тут, а не тем, что удалось взять билеты, мне вовсе и ехать-то не хотелось, а только чтоб Митя тут был.
11 февраля 1897 года, вторник
Много есть чего написать.
Сегодня нечаянно против обыкновения приехал областной наблюдатель. У нас начался первый урок. Папа ушел с третьим отделением в другую комнату, чтобы мне не мешать заниматься и ему чтобы тоже не мешали. Я не видела, как он (наблюдатель) прошел, и занимаюсь себе, потом ребята пришли в класс и уселись, перешептываются, но это меня не удивило, думала, что это пришел мужик к папе, поэтому дала третьему отделению работу, а сама продолжаю заниматься. Но потом почему-то меня вдруг любопытство взяло, что папа не ушел из школы, а ребят отправил от себя. Пошла туда и вижу, сидит Смиренекий, наклонившись, что-то пишет, волосы у него рассыпались, как грива, и лица не видно, да поэтому-то он меня и не видал, а я воспользовалась этим и ушла к себе преспокойно, не поздоровавшись. Странно, я раньше боялась, когда узнавала, что придет наблюдатель, а тут нисколько, только неловко было, что у нас в школе грязновато. Со мной любезен, с ребятами строжился, что руки грязные да тетради вверх ногами пишут. Руки мыть я их уж снегом заставляла, но и это не помогает, просто беда с этой грязью.
Завтра пойду на свадебный вечер к Елизару Прохоровичу. Он женит сына Петра, берет невестку из Солгона. Венчать будут с певчими.
<…>
А вечер, вечер-то какой будет, с музыкой и не по-крестьянски, молодые будут присутствовать на вечере, а то ведь у них иное обыкновение. Я все хочу как-нибудь описать здешние свадебные обычаи и обряды, да боюсь, что ничего не выйдет: не знаю песен и так-то еще не все знаю.
16 июня, понедельник
Прескверный был вечер у Елизара на свадьбе. Грязь и теснота – вот что сильнее всего бросалось в глаза. Не хочу говорить, что так же было, как у Савелья на пирушке, – Григоровича. Молодые и поезд – все сидели за столом. Изба была полна народу, так что мы едва могли пробраться в следующую комнату, но какой вид имела эта вторая комната! Пустые бутылки по окнам, на кровати и по лавкам навалена одежда поезжан и других гостей, везде сор и беспорядок, тут и стол с самоваром, и чайная посуда – одним словом, эта комната никак не могла служить для гостей. Из толпы, которая наполняла первую комнату, выступили две женщины и принялись величать бояр охрипшими голосами, а все песни выходили на один мотив. За это они получили от бояр и других гостей мелкую медную монету.

Ф. Г. Тарасов (муж Анны Петровны)
А все-таки я во все время этой свадебной гулянки принимала участие.
Вчера прогостила Вера день в Алтате, чему я очень рада была, хоть сходили гулять к Чулыму. А то и гулять не с кем. Мама и Петр Кузьмич уехали в Красноярск. Я бы, конечно, могла ехать с мамой, но главная причина: у Нюрочки глаза болят, да боюсь, что Фатюша [Ф. Г. Тарасов, муж Анны Петровны, преподавал греческий язык и латынь в духовной семинарии. – Н. Р.] еще выгонит, пожалуй, ведь он интеллигентный господин, а такие люди, когда справедливо негодуют и возмущается их благородная душа, способны и выгнать, не то мы, возмутительные, мы трусим и не то что выгонять и противоречить боимся, да и не хочу доводить человека до подобной глупости, а унижаться, т. е. не противоречить, я не могу. А Анюта все-таки не пишет, догадываюсь, что это его настояние. Вчера мы проиграли в карты до 11 часов у Маши, поэтому пришлось ночевать там, а сегодня голова болит и скучно, противно. Начинают красить ограду, только ворота еще не готовы. Сильно заботит и озлобляет меня постановка школьного дела. Во сне часто вижу я эту школу. Противно и досадно. Так бы и разорвала эту тетрадь, изломала бы ручку и все, что ни попало. Ах, как все глупо, и больше всего я сама.
<…>
30 июня, понедельник
Нет мне радости,
плакать хочется.
Неужели в Алтате ничего нет краше и лучше сплетен. Хочешь сделать добро, но, положим, это еще не горе, что не хотят понять да не ценят стараний, это, думается, со многими бывает. Пусть высказывают недовольство, что в здешней школе не выучиваются, но я знаю, что не я тому виной и т. д. Мирюсь с этим, потому что не я одна, может быть, терплю подобные неудачи. Но сплетен не выношу. Я хочу жить и поступать, как хочу. Отчет никому давать не буду, не хочу подчиняться алтатским правилам и понятиям. Если у меня есть потребность развлечься, нахожу человека, с которым можно хоть поболтать, то для святош не пропущу случая удовлетворить себя хоть болтовней. Хотелось бы что-нибудь получше написать, вижу сама, что нехорошо всегда так думать и писать. Но что же поделаешь, когда нет здесь ничего лучше, все оглупели, отупели и тоже, конечно, иногда досадуешь, рвет тебя сожаление и досада, кажется, на части, а то найдет отупение, так уж ничего не чувствуешь и даже боишься уж людей, начинаю дичать окончательно.
Вчера папа именинник. Целый день накануне готовили, думали, что хоть кто-нибудь придет, а никого, а мне досадно. Думаю, и наплевать, когда готовится и нет никого, и, наоборот, своих угощала обедом – вышел на славу, все прекрасно удалось. После сели играть в винт и играли до одиннадцати часов. Сегодня, конечно, прибирала все. Не хочется писать. Вспомнила, что есть хочу, а взять негде, ну хоть печенье возьму, в голове все-таки шумит и звенит.
Ну вот и покушала. На дворе кто-то возится, воротами кто-то стукнул, прошел, а я боюсь, и маму будить не хочется. Да если б кто чужой, то хоть одна бы собака залаяла, а то молчат, а я все-таки трушу. Недавно на улице спала и напугалась: упала с крыши жердь – кони уронили, – а я думала, кто ходит. Сегодня на улице холодно и очень сыро после дождя, поэтому перебралась в комнату. До Петрова дня была такая жара и духота, что на дворе спать невыносимо жарко было. Анюта хочет к 10 июля приехать. Какой красивый лимон разросся, прелесть, листья какие громадные, ветви редкие и так красиво раскинулись во все стороны. Наконец, в зале пол выкрасили. До завтра.

П. Я. Нечаев, 1890-е гг.
2 июля, среда, 9 часов вечера
И спала, спала весь день.
<…>
Не верится мне что-то тому, что мы с Митей сойдемся, хотя препятствий никаких сейчас пока не предвижу, а так просто думается. Да смешно еще как-то. Не могу себя представить без смеха его женой. А жить тоже будет плохо: он будет ворчать на меня, а мне будет смешно, или я буду злиться и капризничать, он же будет подсмеиваться, что и раньше устраивал. Хладнокровием и сдержанностью он сильнее всего будет мучить меня, а я его – своими порывами и горячностью. Отчего я сейчас мучаюсь? Кажется, ясно, что спокойствие и тишина более всего для меня мучительны. Не столько пишу, сколько старое перечитываю. А кто знает, может, и я буду более спокойна, когда буду довольна своим положением, хотя и будут порывы, но все-таки не так, уж не будет, я уверена, того исканья выхода из своего положения, а сейчас я вглядываюсь в замужних женщин и, право, становится досадно.

А. Я. Нечаева, урожд. Беляева, 1890-е гг.
Видно, что они очень довольны своим положением, ничего не ждут, ничем не интересуются, сидят, как лягушки, в своем болоте, разве когда выйдут на бережок поквакать – осудить разве кого да посплетничать. А мне противна подобная жизнь, это спокойствие и эгоизм, он высказывается во всем. Стану звать свою сестрицу гулять – нет, куда тебе, не хочет понять, что мне тошно уж просто, ну поневоле уж идешь с кавалером, хотя знаешь, что эти же счастливые существа начнут о тебе злословить, хотя сами отказали в этом удовольствии. А спутник-то, т. е. кавалер-то, все один и тот же: вот и чешите свои языки, сколько кому угодно, да и, кстати, он плохо с женой живет, значит, что же еще надо, а никто не знает, что если б был один человек, то… все здешние аристократы получили бы немедленно отставку.
До завтра, может быть.
Кто, читая этот дневник, не поверит моим жалобам на скуку и неудовлетворенность, подумает, что я преувеличиваю, тот тяжко согрешит, лучше пусть бросит и не читает. Я, напротив, еще сдерживаюсь и стараюсь не писать да и не умею написать верно, что чувствую, переживаю, что тут одна сотая доля только. Если есть хоть малейшее развлечение, так я как утопающий за соломинку хватаюсь, стараясь хоть на минуту забыться, и иногда удается.
<…>
3 июля 1897 года, четверг,
9 ч. вечера
Что же мне теперь и остается – только писать дневник. Читать мне нечего, а со злости ничего не выписываю, да и не знаю, что выписать, хочу нарочно одуреть хорошенько. Сегодня мама, разбудив меня в 9 часов, предложила: «Не желаешь ли стирать белье?» Ну как откажешься от такого лестного предложения? Ну, конечно, стирала до 2 часов и на речку ездила белье синить. Часов с 4 играли в винт с Калининым и Григорием Николаевичем. Была Маша, я ей играла на гитаре. Спать не хочется, а писать нечего, читать тоже надоело, право, все писать-читать, читать-писать, а поговорить не с кем.
Хоть бы письма скорее дождаться. Долго ли я еще буду бороться? Неужели старики не понимают, что такая жизнь тяжела. Маме все только: работай, думает, что мне все лень. Да разве возможно так работать, что пользы в этой работе. А папа зимой удружил: «Если не можешь вдовство переносить, то иди замуж». Тоже, значит, понял, да видно из всего этого, что им непонятно мое положение. Им непонятно, что я каждый вечер с 9 часов от скуки, когда полягут все, не знаю, что делать, куда деваться, а есть чтение, то огонь туши, что напрасно жжешь. Погасишь этот несчастный огонь, хоть и не хочется спать, а почитать бы, и лежишь с открытыми глазами, чего только не придумаешь, а все ничего не могу выдумать. Теперь вот уж три дня сплю в зале, дверь затворена, и огонь могу жечь, сколько угодно.
Не знаю 2-е сегодня или 1-е, кажется, второе: второе, третье, четвертое. «Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова» – разучиваю на гитаре, а самоучителя все нет.
Никакого почерка, одна гадость.
Читаю: «Игры действительные и воображаемые».
6 июля, воскресенье
С утра болела голова. Проснувшись и посмотрев спросонок на часы, увидела, что уже 9 часов, и благовест слышу, думаю: к обедне, поторопилась встать, но, оказывается, было всего 5 часов и благовестили к утрене, только еще прилечь уж не пришлось.
Обидно, но едва простояла и, придя домой, не стала чай пить, легла. К 14 ч. приехал Кеша: у него украли лошадь, ездит, разыскивает. Жаль и мне такую лошадь, настоящий огонь и рысь хорошая. Немного погодя, подъехал благочинный, только у нас не был, прямо в церковь, а затем к псаломщику, с папой идет раздор. Наконец-то получила жалованье 20 р.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































