Текст книги "Иресиона. Аттические сказки"
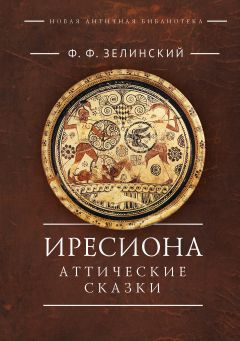
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Он начертал ее имя на коре развесистого дуба – Прокна научила его писать, показав ему буквы на аттической амфоре с маслинами, похищенной Типом из хозяйства Адосфа. Это имя он украсил цветами и возлиял ему овечьим молоком в дни новолуния. И самую томную и сладкую из песен Прокны он прозвал «песнью о Метионе». Она ему часто пела ее, и он задумчиво смотрел вдаль, вдыхая теплую, душистую влагу южного ветра.
Так прошло еще три года. Отрок стал юношей.
VII
И опять запахло весной. Прокна, прилетев из далеких стран, запела над своим питомцем свою обычную приветственную песню, но ей не удалось разбудить его. Это был какой-то особенный, сковывающий сон, грудь его бурно вздымалась – знать, видения, одно другого беспокойнее, беспрестанно чередовались перед очами его души.
Ночью он проснулся сам.
Какая-то странная жизнь кипела по всей горе. Ветер со свистом мчался по роще, повсюду ломая сухие, а иногда и живые ветви. Волки, спугнутые со своих логовищ, то и дело выбегали из чащи, ночные птицы, забыв об охоте, летали туда и сюда. Все они, видимо, были одержимы одним и тем же чувством – все чего-то искали – и вдруг, точно найдя искомое, все помчались по направлению ветра в гору. Юноша, движимый тем же чувством, побежал вместе с ними. Вскоре он понял, почему он бежит именно туда: через свист ветра стал пробиваться звон лиры. Было что-то неудержимо зовущее в этих звуках: раз их услышав, нельзя уже было ни о чем другом думать, ничего другого чувствовать. Чем дальше, тем численнее становилась толпа: все звери Пангея покрывали землю, все птицы осеняли ее, затемняя свет молодой луны. В гору, в гору! Все в гору! Что это? Даже деревья не могут устоять – даже они как будто сорвались со своих корней и неслышно скользят по зеленому ковру. Вот уже верхняя поляна; сколько тут народу! Всякого народу – мужчины, женщины, у кого в руках дымящийся факел, у кого – кедровая ветвь с шишкой в виде наконечника.
А там, на скале, стоит волшебник с лирой в руке. Вот он запел; тут уж и о лире забудешь…
«Внимайте все! Просвещайся, народ! Далеко от нас те, чья душа мертва, чье сердце не бьется при звуках моей лиры. Пусть уходят отсель: не спасенье, а смерть обретут они в песне моей».
Плач раздался в толпе; сотня-другая мужчин и женщин отделились от нее и с поникшей головой пошли под гору. Но юноша остался: он чувствовал, что его сердце радостно трепетало в ожидании грядущих чудес.
«Внимайте все! Смысл жизни вашей услышите в песне моей.
Видите вы его? Я его вижу, о тайна искупительного брака – брака небесного царя и царицы подземного мира. Видите вы его? Я его вижу – отрока-искупителя, красу над красами, первозданного Диониса».
– Видим, видим! – ответила толпа. – Благо ему! Эвоэ, Дионис!
«Гряди, прекрасный! Гряди, непорочный! Ты примешь мир, оскверненный насильем отца и предков, и в твоих руках он возродится в чистоте и правде, и все возродится вместе с ним».
– Гряди, прекрасный! Гряди, непорочный! Эвоэ, Дионис!
«Видите вы их? Я их вижу. О злоба затаенной мести! Для того ли, Титаны, с вас сняли оковы, чтобы вы подняли свои кровавые руки на него, прекрасного, на него, непорочного? Горе! Горе! Медь у них в руках, но не мечи, не копья – медь гладкая, медь блестящая. Не кровь она точит, а образ, образ высасывает у него, прекрасного, у него, непорочного. Не цел он более, первозданный Дионис; в двенадцати образах преломилась его сила. Беги, мой возлюбленный! Воссоединись, чтобы, воссоединенный, и нас возродить!»
– Горе! Горе! Беги, беги, первозданный Дионис!
«Видите вы его? Я более его не вижу. Он растерзан, поглощен, двенадцатью телами поглощена его плоть. Нет более искупителя, нет возродителя – Титаны поглотили первозданного Диониса!»
– Горе! Горе! Нет искупителя, нет возродителя!
«Видите? Я вижу! Что-то красное лежит, трепещет – это последняя надежда на возрождение, это – сердце первозданного Диониса. Спаси его, Паллада! Отнеси его своему небесному отцу: пусть он обратно примет в себя то, что выделил тогда».
– Спаси, Паллада! Спаси Диониса!
«О тайна возрождающего брака – брака небесного царя и фиванской царевны. Грянула молния – в огне брачный терем. Испепелил он смертную плоть матери – не тужите, люди! Уцелел божественный плод, возвращен нам наш спаситель, сын Семелы, второй и вечный Дионис».
– Возвращен наш спаситель! Эвоэ, Дионис!
«Внимайте все! Смысл жизни вашей услышите в песне моей.
О люди, о кровь от крови Титанов! И вы не знали, что два естества враждуют в оболочке ваших тел?
От Титанов все разъединяющее, все обособляющее. От них рождения и смерти, от них томительный круг бытия. Но и Дионис в вас, в вас распыленные части первозданного искупителя. Он жаждет воссоединиться из распыления в ту прежнюю единую, великую суть.
Слышите вы, люди, этот зов? Я его слышу! Это – зов второго Диониса, сына фиванской царевны, наследника сердца первозданного искупителя. Соборуйтесь, соборуйтесь, люди! Соединяйтесь из распыления и друг с другом, и со мной, воссоздадим единую суть первозданного Диониса. Тогда будет разорван томительный круг рождений и смертей, тогда наступит вечное блаженство неразделенного бытия.
Соборуйтесь, соборуйтесь, люди! Вкусите блаженство слиянного, внетелесного бытия! Дионис вас зовет в свои таинства, он даст вам предвкусить в ночи восторгов блаженство новой вечной сути, ожидающее души посвященных за пределами смерти».
Пророк умолк. Молчала и толпа, очарованная его песнью; но молчание это продолжалось недолго. Загудели тимпаны, зазвенели кимвалы. «В хороводы! В хороводы!» И гора затряслась от безумной пляски. Замелькали перед взором юноши белые руки, замелькали румяные, разгоревшиеся лица: вакханты, вакханки – особенно вакханки. И эти руки он дружелюбно пожимал, и эти лица ему приветливо улыбались – все составляли как бы одну семью братьев и сестер. Слышались и речи; он их не понимал, но и речи были приветливые, радостные.
Впрочем, и не хотелось понимать; главное – это пляска, восторженная, исступленная пляска. Он не чувствовал ног своих: всем своим естеством он отдавался этому безумящему, всесокрушающему вихрю пляски. Он и наслаждался, и ждал еще больших наслаждений – ждал чудес слиянного, внетелесного бытия.
И вдруг – резкие, враждебные крики. Что это? Понять нельзя было; но что-то чуждое вторглось, разрушило единое восторженное настроение. А, вот они: толпа поселян, вооруженных бичами и палицами; они врезались в толпу вакханок, хватают их. Те отбиваются, вырываются. Впереди нападающих какой-то великан с огромными, уже седеющими усами. Это его, конечно, зовут: «Адосф! Адосф!»
Адосф! При этом имени что-то поднимается из самых недр души нашего юноши, что-то страшное, багровое. Он смотрит на него: кто перед ним? Фракийский поселянин? Нет! О, теперь он уже сам чувствует, хотя и не отдает себе отчета, в этих оргиях Диониса все кажется исступленному огромным. Титан! Титан! А, это ты посягнул на царственного младенца? Месть! Месть! Месть за Диониса! Что это с ним? О да, он теперь понимает: из всех страстей жажда мести – самая страшная.
Адосф! Адосф! Вот он, Титан: подбегает, поднимает палицу. Еще мгновение – и ее тяжелый, обитый железом наконечник размозжит ему голову. Но юноша не ждет. Одно мгновение – и вырванная у великана палица летит далеко в чащу леса; одно мгновение – и он сам падает навзничь; одно мгновение – и грозная голова усача, крутясь и брызгая кровью вокруг себя, глухо ударяется о соседнюю скалу…
Поселяне бегут, вакханты и вакханки за ними. «Эвоэ! Эвоэ!» И опять тимпаны, опять кимвалы. Юноша побежал было и сам, но ноги отказываются служить. Он чувствует внезапное утомление – и чувствует еще нечто, нечто гложущее, сверлящее, мучительное. Он падает на землю, плачет.
«Эвоэ! Эвоэ!» Эти звуки еще слышатся, но издали; они замирают в ночном воздухе. И ветра более нет, нет зверей, нет птиц, все молчит.
Молчит? Нет: тут же над ним какая-то песня раздается. Песня соловья. Такая жалобная, раздирающая. Пой, пташка, пой, родная! Ах, понять бы только, что ты мне хочешь сказать!
VIII
В следующую ночь – то же. Никто не сговаривался, никто не распоряжался; но это был настоящий поход. Исступленная дружина сбежала с Пангея в долину, переплыла через Стримон, направилась по равнинам Македонии к голубым пиерийским горам. Кое-кто отставал, кое-кто возвращался, зато приставали другие поселяне, а больше поселянки деревень, через которые лежал путь исступленных. Вихрем мчались они через них; кто не успевал спрятаться, тот был увлечен. Жены бросали мужей, матери – детей: «В горы! В горы!» – нельзя было сопротивляться этому зову.
Вот уже и блаженная Пиерия; Олимп оглашается восторгом ночных хороводов. Наш юноша везде впереди. Кровавая ночь на Пангее забыта; без крови не обходится и здесь; нападающих везде много. Вот уже и Олимп покинут: Пеней пройден, зеленая Осса дает приют дружине Диониса. Слышится уже греческая речь; семья вакхантов делится своими переживаниями с юношей. Он слышит ее рассказы, и грустно ему становится. Не он ли пляшет исступленнее всех? Но как ни просит душа чудес внетелесного бытия – не дает их бог. Чего-то всегда не хватает до полноты мига, до окрыления души.
– Что же нужно? – спрашивает он счастливых товарищей. – Что же еще нужно?
– Нужна страсть, – отвечают ему, – нужна страсть выше страстей.
Что-то дрогнуло в его сердце. Выше страстей? Кто-то когда-то ему пел про счастливую жизнь ниже страстей; это было так давно!
– Но ведь я же ее познал! – с жаром ответил юноша. – Я отомстил обидчику своего детства – страшно отомстил. Это ли не страсть выше страстей – опьянение мести?
– Для одних – да, для других – нет, мой друг. Ты, знать, не из тех. Жди, пока тебя призовет бог, если он вообще тебя призовет. Недаром ведь у нас слово говорится: много у нас тирсоносцев повсюду, но мало вакхантов.
За Оссой – Офрис; за Офрисом – Парнас; за Парнасом – Геликон; чуда нет и нет.
Вихрем промчалась дружина исступленных через Фивы; многие тут присоединились к ней – Фивы ведь были родиной Диониса.
– А куда теперь? Куда теперь?
– На Киферон! Там нас уже ждут: наши предтечи уже созвали вакханок.
– Откуда?
– Из Афин.
И вот они наконец – таинственные ущелья и поляны Киферона. О, это уже не то: наш юноша чувствовал – это нечто свое, родное. О сладкие звуки аттической речи! С какой силой нахлынули они на его душу!
Гудят тимпаны, звенят кимвалы, мелькают руки, мелькают лица – новые лица, но они знакомее старых. И глядят они по-другому, и улыбаются по-другому. И сам он стал другим. Нарастает восторг, нарастает. Мимо, взоры, мимо, улыбки! Все приветливы, но где та, что всех приветливее? Нарастает восторг, кипит божья сила; теперь, теперь не обмани, золотая надежда! Мимо, руки, мимо, лица!
А! Вы ли это, черные глаза, вы ли это, развевающиеся в ночном ветре черные кудри?
– Это ты, Метиона?
– Это ты, Кекроп?
В хороводы! В хороводы! Она с ним – и нет на всем Кифероне ничего, кроме нее. «В горы, в горы!» Где ты, гора? Ты ли это – там, глубоко, озаренная этими светлыми точками? Всё дальше и дальше эти точки – вот и совсем исчезли. Чу, какой-то шум, сначала отдаленный, затем все ближе и ближе. Это волны морские с глухим рокотом друг о друга разбиваются. Оно под нами, это волнующееся море: видишь, как оно пенится при свете луны. Пой, Метиона! Нельзя не петь в такую ночь. Пусть наши песни сольются – наши души слились уже давно. Наши души! Но ведь они в этом теплом, душистом ночном ветерке, как в другой, всеобъемлющей душе. Ты знаешь, Метиона? Он мне давно про тебя напевал, этот теплый, душистый ветер; он мне твою душу приносил, а я этого не знал.
Наши души? Да мы не одни! Смотри, отовсюду слетаются к нам блаженные. Как бы не потерять себя в их воздушном хороводе!.. Ну что ж, хотя бы и потерять себя. Ах, Метиона! Как я ждал этого чуда! И вот оно свершилось… свершила его – страсть выше страстей. Ты знаешь, как ее зовут – знаешь, Метиона?
Потеряем себя! Пусть во всем будем мы – и в нас будет все.
IX
– Скажи, чужеземец, как зовут этот грозный город, что высится на этом холме?
– Как, гость, ты не знаешь стен Алкафоя? Благодари Аполлона, приведшего тебя сюда: перед тобой благозаконный город, славная Мегара. Вы оба будете в нем в безопасности – и ты, и твоя жена.
– Вижу, чужеземец, что и ты – мегарский гражданин. Скажи же, как зовут вашего царя?
– Наш царь – Пилас, правнук Посейдона; если ты имеешь дело к нему – я его вестник и могу тебе послужить.
– Скажи же ему, что к нему обращается Кекроп, сын афинского царя Эрехфея, с женою своей Метионой. Мы были на Кифероне с вакханками и спустились, сами того не зная, в его страну.
Вестник удивленно покачал головой. Все же он исполнил просьбу странника.
Неласково принял гостей царь Пилас. Но его недоверие не устояло против очевидной искренности и правдивости рассказа юноши о своем детстве, своем похищении и своей жизни на Пангее.
– Я верю тебе, гость, – сказал он, когда тот умолк, – но положение мое затруднительно. Афинами управляет Ксуф, муж царевны Креусы. Понимаю, что твои права на афинский престол более законны, чем права пришельца; но пойми и ты, что я не желал бы испортить своих добрососедских отношений к Афинам и их царю.
– Будь и впредь другом и союзником моей родины, почтенный царь. Я покорен воле бессмертных и не буду вырывать власти у моей сестры. Пусть она царствует благополучно и никогда не узнает, что ее брат еще жив, и пусть братья Метионы считают погибшей среди вакханок свою сестру. Нам же дай убежище в своей стране – какой-нибудь клочок земли на горе Геранее, откуда мы могли бы видеть и благословлять страну Паллады.
Лицо Пиласа окончательно прояснилось. Но Кекроп продолжал:
– Сыну Эрехфея непристойно просить милостыни; у меня есть чем заплатить за землю – вот он, клад с горы Пангея.
Он отвязал свою мошну – и поток восточного золота полился перед взорами Пиласа. Золотые деньги были тогда редкостью в Элладе; и как ни был справедлив мегарский царь, но и его глаза разгорелись при их виде.
– Вижу, – сказал он, – что Гермес милостив к тебе; тем дороже будешь ты нам. Желание твое будет исполнено, но не поселенцем, а гражданином должен ты жить в городе Аполлона. И да будет твой приход на счастье нам обоим!
Вскоре хутор на Геранее принял Кекропа с Метионой: началась для них живая, трудовая жизнь. Но еще некто поселился с ними. И когда они после дневного труда отдыхали под тенью тополя в своем нагорном саду, а их взоры гуляли по холмам дорогой запретной родины – в листве тополя раздавалась неумолчная, то жалобная, то радостная песня соловья. И задумчивое лицо Кекропа становилось еще задумчивее.
– О чем ты думаешь? – спросила его однажды Метиона.
– О том, что мы с ней знаем, – ответил он, показывая на певицу, – о моем тихом детстве в ущелье Пангея.
– И ты тоскуешь по нему?
– Нет. Я испытал блаженство жизни ниже страстей – и испытал восторги страсти над страстями. Но боги назначили нам человеческую долю – будем же покорны богам!
VII. Печать Персефоны
I
– Иди! Иди!
Она шла все дальше в этой темной безлунной ночи, спускаясь ниже и ниже по крутому склону, у подножья которого журчал Стримон. Ручей не вызывал у нее страха, ужас наводила тесная поляна между ним и холмом. Могла ли она раньше вообразить, что туда придется направить ей свои стопы, ей, царевне Филлиде? Но что теперь рассуждать! Думала ли она прежде о том, что вместо брачного союза с каким-нибудь царевичем судьба пошлет ей тайную любовь к эллинскому пришельцу?.. Запоздалые мысли!..
– Иди! Иди!
Где бы передохнуть минутку! Ах, нельзя! Факел дрожит в руке. Вдруг погаснет – что тогда? Она бережет его как зеницу ока, но еще бережнее хранит свинцовую табличку под хитоном, на голом теле, между грудями. Факел – это жизнь; но табличка – это месть.
Факел в левой руке, а правой нужно хвататься за кусты терна и боярышника сбоку от бегущей среди скал тропы, чтобы не свалиться в баратрон. Да, она спускается к баратрону, к пропасти, в которую жители Девяти Путей сбрасывают с отвесной скалы, по царскому приказу, приговоренных к смерти преступников. Недавно сброшены были туда пятеро тирренских пиратов, которые не успели добраться до своего проклятого корабля. Она задрожала от ужаса, когда ей об этом рассказали, но название осталось у нее в памяти – баратрон. И вот теперь – Он приказал…
– Иди! Иди!
И она идет. Но нельзя же без передышки. Наверняка половина дороги уже позади. Шум Стримона слышен так отчетливо, словно он уже тут, у ее ног. Осторожно поставила факел на выступ скалы и сама присела сбоку. Нужно прочитать запись на табличке, прежде чем отдать ее… той, чье имя нельзя произносить. Правда, она сама ее написала… Но нет, это не она, это только ее рука, слова же шептал ей тот самый голос, который и сейчас властно шепчет ей:
– Иди! Иди!
– Пойду, пойду, но сначала должна прочитать. – Она достала табличку и стала читать при свете факела:
«Я связываю Пандиона, сына Метионы; связываю и ту женщину, которая с ним сейчас, связываю ее глаза, ее улыбку, ее язык, ее ласки. Связываю Пандиона, сына Метионы, чтоб он забыл ту женщину, с которой он сейчас; связываю ту женщину, которая с Пандионом, чтобы утратили блеск ее глаза, чтобы застыла ее улыбка, онемел ее язык и чтобы Пандиону опротивели ее ласки. Связываю Пандиона, сына Метионы, и связанным отдаю его тебе, могучая Персефона; и как он отнял у меня то, что было мне дороже всего, так и ты, любимая Персефона, отбери у него самое дорогое, отбери сразу, как только станет оно для него самым дорогим».
Нет, это уж чересчур; хотя бы это последнее заклятье нужно стереть. Вернуться домой и стереть это последнее, а завтра исполнить, что задумала. Завтра тоже еще будет новолуние. А теперь – домой! Да, домой!.. Но как стена застыл за ее спиной воздух: не позволяет и шагу ступить. И в то же время все громче и настойчивее… или это Стримон так ревет? О нет: ясно слышно:
– Иди! Иди!
Да, нужно идти. Прав этот голос. Стереть последнее заклятие? Нет, это малодушие! Что же тогда останется? Чтоб забыл ту… ту незнакомку? Ну, забудет, а потом ему понравится другая; нет, нужно, чтобы он любил только ее, единственную… Не позволила этого Афродита, так и Персефона наверное не позволит.
Она вскочила и пошла, все дальше, все ниже, цепляясь за кусты, освещая дорогу факелом. Вот уже и дно, теперь нужно протиснуться влево, между Стримоном и скалой. Заблудиться невозможно: Стримон – проводник надежный. А еще надежнее все ближе подступающий трупный смрад, забивающий дыхание. Отвращение и страх! Отвращение до тошноты, страх до головокружения. Она уже не может идти; шатаясь, не знает, куда ступить ногой. Так можно и споткнуться. О, уже споткнулась! Под ногой что-то мягкое, холодное, скользкое. Огня! Да: лежит навзничь нагое тело, верно, останки того молодого пирата, о котором ей говорили: волосы в черной крови, кровь на висках, струйка крови вылилась из полуоткрытых губ, обагрив верхние зубы. Нет уже сил держать в руке факел, нет сил держаться на ногах; еще минута…
– Кто тут шляется по ночам? – послышался грубый голос, скорее мужской, чем женский. Однако принадлежал он женщине, хотя и необычайно уродливой. Она подошла поближе и, узнав Филлиду, расхохоталась: – А, это ты, царевна! И тебе понадобилась колдунья? Славно-славно! Но как тебе пришло в голову прийти к Непроизносимой с заколотыми волосами? Позволь, помогу тебе, но не забудь вступиться за меня, когда царица снова прикажет меня высечь.
И притянув ее к себе, она стала распускать ей волосы по плечам, обдавая волнами удушливого трупного зловония.
– Готово, можешь идти. Но я вижу, ты очень ослабела. Ну что ж, я провожу тебя, потом чем-нибудь наградишь меня за это. Пошли! Ну, давай-ка! Потихоньку, но уверенно. Вот мы уже и поравнялись с часовней Гекаты. Где твоя жертвенная кружка? Не взяла? Кто же тебя учил? Наверно, Суракта? Не зря она крутилась возле вас и вожжалась с твоей нянькой. Как можно было довериться такой дуре? А к Медоименной нельзя попасть без Гекаты, так же как к тебе без твоей няньки.
Она снова расхохоталась.
– Что? Говори громче, деточка; у меня ведь нет правого уха; твоя мать, да пошлют ей боги долгие дни, велела отсечь мне его. – И откинув тонкую прядь распущенных седых волос, она показала за правым виском ямку, окруженную красным шрамом.
Но та и не думала ей отвечать, даже не дослушала ее, она вообще ничего не слышала, кроме доносившегося до нее голоса:
– Иди! Иди!
– Так как же быть без жертвоприношения? Можешь обойтись без него: я свое приготовила. Когда она увидит нас вместе, может, примет за обеих. Давай же я крепче тебя обниму: пусть подумает, что ты моя дочь. У меня была когда-то дочка, но безбожный царь, твой отец, да найдет он вечный покой на том свете, приказал сбросить ее сюда. Там вот тлеют ее кости. Идем дальше. Вот и пришли. Ту в скале часовня Всемилюбимой. Но войти туда ты должна сама; может, хоть этому тебя научила Суракта? Не забудь о Зелруне, прощай!
И она скрылась среди трупов.
Филлида вошла в пещеру. Пещера была довольно велика; единственным факелом невозможно было осветить ее всю. Едва можно было разглядеть у дальней стены огромный кумир богини из серого известняка. Филлида старалась туда не смотреть. В центре находился низкий очаг с черным отверстием для стока крови жертвенной овцы; но он не нужен был Филлиде, она стала выбирать на стене место, куда можно было бы прибить принесенную табличку. Нашла такое место нескоро: все стены были увешаны такими же свинцовыми табличками. К тому же не всякое место подходило, но только такое, где в камне была лунка для гвоздя. Наконец она нашла подходящее место, достала из-под хитона свою, скрутила ее в трубку, гвоздь она захватила с собой, а молотком мог послужить хотя бы вот этот камень, принесенный кем-то, очевидно, для такой же цели. Придерживая левой рукой трубку с гвоздем, она примерилась правой:
– Р-р-раз!
Ответил ей протяжный душераздирающий детский крик. Рука ее опустилась: что это? Стена кричит? Или табличка? Или кто-то там, в баратроне, где эта ведьма Зелруна обыскивает трупы? Кругом все тихо. Крик ей просто почудился, вот и всё.
– Два!
Снова тот же крик, еще громче и протяжнее, чем прежде. Где-то она слышала этот голос… Ах, нет, лучше не думать, чтобы окончательно не сойти с ума.
– Три!
И она стала как безумная бить раз за разом, пока гвоздь полностью не вошел в стену; потом бросила камень и выбежала наружу. Крик не прекращался, но ему вторило многоголосое рычание и вой, рычание и вой всех мертвецов, которыми было устелено дно баратрона. Только теперь она поняла, как их было много. Синие огоньки замелькали тут и там, освещая искаженные разложением лица, рассыпающиеся в прах тела.
Она бросилась бежать, но всюду дорогу ей преграждали трупы. Они протягивали к ней руки, хватая за край одежды. Того властного голоса она уже не слышала, его заглушали детские крики, рычание и вой покойников.
Не обращая внимания на все это, она рвется вперед, бежит, но вот снова тело молодого пирата с застывшей кровью в кудрях, с окровавленным раскрытым ртом и белеющими из-под верхней губы зубами. Этот ее не пропустит: с силой вцепился могучими жилистыми руками… Вот она уже слабеет в борьбе и падает; упала бы, если бы ее не подхватили чьи-то руки…
А что произошло потом, она уже никогда не могла вспомнить. Очнулась в своей комнате, лежа на мягких коврах, которые покрывали ее ложе; перед ней стояла няня и вливала ей в рот сладкий отвар мяты. Обе молчали, и того голоса не было слышно; замолкли рычание и вой; только детский крик не прекращался и отчетливо слышался из коляски, придвинутой к ее ложу в изножье.
По ее знаку няня отворила окно; в комнату вместе с дуновением свежего воздуха проникла громкое пение соловья, который сидел под окном на ветке тополя. Ребенок моментально затих и, повернув личико в сторону окна, начал прислушиваться.
На востоке зажглась заря.
II
Мистерии Диониса, которые возникли одним поколением ранее на соседней горе Пангее, уже пустили глубокие корни среди фракийского народа, в особенности же среди наполовину фракийского, наполовину греческого населения города Девяти Путей. Проходили они каждую триетериду, т. е. через год. Поскольку вскоре после описанных событий выпадала триетерида, то и Филлида со своей подругой Иантой, молодой жрицей, принимала в них участие. Но это не принесло ей облегчения, напротив: ее настроение, и без того невеселое, стало настолько мрачным, что ее мать, вдовствующая царица, стала беспокоиться за ее жизнь.
Однажды, когда, погруженная в грустные раздумья, она сидела возле коляски со своим спящим ребенком, раздался стук в дверь. Получив разрешение, в комнату вошел молодой красивый мужчина. Удивление Филлиды прошло быстро: она узнала Аглаодора, вдохновенного пророка Диониса, усердного проповедника его культа.
– Не стану скрывать, царевна, – начал он, – твоя царственная матушка попросила меня позаботиться о тебе. Подумай и скажи: готова ли ты довериться мне и выслушать мой совет? Правда, по возрасту я мог бы быть твоим братом, но меня вдохновляет Дионис, да и Орфей посвятил в свои таинства.
Филлида долго и внимательно смотрела ему в глаза; нашла нечто теплое и успокаивающее в их идущем из глубины блеске и тихо ответила:
– Я согласна.
Он присел рядом с ней.
– Тогда расскажи мне откровенно, ничего не скрывая, обо всем, что касается ее, – он указал на ребенка, – рождения.
Филлида покраснела. Но быстро овладела собой и стала рассказывать:
– Было это весной прошлого года. На первом корабле из Эллады прибыл к нам Пандион, сын жителя Мегары Кекропа и афинянки Метионы. Целью его было поклониться тем местам, где прошло чудесное детство его отца, а также поговорить с моим отцом от имени мегарского царя Пиласа о возможности совместной добычи золота на Пангее. Мы, фракийцы, не умеем это делать, а они, эллины, умеют очень хорошо. Эта мысль понравилась моему отцу, и он радушно принял гостя в своем дворце. Там я его увидела… и полюбила. Я стала часто ходить в лесистое ущелье Пангея, где у нас было условленное место встречи. Так прошла весна, счастливейшая весна моей жизни. А в конце весны он уехал, и мне пришлось рассказать родителям о том, что произошло. Мать с сочувствием отнеслась к моей любви, только грустно ей стало, что не справит она мне свадьбы с каким-нибудь фракийским царевичем; но отец, желая хоть на ком-то выместить гнев, приказал сбросить в баратрон местную девушку, которую подозревал в том, что она помогла Пандиону, наслав на меня любовные чары. Но это совсем не так. Правда, она часто крутилась около Пандиона, но заботилась при этом о себе, хотя, как мне казалось, без всякого повода с его стороны.
– Казалось?
– Откуда мне знать? Решай сам. В любом случае ее чары мне были без надобности, хватило собственных. Вскоре после этого мой отец умер, до последнего дня даря меня своей любовью. Той же зимой родилась она; я ей дала имя, которое он наказал дать ей в память о счастливой поре нашей жизни: «Дочь Весны», Эрина.
Аглаодор нетерпеливо подвинул табурет.
– Объясни мне вот что, царевна. Значит, он тебя обманул и бросил, а ты сохранила о нем добрую память и назвала свою дочку, по его, как говоришь, наущению?
– А как же иначе? Ведь это его дитя, которое я ему родила. Обмана тут вовсе не было: я знала, что эллинские законы не признают брака между эллином и дочерью варваров; знала, что он зять царя Мегары, и никогда не ревновала его к жене. И вообще неизвестно, кто из нас больше мечтал о ребенке, он или я; прощаясь с ним, я была счастлива, что теряю его не полностью. Об одном только жалела: мечтала больше о «Сыне Весны». Но и это уже прошло.
Она любовно посмотрела на ребенка. Аглаодор же недовольно покачал головой.
– Весной Пандион приехал снова. Он не знал о смерти моего отца; в связи с изменившимися обстоятельствами, он был вынужден вместе со своим оруженосцем остановиться у известной местной вдовы, почтенной Суракты. Пробыл он у нас недолго. Мать моя, приняв его со всей любезностью, сообщила ему, что собирается править своим народом согласно обычаям предков и что добычу золота на Пангее следует отложить до той поры, когда трон Девяти Путей займет мужчина. Пандион должен был еще третьего дня уехать, но тут произошло нечто… удивительное.
Голос Филлиды задрожал.
– У Суракты есть молодая дочь, которая вскоре после приезда Пандиона безумно влюбилась в его оруженосца. Не добившись взаимности – по причине весьма существенной, как сам увидишь, – она обратилась за помощью к известной колдунье, матери той девушки, которую мой отец приказал сбросить в баратрон; и та дала ей такое сильное средство, что оруженосец тяжело заболел. Дело открылось, мать моя, следуя нашим законам, сурово наказала колдунью, но лишь через десять дней оруженосцу стало легче настолько, что он смог уехать. А после их с Пандионом отъезда выяснилось кое-что еще…
Она вскочила с места и стала быстро ходить по комнате. Аглаодор не спускал с нее глаз, полных сочувствия и беспокойства. Наконец она разразилась зловещим смехом:
– Оруженосец оказался оруженосицей!
Аглаодор тоже вскочил с места.
– Да, – подтвердила Филлида. – Знала об этом только Суракта, которая выхаживала больную; как подруга моей няни, она рассказала об этом ей, а та передала мне. Тут, уж сама не знаю, что со мной случилось, я будто утратила собственную волю, словно Аластор все время был рядом, приказывая мне, что делать. Суракта научила меня отворотным чарам, но табличку я составила сама, или же составил ее сам Аластор, а я только записала. А написала я вот что…
Она пересказала Аглаодору содержание таблички; при последнем заклятии он содрогнулся.
– И он, этот Аластор, приказал отнести ее в часовню Персефоны, что в баратроне, и повел меня туда; свою волю я потеряла. Вернуть ее я даже не мечтала, но хотела заменить хозяина – Аластора на Диониса. Моя подруга жрица одобрила мой замысел, мы вместе пошли на Пангей во время празднования триетериды. И вот наступил день чудес. С тирсами и в небридах мы обе поспешили туда, все с почетом уступали нам дорогу, приветствуя могучих вакханок, служительниц Диониса. Забежали в мою комнату. Ианта, так зовут мою подругу, схватила Эрину, посадила себе на плечи, и мы помчались в горы, в горы! Девочка держалась крепко, с восторгом подставляла ветру свое маленькое тельце, смеялась и хлопала в ладоши. Мы добежали до пустой пастушьей избушки; никто нас не преследовал, кроме разных птичьих стаек, они вслед за нами влетели в избу. Ианта положила девочку на пол и начала горячо молиться, склонясь над ней, а соловей своей песней вторил молитве. Было это несказанно чудесно; верилось, что такую молитву никто не мог бы отвергнуть. И действительно, избушку залило розовым светом, отворилась дверь, и вошла женщина великанского роста, вся в розах; подойдя к моей девочке, она обняла ее и поцеловала. И девочка в ответ улыбнулась той чудной улыбкой, которую ты и теперь видишь на ее сонных устах. Посмотрела и на нас ласково. «Радуйся, Афродита!» – крикнула Ианта и снова стала молиться. Афродита скрылась, унося за собой розовое облако. Ианта продолжала молиться, соловушка расщелкался еще сильнее, восторг усиливался с каждой минутой. И вдруг избушку осветила золотая заря, двери отворились снова, и вошла Паллада, подняла девочку и поцеловала ее. Эрина же впервые посмотрела на нас тем глубоким взглядом небесных очей, который с того момента ее не покидал. Потом она бережно положила ребенка, попрощалась с нами кивком головы и исчезла. Ианта встала. «Радуйся, Филлида, – сказала мне, – дочка твоя будет расти с благословением двух богинь». Я хотела уже взять ее на руки, но тут…









































