Текст книги "Иресиона. Аттические сказки"
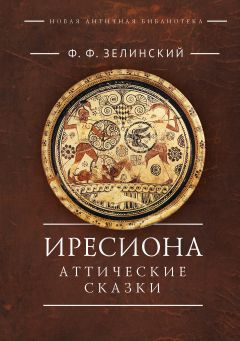
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Солнце как раз заходило; вероятно, прибывшие собирались провести ночь на суше. Укрывшись за скалой, Менодор наблюдал за происходящим. Судно приближалось, уже можно было различить богиню на его носу – то была Афродита.
Палуба зароилась от красных фригийских колпаков; искали место, пригодное для высадки. Без труда нашли подходящее между двумя рядами скал.
Спустили сходни. Красные колпаки потекли на берег. Что им здесь нужно? Прибывшие не были похожи на пиратов, Менодор беспокоился о своих овцах и козах; пришельцев так много, а он совсем один. Но что это? На берегу, между соснами, они поставили шатер. На сходнях мелькнули женские хитоны, притом не фригийского, а эллинского покроя. Но лиц не было видно.
На берегу они смешались с толпой и скрылись в шатре. Вот и солнце зашло. Сгустились сумерки. Что же будет дальше? Похоже, что… нет, ничего: расположились на ночлег; мужчины на поляне, женщины в шатре.
Нет, одна из женщин вышла из шатра; не видя Менодора, приблизилась к нему. Старушка. Одета прилично, но без излишеств. С горделивой осанкой. Оглянулась на шатер, будто желая убедиться, что за ней не следят. Что за дела! Она вдруг повалилась на землю и стала ее страстно целовать.
Может быть, позвать ее? Да как бы беды не накликать. Но любопытство победило:
– Матушка!
Старушка поднялась на ноги.
– Кто там?
– Не бойся, матушка. Я здешний пастух. Подойди сюда, никто тебя не увидит.
Старушка пошла на зов; увидев Менодора, с пылкостью бросилась к нему, положила руки ему на плечи и поцеловала в лоб.
– О сладкие звуки аттической речи! Как долго, как долго мне вас не хватало!
– Матушка, если эти плуты в красных колпаках тебя похитили, знай, что ты спасена. На том берегу стоит моя лодка. Я незаметно приведу ее сюда, а потом перевезу тебя в наш хутор на Панорме. Оттуда тебе легко будет добраться до Форика и до Афин или до какого захочешь аттического города.
Но старушка, похоже, упивалась лишь самими звуками его речи.
– Панорм, Форик, Афины. О, знакомые имена, знакомые города! Говори еще, сынок; твои слова для меня слаще соловьиной песни.
– Так поспешим, матушка. Пойдем.
– Бежать? Нет, сынок, от нее убежать невозможно. Меня похитили, это правда, но это все равно; от нее я бы не убежала.
– От кого?
– От нее. Но ее имени я тебе не назову. Возможно, ты его уже слышал – само ее имя покоряет. Вся она – плен!
– Матушка, так что я могу для тебя сделать?
– Для меня? Ничего… Хотя да, послушай. Ты сказал, что у тебя есть лодка? Не теряя ни минуты, садись в нее и переправляйся на другую сторону. Стада твои никто не тронет, мы не пираты. Завтра утром уплывем – тогда можешь возвращаться. А до тех пор пусть тебя от них отделяет этот пролив. Не дай боже, чтобы ты ее увидел! Даже быть поблизости от нее опасно, весь воздух пропитан ее благоуханием.
В этот момент послышался голос:
– Этра!
Юноша вздрогнул.
– Этра? У нас в Аттике этим именем называют только…
Старушка невольно выпрямилась, услышав свое имя, Менодора ослепила величественность ее взгляда, осанки, всего ее существа.
– Так ты Этра? Покрытая славой мать величайшего из наших царей, несчастного Тесея?
– Да, юноша, с тобой говорит твоя царица. И ты не откажешь мне в повиновении, не правда ли? И, не теряя ни минуты, пойдешь к своей лодке!
– Этра! – вторично донесся голос от шатра.
Юноша снова вздрогнул, но на этот раз не от прозвучавшего имени, а от голоса, который его произнес. Такого голоса он никогда еще не слышал. Этра заметила его волнение. Она взяла его за руку.
– Сын мой, если ты глух к моим словам, заклинаю тебя именем той, которая дороже тебе всех на свете. Ибо твоя мать, жива она или нет, скажет тебе то же, что и я; не задерживайся тут ни минуты, садись в свою лодку и отправляйся домой!
Менодор, глубоко потрясенный, поднял глаза к небу: «Ах, если бы ты могла дать мне совет!» Но Селена как назло скрылась за густой тучей.
– Вот что я тебе скажу, матушка царица: пускай судьба рассудит. Если Селена сейчас выплывет из той тучи, я тебя послушаюсь.
– Надеешься на чудо? Большой грех – искушать божество!
Но что это? В мгновение ока густая туча раздвинулась, и между двумя черными грядами показался неполный, но ясный образ Селены. Юноша склонил голову.
– Слава богине – ты спасен! Прощай, сын мой, для тебя я царица, но там – пленница и рабыня. А моя хозяйка ждать не любит.
Она взяла его за голову и ласково поцеловала, а потом скрылась среди сосен. Юноша с грустным чувством стал спускаться к берегу.
– Этра! – успел он услышать в третий раз, – где ты? Свадебный пир начинается, ждем только тебя.
Юноша остановился.
– Не могу! – вскрикнул он в отчаянии. – Не могу! Царица права – она вся плен! Так пусть же исполнится моя судьба!
Он вышел на поляну, с которой был виден шатер. Хорошо рассмотреть его он не мог, обе черные гряды сошлись снова, и Селена, также замкнувшись в своем шатре, уже его не покидала.
Так прошла эта ночь.
VII
Грустно скрылась Селена за серой Макридой, яркое и величавое солнце триумфально поднялось с синего ложа Архипелага. Завесы шатра распахнулись, и из-за них показалась…
На самом деле их было две, но Менодор видел только одну. Позднее, в разговоре с отцом, он напрасно пытался ее описать, и не только потому, что в богатом аттическом наречии не было подходящих слов… просто он не мог сделать ее образ достаточно выразительным. Удивительное дело! Он не отводил от нее взора, но так и не мог потом сказать, какого цвета ее глаза. Она не относилась к тем, чей облик сохраняла зрительная память: помнить значит владеть, но о том, чтобы кто-то завладел такой красотой, не могло быть и речи.
Она покоряла не только совершенством своей красоты: взгляд, улыбка, каждый шаг, каждое движение – покоряло всё, но в то же время между ней и остальным миром существовал непреодолимый рубеж. Да, права была царица, когда произнесла свои странные слова: «Вся она – плен!»
Он появился перед ней неожиданно.
– Смотри-ка, Климена, – сказала она своей подруге, – а мы думали, что этот остров необитаем. Кто ты, прелестный пастушок?
Менодор назвал свое имя.
– Сын Эвфориона, афинянин из Форика, – повторила царица. – Этра рассказывала мне о твоем отце, песни его известны всей Аттике. А тебе, Менодор, никогда еще не улыбалась Муза?
Юноша покраснел.
– Вижу, что такое было, – засмеялась пришелица. – Всякая любовь выдает себя румянцем. Вот ты и выдал себя, мой прекрасный, и теперь, волей-неволей, должен предъявить нам свой дар. Итак, возьми свою формингу, я уверена, она у тебя недалеко, и пусть эллинская земля споет нам твоими устами прощальную песнь.
Никогда еще расстояние между берегом и пастбищем не казалось Менодору таким бесконечным, и никогда еще не преодолевал он его так быстро.
– О чем прикажешь спеть, царица?
– Пусть тебе подскажет сама богиня.
После краткого вступления запел ей Менодор свою последнюю песнь о том, как изгнанник Пелей в Фессалии на мысе Сепиаде ждал обещанную ему невесту, морскую царевну Фетиду. Столько тоски и нежности вложил он в слова и мелодию, что глаза его слушательницы увлажнились.
– Да, Климена, – сказала она вполголоса, – это именно то совершенство, которого я никогда не могла добиться; ни прежде, ни теперь.
Но Климена покачала головой.
– А не мог бы ты, юноша, спеть нам о чем-нибудь другом?
– О чем же?
– О том, как дочь Зевса Елена росла во дворце Тиндара и как молодежь со всей Эллады добивалась ее руки.
Менодор посмотрел на царицу. Она как будто смутилась, но возражать не стала.
Он настроил формингу на торжественный лад и начал воспевать свою сказочную заморскую царевну. Царица долго молчала, наконец подняла голову.
– Ты весьма щедр, пастушок, и не следует царице позволить превзойти себя в щедрости. Подойди поближе.
Она отцепила от своей накидки одну из множества пряжек. Хитон Менодора не имел рукавов и был закреплен только на левом плече, царица подняла свисающие с правого плеча концы и скрепила их пряжкой. Когда ее руки коснулись его плеча, юноша вздрогнул.
– Ты направляешься в Трою, царица? – осмелился он спросить.
– Да, в Трою, – ответила она с улыбкой. – Хочу навестить могучего царя Приама и увидеть фригийские чудеса. А ты, Менодор, – ласково спросила она, – неужели никогда не хотел побывать за морем?
– Еще как хотел! – пылко ответил юноша. – Вон те острова неудержимо влекут меня к себе: Андрос, Тенос, Кеос – и все, что за ними. Я всегда мечтал, что на одном из них найду свою сказочную царевну. Но теперь («Боги, – подумал: – Я теряю голову!»). Но теперь вижу, что должен был бы плыть до самой Трои.
Царица весело рассмеялась.
– Так присоединяйся к нам! У царя Приама, – игриво добавила она, – много прекрасных дочерей.
– Царица! Ты шутишь?
– Я? Ничуть! Мы как раз готовимся отчалить. Хочешь отправиться со мной в Трою?
– С тобой? Хоть за предел Понта! До Красного моря и терема Зари! На край света!
Тут в разговор вмешался чужой голос:
– Елена, все готово. Шатер собран, сходни спущены. Помолись Земле – и в путь.
Глаза Менодора застлал туман. Елена, спартанская царица! Елена, дочь Леды, жена Менелая! Но кто же та фригийская кукла с гладким женоподобным лицом?
– Царица, кто говорит с тобой?
– Кто? Мой муж, царевич Парис. Взгляни, друг мой, кто будет нашим новым попутчиком… Менодор, ты сошел с ума?..
Но юноша уже не слышал ее. Только теперь до него дошел смысл ее вчерашних слов, над которыми он думал всю ночь: «Свадебный пир начинается».
В мгновение ока всё в его голове стало на свои места. Вне себя от ярости он, безоружный, бросился на фригийца. Он готов был задушить его, но тот вынул меч и взмахнул им, однако в следующий миг меч сверкнул уже в руке Менодора.
– Менодор! Остановись, слышишь! Я приказываю тебе. Отдай мне меч!
Юноша отступил и послушно исполнил ее волю. Ярость его исчезла без следа; под его умоляющим взглядом и Елена усмирила свой гнев.
– Ты какой-то шальной, Менодор! Ехать с нами теперь ты, ясное дело, не можешь, но, – добавила она громко, искоса взглянув на Париса, – я буду рада увидеть тебя там.
Гордым движением руки она подала Парису его меч:
– Пойдем!
Менодор провожал ее взглядом как в полусне. Вот она вступила на сходни… Обернется? Нет, скрылась среди красных колпаков. Вот отвязали канат, стал слышен мерный плеск вёсел… Вот подняли мачту, распустили паруса… Корабль поплыл к Андросу, вдоль Андроса, за Андрос… Исчез.
Тогда только юноша пришел в себя. Он не вернулся уже на пастбище, ему захотелось излить свою тоску на груди отца, так жестоко им обиженного, во всем ему сознаться, вымолить его прощение.
Он сел в лодку и через час был уже на панормском хуторе. Но Эвфорион удивил его своей сдержанностью. Слушал его вроде бы без особого интереса и проявил внимание лишь тогда, когда Менодор рассказывал о знаке, поданном Селеной.
– Что же ты, отец? Я тебе рассказываю о самом главном событии в моей жизни, а ты молчишь!
Эвфорион подал ему раскрытый свиток:
– Читай.
Юноша прочитал:
«Эвфориона приветствует Аглаодор. Я умираю. Если сможешь, приезжай с сыном. Я лежу в Бесе Лаврийской у рудокопа Акаста. Да благословит Орфей тебя и твой дом».
VIII
Акает, ученик пророка Орфея, не был знаком с Эвфорионом, но принял его с сыном как родных. Привел их в комнату, где лежал умирающий. Глаза его были закрыты, но он еще дышал, старческая грудь мерно вздымалась.
– Он возвращался к себе, – шепотом рассказывал Акает, – с новыми оракулами из Дельф, – но задержался из-за повреждения судна, которое должно было доставить его в Форик. Оно застряло под Анафлистом в ожидании ремонта. Аглаодор хотел ехать дальше на муле, но силы его покинули, и он слег у нас.
– С оракулами? – тоже шепотом спросил Эвфорион. – Не знаешь – с какими?
– Знаю только, что они касались Елены и что он хотел тебя предупредить, чтобы ты ни в коем случае не выпускал Менодора из дому до ближайшего новолуния.
Эвфорион вздрогнул и посмотрел на сына. И только теперь увидел на его лбу то, чего раньше, поглощенный мыслями об Аглаодоре, не заметил, – новую печать, печать Персефоны.
Вкратце он рассказал своему хозяину о его встрече на «острове Елены», как с тех пор стали называть негостеприимную Макриду. Тот покачал головой.
– Не первый раз становится она гостьей нашей аттической земли. Я имел неосторожность рассказать о ней покойному другу Тесея, и что же?.. Тесей похитил ее, когда она была еще девочкой, с ее спартанской родины и поселил у Афидна, под надзором своей матери Этры. Но его замысел со временем взять ее в жены не удался. Воспользовавшись его отсутствием, явились братья Елены и увезли ее обратно. Афидна убили, а старая царица стала пленницей своей пленницы.
Эвфорион удивленно взглянул на Акаста.
– Так ты говоришь – видел ее?
– Да. Но давно, когда был еще в возрасте твоего сына, даже еще младше… Не думай, пожалуйста, что я брежу; я видел не ее как таковую, телесную, но ее образ, грезу о ней Матери-Земли. Подробности в другой раз. И я знаю, как возникла ее красота: если бы не успокаивающее прикосновение Матери, я бы не выдержал.
– Греза Земли? Какая и о чем?
– Это мне тоже неизвестно. И тогда не понимал, и сейчас не понимаю вещих ее слов, но помню их отчетливо: «Тяжело мне… – вздохнула она. – Давят… О Царь Олимпийский, о Дева Рамнунтская, помогите!»
В этот момент Аглаодор вдруг открыл глаза – засияли они пророческим блеском. Он поднялся, неземное видение придало ему сил.
– И воспринял ее святую волю Царь Олимпийский. Он оставил свой заоблачный трон и на туче опустился на горный хребет, отделяющий Рамнунт от моря. Там на мысе сидела Немезида. Зевс передал ей волю Земли. Но она покачала головой.
«Мне понятны ее слова, – сказала Немезида, – но ведь мы с ней одной крови. Она требует, чтобы мы воплотили ее грезу о страшной, поразительной красоте. И чтобы из-за нее случилось неслыханное злодейство, из которого произросла бы неслыханная война. И когда ляжет в могилы могучая когорта героев, тогда облегчится бремя Матери-Земли. Но я дрожу при мысли об этой ужасной братоубийственной резне, а кроме того ненавистна строгой деве сама мысль о том, что она станет орудием воплощения. Упроси, Олимпиец, свою святую Мать, чтобы она увеличила меру своего терпения».
И Зевс исполнил просьбу Девы. Но через десять лет жалоба Матери повторилась снова, и снова получил он тот же ответ от Девы. Но когда еще десять лет миновало, подземным грохотом прогремел голос мученицы: «Тело мое стиснуто и изнурено от их множества, душа моя измучена их преступлениями. Царь Олимпийский и Дева Рамнунтская, последний раз я обращаюсь к вам!» И в третий раз отправился Зевс к Немезиде, и теперь она склонила голову в знак согласия.
«Пути Афродиты недоступны для моей нерушимой девственности, – сказала она, – но воля Земли – это судьба, ей покоряюсь. Однако я не могу отдать тебе свой божественный образ; следуй за мной, Олимпиец, по стезе моего смирения».
Она обратилась белоснежной лебедицей и, широко расправив крылья, полетела к далекому саду Гесперид. Зевс обратился лебедем и полетел следом за ней. Прошли месяцы, и чудесное лебединое яйцо украсило комнату спартанской царской четы, Тиндара и Леды. И еще прошли месяцы, пока из яйца не вылупился чудесный младенец. Это была Елена, дочь Немезиды.
Тут пророческая сила покинула Аглаодора; он упал в беспамятстве на свою подушку и закрыл глаза. Все подумали, что он испустил дух, но нет, искра жизни еще тлела в его слабеющем теле. И снова он открыл глаза, обвел всех своим обычным добрым взглядом и узнал Эвфориона.
– И ты тут, друг мой? Спасибо, что пришел попрощаться со мной. А это, значит, твой сын Менодор… Несчастный юноша, я вижу по клейму Персефоны, что мое предупреждение опоздало. Пойдешь и ты за смертоносной красотой, нет для тебя спасения. Прощайте, друзья мои, я чувствую, что уже скоро душа моя растворится в великой сущности Диониса для вечного всеобщего почитания.
– Куда дай боже и нам пойти за тобой освобожденными из круга мучений, – благочестиво добавил Эвфорион.
Глаза Аглаодора засветились снова.
– Нет, Эвфорион. Посвящая тебя, я раскрыл тебе не всю правду, ибо тогда ты не был еще… Ее избранником. Не всем доступно блаженство растворения в бытии. И та, что многих обрекла на смерть, сама не узнает смерти: она не подвластна всеобщей участи. Ее образ, греза грез, не может быть уничтожен. Я побывал в Дельфах и многое там узнал: бог почтил меня личным общением. Пути Диониса не для всех; тебе, Эвфорион, сужден путь Аполлона. Вы, друзья, попрощайтесь со мной. Для тебя же, Эвфорион, у меня имеется весть…
Шепотом он добавил: «От Нее».
Акает и Менодор пали на колени перед пророком. Он вознес руки над каждым из них:
– Да благословят вас боги.
После этого они вышли, оставив его наедине с Эвфорионом.
– Шестьдесят лет я прожил, – сказал Акает Менодору, – но подобной смерти не видел. Нельзя хоронить его за стеной, на проезжей дороге; его могила должна находиться на площади Бесы, перед демархией. Завтра же я пошлю в Дельфы старшего сына. И плача быть не должно.
В светлицу вошла женщина средних лет, цветущая и приветливая; с ней юноша в возрасте Менодора.
– Добро пожаловать, Мелиноя, – сказал Акает, – это Менодор, мой молодой гость. Поприветствуй его и ты, Харилай.
– Это твой старший сын? – спросил Менодор, пожимая протянутую руку эфеба.
– Нет, это самый младший. Старшие все в рудниках.
Беседа шла вполголоса, никто не забывал о том, что происходило в соседней комнате.
Вскоре к ним вышел Эвфорион; Акает посмотрел на него вопросительно; Эвфорион молча кивнул головой.
– Слава герою Аглаодору, – провозгласил Акает; все повторили его слова. Никто не проронил ни слезинки, лица всех выражали серьезность, торжественность, благоговение.
IX
Новая весна уже подходила к концу. Послеполуденное солнце опаляло жаром зеленый Сунийский мыс и скопившуюся на нем многотысячную толпу обитателей и обитательниц Аттики. Сунийский мыс, крайний ее выступ между Саронским заливом и Архипелагом, был для афинян местом расставаний и встреч, приветствий и прощаний, как поведал о том позднейший поэт:
О! Еще хотя бы раз
Суния предел увидеть,
Где на пену синих волн
Темный смотрит с мыса лес,
Чтобы наш послать привет
Вам, святые Афины!
Тогда не знали еще этих стихов – не знали также и той мраморной статуи Посейдона, белые колонны которого и сейчас встречают и провожают странника, наполняя его сердце благоговением и тоской.
Посреди Акрополя возносился на широкой площади над обрывом одинокий алтарь. На нем приносили жертвы Посейдону в его всенародный праздник.
Эвфорион и Низа сидели вдали от толпы. Мало кто приветствовал панормского хозяина, когда он шел через Акрополь; и сейчас никто к нему не приближался.
– А много их будет? – спросила Низа после долгого молчания.
– Много, Низа. Пятьдесят кораблей; считая не меньше ста двадцати на каждом, получается около шести тысяч молодых людей. И это будущие кровавые жертвы одной только нашей маленькой Аттики. А сколько же их будет со всей Эллады? А сколько из варварских стран? Да, исполняется воля Зевса: Мать сыра Земля вздохнет свободнее.
– Но ведь не все погибнут. Оракулы предвещают победный конец похода.
– А возвращение? Еще неизвестно, кого больше сгинет – побежденных или победителей.
– Но почему их так много? Ведь Ареопаг, говорят, не согласился на всеобщий воинский набор.
– И Ареопаг не согласился, и народ не позволил, но что они могли сделать? Отцы были против, а сыновья пошли. Помнишь, как перед нашим домом звучал сигнал тирренской трубы?
Низа залилась слезами.
– Пока жива, не забуду. Ох, эта жуткая труба! Все вышли из дому. «Слушай, народ! – А народу было всего лишь нас четверо да вас двое. – Кто добровольно пойдет с царем Менесфеем на войну против клятвопреступной и ненавистной богам Трои, тому царь обещает богатые трофеи». И этот сразу крикнул: «Я иду! Прости, отец, прости, няня. Трофеи для царя, а для меня – она!» О безумец, безумец!
– Да, безумец, – подтвердил Эвфорион.
– Говорил, что она любит его, а мужа презирает, что она и есть та самая заморская царевна, которая тоскует по нем.
– А старушка Софрона только головой качала, повторяя свое: «Куда-то, куда-то, в это вечное, мучительное куда-то».
– Но почему, – спросила она, стряхнув слезы, – царю было отказано во всеобщем призыве?
– Да он и не особенно настаивал; все образовалось пристойно и полюбовно. «Я был одним из претендентов на руку Елены, – объяснил царь, – и мы все, молодые цари и царевичи Эллады, поклялись друг другу, что поможем ее избраннику против каждого, кто захотел бы отобрать у него жену. Поэтому я должен идти». Ареопаг на это ответил: «Твоя личная клятва связывает только тебя, афинский народ не считает троянцев врагами. Кто захочет, пусть идет с тобой, заставлять никого нельзя».
Настала минута молчания.
– И пошли, – снова заговорил Эвфорион. – Пошли на неминуемую гибель, цвет нашей страны!
– Смотри, смотри! – крикнула вдруг Низа.
Будто яркая звезда вспыхнула над гористым островом, стерегущим Саронский залив.
– Это царский корабль, – пояснил Эвфорион. – Смотри, как блестит на его носу золотая Паллада. А вот и остальные выплывают один за другим. Гляди, сколько их!
– А на каком может быть Менодор?
– На царском. Ты ведь знаешь, что Акает подарил ему и своему Харилаю одинаковые покрытые серебром доспехи и колесницу; сражаться они будут в первых рядах, среди царских соратников.
Дул попутный ветер. Корабли с полными парусами плавной дугой огибали Сунийский мыс. Рулевые, видя толпу провожающих, как бы демонстрировали свое искусство, стараясь все как один избежать дурных примет. Особенно выделялся рулевой царского корабля, лучший мореход Аттики: он прошел почти вплотную с отвесной стеной Суния.
С Акрополя послышались крики:
– Счастливо царю Менесфею!
– Вернись с победой!
– Вернись со славой!
– Да хранит вас Паллада!
Эвфорион и Низа искали глазами своего любимца. Наконец Низа его заметила.
– Смотри – они стоят вместе, у самой мачты, возвышаясь над другими. О, как они прекрасны! Истинные Диоскуры! В хитонах и хламидах… Свою, я уверена, скрепил пряжкой своей царевны!
– Прощай, отец! Прощай, няня! Привет всем…
Шум прибоя заглушил последние слова. Миновав Суний, корабль двинулся дальше, к южной оконечности острова Елены, и скрылся за нею. Потом второй и третий… все пятьдесят, один за другим, скрылись за этой зловещей кромкой. И снова море стало бескрайней пустыней, облитой пурпуром заходящего солнца.
Опустел и Акрополь; провожающие покидали его в спешке, чтобы успеть засветло вернуться кто в Анафлист, кто в Форик, а большинство в богатую Бесу с ее обилием постоялых дворов.
– А мы? – спросила Низа.
Эвфорион вздрогнул, как бы пробудившись ото сна.
– Да, Низа, ты права. Мы должны попрощаться.
Низа всплеснула руками.
– Попрощаться? Мы? Мы? Я с тобой?..
– Да, дочка, попрощаемся здесь. На хутор вернешься сама… Слушай внимательно, не перебивай меня, это моя последняя непререкаемая воля. Ты знаешь, что вы были для меня скорее товарищами, чем рабами, работал я не меньше любого из вас и позволял вам намного больше развлечений, чем себе. Я не хотел бы, чтобы вами, когда меня не будет, владел чужой человек. В стопе моих дощечек найдете одну, кедровую. Это мое завещание. Всем вам я дарю свободу. Ты сможешь выйти замуж за Ксантия… Не возражай, верная моя, я все знаю, но все изменится, когда меня не станет, он же человек добрый. Хутором будете владеть вы двое, с обязательством обеспечить пожизненно чету стариков. Ты еще молода, запомни: не оставляй без наследников панормский хутор, чтобы не угасла среди людей память об Эвфорионе и сыне Селены.
– Мой господин… А ты?..
– Мне приказано остаться здесь.
– Кто приказал?.. Она?
Эвфорион кивнул.
Она молча поцеловала ему руку и скрылась за выступом Сунийской скалы.
Через минуту скрылось и солнце в лабиринте Лаврийских гор. Эвфорион все сидел над обрывом, не спуская глаз с острова Елены. Наконец, хребет острова залоснился призрачным светом и белая царица ночи торжественно вознеслась над ним.
X
Она сошла со светозарной колесницы, нежная, как в ту ночь, первую и единственную, на тот самый выступ Сунийской скалы.
Тогда черные кудри венчали его юное чело, теперь же серебристые ее лучи грустно играли серебром его волос, и без радости встречал он ту, которая выбрала его среди всех.
Он указал рукой на зловещий остров:
– Ты видела?
– Да, видела.
– Он не вернется.
– Знаю.
– Великие боги! Вот так итог! Значит, на это возлагал я в течение двадцати лет свою надежду, единственную в моей жизни! Ради этого ты, божественная, снизошла к ласке смертного! Ради этого десять месяцев избегала божьих путей и взяла на себя всю меру терпения смертной женщины! А ведь мы верим, что бессмертные боги не знают бесполезных зачатий.
– И правильно верите, мой дорогой.
Она села рядом с ним и положила его голову себе на колени; его окутало облако неземного благоухания.
– Фессалийские колдуньи, – сказала она с усмешкой, – пусть к множеству ваших подлинных грехов добавится еще один вымышленный: пусть люди думают, что это ваши заклятья сбили меня с моего небесного пути. А ты, мой любимый, выслушай меня. Пойми, я не могла его спасти. Нет воли выше чар дочери Немезиды, нет силы более могучей, чем греза Матери-Земли. Он не услышал бы меня, как не услышал бы и самого Зевса. Однако тебе не следует думать, что наш союз остался бесплодным. Скажи, Эвфорион, ты помнишь, за что тебе выпала доля, неслыханная среди смертных?
– Помню, богиня. За мою тоску и за мою песнь.
– Да, Эвфорион. Они во мне – твоя творческая тоска, твоя песнь о том, чего было и чего уже нет. Я ведь служу единственным видимым источником сказки в этом мире; все ваши вздохи, все ваши сны я вплетаю в свои бледные лучи. О, дорогой мой, ты еще не знаешь: приближается конец моего царства. Когда вернутся единицы из тех тысяч, что покинули сегодня Афины, сказка вовсе исчезнет из жизни людей, Эллада переродится, наступит новая, трезвая эпоха.
– Да, – с горечью подтвердил Эвфорион и добавил: – Покроется забвением всё, чем мы жили, над чем работали. Паутина обовьет струны моей скромной форминги, в прах обратятся дощечки с моими вещими преданиями. Пройдут годы, и никто уже не будет помнить, как боролся и страдал Геракл, как любила и мстила Медея. Всё канет в пропасть!
– Нет, дорогой. Этого не будет никогда. Царство Сказки кончится, как я сказала, но тоска по сказке конца иметь не будет. И еще сильнее станет у людей желание хотя бы в мечтах пережить то, чего не дано им в действительности. Возродятся наши сказки и песни не только в обновленной Элладе, но и через много веков в обновленном человечестве. И заметь: не ради одного только очарования воспоминаний, не ради одного только утоления тоски по фантазии. Меня, царицу сказки, любит и Паллада: она знает, что я ей необходима.
И не говори, любимый, что ты напрасно жил и работал: ненадолго умолкнет твоя форминга, оживут сохраненные в твоих строках образы прошлого. Расцветет хутор на Панорме, будут стремиться в него люди со всей Аттики, чтобы услышать из певчих уст Эвфориона Младшего и Менодора Младшего вещие слова того, кто, сам того не ведая, был учителем их матери. Эту награду, друг, ты заслужил своей добротой. Но знай и вот что… и уверена, что это поражение тебя только порадует: как меркнут алмазы звезд в моих победных лучах, так же твою песнь затмит иная, которая скоро зазвучит под стенами Трои. Сказка, прежде чем окончательно закончиться, в последний раз заиграет самыми яркими красками. Поверь мне, любимый: те воины должны перенести безмерные страдания, чтобы жила песнь среди людей. Поэма об Илионе станет царицей всех песней мира, а споет ее первым, находясь среди воинов, сын Эвфориона и Селены… Долго будут передавать ее из поколения в поколение певцы, потом ее запишут, и пока будет существовать наш мир, будет жить и она, переведенная на множество языков как драгоценнейшее создание человечества, как завет древних веков и надежда будущего. Ты плачешь, друг?
– Да, любимая богиня, плачу. Прости, ах, прости мне мои сомнения. И будь благословенна за всё: и за твои волшебные ласки, которые переполняли меня счастьем в молодые годы; и за то, что ты сейчас не забыла о старике и позвала его на то самое место, где впервые богиня одарила его своей любовью. Я готовился умереть в отчаянии, но теперь умру счастливым.
– Нет, Эвфорион, ты не умрешь: избранники богов не умирают. Я возьму тебя на свою колесницу, увезу в блаженный край гиперборейцев, где вечная весна, вечные пляски и вечные песни. Туда же я доставлю и нашего Менодора, когда он падет в бою под стенами Трои, в последний раз увидев улыбку дочери Немезиды на башне Скейских ворот. Идем.
И крылатая колесница, покинув вершину Сунийской скалы, вознеслась над синей бескрайностью дремлющего моря в синюю бескрайность недвижного эфира.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































