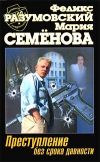Текст книги "Магия успеха"

Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Как ты там? – Толя то и дело включал фонарь, подсвечивая Вике путь, с нежностью смотрел на ее хрупкие плечи, обтянутые нелепым комбинезоном, на тонкую, легко угадываемую под грубым материалом талию, хрипел от злости, с яростью сжимая кулаки – такую девушку в канализации полощут, сволочи!
Тем временем идти стало труднее: бетонная труба закончилась, поток свернул в естественную расщелину, – пришлось сначала опуститься не четвереньки, затем ползти, стараясь не хлебать омерзительную, зловонную жижу.
– Все, я больше не могу. – Женя вдруг поперхнулась и, задыхаясь от слез и рвотных спазмов, зарыдала, размазывая по лицу фашистские нечистоты. – Лучше пристрелите!
Истерики только не хватало!
– Ты, майн либхен, волну-то не гони. – Голос Тормоза был суров и ничего хорошего не предвещал. – Твоя задница в этой канаве как затычка, тебя-то пристрелим, а как остальные пройдут? И вообще, тихо там на полубаке, вижу свет.
Рыдания потихоньку смолкли, движение возобновилось, и скоро Женя ткнулась головой Прохорову в зад:
– Чего, пришли что ли?
– Пришли, стопори машину. – Серега изучал решетку, закрывавшую выход из расщелины. Она была склепана из толстого восьмигранного прутка, однако поток времени и дерьма сделали свое дело: металл был изъеден глубокими язвами коррозии.
– Стена, да трухлявая. – Прохоров ухватился за проржавевшие прутья, пошатал, ухмыльнулся. – Ткни пальцем, и развалится. Жека, держи фонарь., Э-эх, ухнем!
Перевернувшись на спину, он с головой погрузился в жижу и что есть сил пнул ногами решетку.
Всплыл, перевел дыхание и снова вдарил – так раз десять, пока не поддались заклепки и не лопнули прогнившие прутья.
– Окно в Европу прорублено, прошу, дамы и господа. – Прохоров выдавил решетку наружу и, ободрав в кровь ладони и плечи, просочился в небольшую пещерку. Фекальная река пересекала ее по диагонали и с шумом исчезала в углу, видимо низвергаясь в колодец, рядом была железная дверь, сквозь дырки в напрочь проржавевшем металле струился свет осеннего дня.
– Быстро, быстро. – Прохоров выбрался на сухое место, помог Вике с Женей, протягивая руку Громову, хмыкнул: – Ну ты и красавчик.
Его переполняло бешеное, неистовое веселье – что, взяли, гады фашистские?
– На себя посмотри, Бельмондо сраный. – Оставляя за собою осклизлый, мерзкий след, Толя Громов подошел к двери, с ходу приложился каблуком, покачав головой, вытащил «вальтер». – Ногой не вышибить.
Выстрелы канонадой зазвенели в ушах, эхом отражаясь от гранитных стен, замок после хорошего пинка упал на землю, и в лица пахнуло свежестью, ослепило солнечным светом. Какое сладкое слово – свобода! Только как отдает дерьмом…
– За мной, живо! – Крадучись, Толя Громов выбрался наружу, стремительным рывком преодолел открытое пространство и, прикрывая отход с «вальтером» в руке, притаился в ложбинке. Вика с Женей из последних сил бросились за ним, Прохоров легко догнал их и, укрывшись за кустом, перевел дыхание, огляделся. Нелегкая занесла их на каменистый, поросший редколесьем косогор. Внизу на водной глади играли солнечные блики, слева берег вздыбливался отвесной, далеко выдающейся во фьорд скалой, справа сверху из-за чахлых, гнущихся к земле сосен слышался рев моторов.
– Давайте к шоссе. – Прохоров поднялся, коротко взглянул на обессилевших, синих от холода спутниц, рассвирепев, яростно прошипел: – Бегом, суки, если жизнь дорога.
Он легко, словно котят, подхватил девушек под руки и, матерясь сквозь зубы, потащил их вверх по склону. Толя Громов, прикрывая отход, поддерживал его морально:
– Двигайтесь, барышни, двигайтесь, не май месяц. Еще воспаление легких схватите…
– Ладно, ладно, я сама. – Судорожно хватая ртом воздух. Женя наконец согрелась и почувствовала прилив очередного по счету дыхания. – Не тяни так, руку оторвешь.
Тяжело переставляя ноги, упершись взглядом в спину Прохорова, она шла, словно робот, на автомате; если бы не горящие от ярости глаза, ее можно было бы принять за зомби. «Мертвецы возвращаются… – Усмехнувшись, она остановилась, через плечо глянула вниз – зловещие скалы, чахлый, умирающий лес, черная лужа фьорда. Фьорда, в котором плавают косатки… – А вот Ингусик уже не вернется…» Женя судорожно вздохнула, спазм захлестнул ей горло, но глаза оставались сухими – весь лимит слез она уже выплакала…
– Что, суки, взяли? – Ее мрачные мысли прервал негромкий голос Прохорова, он был полон презрения, торжества, неукротимой свирепости воина. – Рылом не вышли, псы тевтонские, подождите, мы еще вернемся, поотрубаем вам хвосты!
Далеко внизу, у подножия холма, суетились люди в хаки. Рыскали с автоматами наперевес вдоль берега, цепью прочесывали местность, осматривали в бинокли скалы. Крошечный, с булавочную головку, эсэсовец в черной форме исступленно жестикулировал.
– Это точно. – Толя Громов зловеще оскалился, с хрустом сжал кулаки. – Клянусь дружбой народов, мы еще вернемся, на кишках повесим, костями срать будете!
По выражению его лица было видно, что он не шутит.
– Не берите в голову, дамы, страшный человек, убивец. – Прохоров ожесточенно покрутил руками, разминая плечевой пояс, усмехнулся. – Палач Скуратов-Бельский.
– Ну виноват, погорячился. – Громов сразу остыл, порозовел ушами, улыбнулся вдруг смущенно и простодушно. – А вообще-то друзья зовут меня Толей.
Судя по его красноречивому взгляду, это было сказано исключительно для Вики.
Было утро. Павел Семенович Лютый с дочерью завтракали: всемирно известная, черт бы ее побрал, норвежская сельдь, жаренная во фритюре, с маринованными овощами, знаменитое, мать его за ногу, вызывающее тошноту норвежское пиво, изысканная, с душком, чуть осклизлая баранина с морков-но-брюквенным гарниром. Параша с пониженной жирностью. На строгаче в Якутии, где добывают вольфрам, Павел Семенович питался гораздо лучше. Пристяжь по соседству вяло хавала вареную треску, ковыряла вилками «братскую могилу» – рыбное рагу из пикши, потрошеной кильки и морской капусты. Лица у братвы были постные, " – ни тебе колбаски, ни сала с чесночком, ни наваристых, так чтобы ложка стояла, кислых щей со свининой. Тоска. Музыканты наигрывали то «Калинку-малинку», то «Сударыню-матушку», то «Светит месяц ясный» – родные, в печенках засевшие мелодии, это благодарный мэтр с утра пораньше науськивал оркестр, чтобы ублажить драгоценных русских клиентов. Очень, очень достойные люди! Заселились в лучшие номера, потеснив любимую жену арабского шейха, платят исключительно наличными и ведут себя достойно и щедро – мафия!
– Папа, что же вы не едите сельдь? – Леночка Таирова, похорошевшая, заневестившаяся, увлеченно пробовала местные деликатесы, щеки ее раскраснелись, глаза блестели. – Смотрите, как наложено фигурно, морква, буряк, яйца отварили вам вкрутую…
– Кушай, детка, кушай. – Павел Семенович нежно посмотрел на дочь, вздохнул от прилива чувств и незаметно скосил глаза в угол, где занимал почетный стол арабский шейх со своим визирем, старшим сыном и любимой женой, бриллиантовые россыпи на их одеждах переливались всеми цветами радуги. – И хрена ли понтуетесь? Все равно деньги ваши станут наши.
Шейх этот, видать, по жизни был полный лох, мудак и извращенец. Он не только приволок в Норвегию гарем, он и верблюдиху прихватил, белую, в лентах, якобы для дойки, ходит исключительно в подштанниках и ночной рубахе и все бубнит себе под нос: «Бисми лла, бисми лла», матерится, наверное. Третьего дня Павел Семенович посчитал не подлость пошуршать с арабом в карты и обул его с ходу на триста косарей. Долг тот отдал без заморочек, но катать больше не хочет, – ясное дело, здесь мозгами шевелить надо, это тебе не верблюдиху крыть. Ишь как лыбится, цацками сверкает, а в глаза, гад, не глядит, отворачивает харю-то. И чего ему здесь, на северах, ехал бы к себе в сектор Газа…
– Мерси за компанию, папа. – Промокнув салфеткой губы, Леночка достала пудру, слегка подправила нос, поднялась. – И поспешили бы вы, госпожа Фридрихсблюм уже ждет.
Госпожа Фридрихсблюм – это персональный гид, длинная, плоская, как камбала, со снулыми, почти незаметными на лице глазами. Та еще красотка. Хотя здешним мужикам вообще не позавидуешь, с верблюдицей, наверное, и то приятней. Вон как суетится: рот до ушей, ручкой машет, бес-толковкой трясет, эх, ничего не поделаешь, придется ехать. «И у кого, интересно, на нее встает?» Вздохнув, Павел Семенович поднялся, махнул пристяжным и с обреченным видом отправился на экскурсию.
Выехали на двух машинах. В головной, шестисотом «мерее», сидели Лютый с дочкой, Лешик-поддужный и госпожа Фридрихсблюм; замыкающая, джип «лендкрузер», была набита мореной, дохнущей от скуки братвой. Эх, где бронированный членовоз и кладбищенский автобус цвета воронова крыла? Ас Семенов-Тян-Шанский уверенно рулил по серпантину шоссе, за тонированными стеклами проносились суровые северные пейзажи, мелькали дикие скалы, тянулись назад лесистые холмы, исчезали за поворотами лужи фьордов. Павел Семенович хмурился, курил, – сосен он не видел в своей жизни, едрена мать! А ведь культурная программа еще только начиналась, впереди была рыбалка на сейнере в Норвежском море, путешествие на воздушных шарах к Лофотенским островам и охота на овцебыков на Шпицбергене. Хвала Аллаху, что не на Северном полюсе. Породисто урчал шестилитровый двигатель, занудно распиналась камбалооб-разная экскурсоводиха, петляло бесконечное, без ям и надолб, шоссе. Когда миновали маленький заводик, притулившийся на берегу узкого, зловещего вида фьорда, Леночка заерзала, тронула отца за рукав:
– Посодействуйте, папа, по нужде бы мне, по малой.
– Стопори. – Лютый покосился на Семенова-Тян-Шанского и, улыбнувшись, подмигнул дочке; – Идемте ссать, я угощаю. Составлю тебе компанию, Ленок, чертово пиво.
Выехав на обочину, процессия остановилась, Павел Семенович с Леночкой перешли шоссе и углубились в лес – мальчики налево, девочки направо. Шуршала под ногами осыпавшаяся хвоя, ветер лениво шевелил лапы сосен, пахло прелью, смолой, неотвратимой неизбежностью осени. Павел Семенович выбрал ствол посолидней, облегчился, но едва, вжикнув молнией, собрался закурить, как откуда-то выскочили двое в камуфляже с «вальтерами» в руках.
– Хальт, хенде хох!
Они были решительны, неимоверно грязны и источали жуткую вонь.
Не успел Павел Семенович и глазом моргнуть, как незнакомцы содрали с него пропитку и пиджак и бросили добычу двум каким-то шалавам, тоже донельзя зачуханным и пропахшим дерьмом. Этого господин Лютый снести не мог: чтобы сраные заморские фраера брали русского блатаря наскок с прихватом? Да ни в жисть!
– Вы на кого, суки, тянете? – Лютый вдруг рванул на груди рубаху, так что во все стороны брызнули перламутровые пуговицы, и, сделав пальцы веером, буром попер на обидчиков. – Ушатаю, говнюки, на ноль помножу, педерастами сделаю! На, на, стреляй фашист, ты увидишь, как умрет русский вор Лютый! Ну давай, прямо в сердце!
На губах его пузырилась пена, налившиеся кровью глаза метали искры, пальцы яростно скребли татуировку – сердце, пронзенное кинжалом с гадюкой на рукоятке.
– Да будет вам, папа. – Привлеченная родительскими криками, Леночка Таирова вышла из-за кустов, кивнув на одного из налетчиков, разочарованно поджала губы. – Какие из них фашисты! Это вот сосед мой бывший, по хрущовке, тоже гад, конечно. Тампакс мне однажды засадить пытался…
– Тампакс засадить? – Павел Семенович, остывая, смерил Прохорова презрительным взглядом. – Ну ты редиска, Навуходоносор, петух гамбургский. Дело твое теперь телячье, обосрался и стой. Босота! Нюх потерял, в масть не въезжаешь? На своих, говнюк, прыгаешь, местных лохов тебе мало? Колись до жопы, на гастролях?
– Ошибочка вышла, отец. – Толя Громов вступил в разговор и как бы невзначай продемонстрировал запястье с набитыми кандалами. – В бегах мы, с крытки когти рвем. Дубрано[19]19
Холодно.
[Закрыть], заголодали…
– А что это за метелки с вами? – Благожелательно глянув в его сторону, Павел Семенович подобрел, закурил беломорину. – Клюшки? Кобры? Скважины? Ковырялки? Знать желаю, кто мою теп-луху испоганил.
– Самостоятельные они. – Толя Громов кивнул на Женю и Вику, уже освоивших пропитку и пиджак Лютого, в голосе его послышалось уважение. – Шедевральные чувихи! Слушай, отец, а мобильник у тебя с роумингом?
– Хрен у меня с винтом. – Павел Семенович зябко передернул плечами, глянув на посиневшего Прохорова, вспомнил вдруг, как сам рвал когти с Печоры – израненный, голодный, холодный… Помрачнел, насупился. – Хватит лясы точить, пошли к машине.
Говорят, нет ничего приятней, как встретить земляков на чужбине…
Был день как день. С раннего утра комсостав «Эгиды» находился на секретном полигоне у деревни Крюгерово – отрабатывали методы борьбы с бронетехникой и живой силой потенциального противника. Метали в мутную, изображающую окоп лужу гранаты РГ-42, с криками «Ура!» с автоматами наперевес бежали добивать воображаемого врага, до седьмого пота занимались физо, аутотренингом и рукопашным боем. Стреляли из гранатометов по геройским, еще хранящим надписи «За Родину» «тридцатьчетверкам», ползли, маскируясь в грязи, к ржавым громадам «KB», кремировали их при помощи бутылок с зажигательной смесью. Завершали программу кросс, спецупражнения с пистолетом Макарова и обязательный факультатив по снятию дозорных с вышек. Низкое небо хмурилось, ветер бросал в лицо студеную морось, листва на дубах по краю полигона полыхала желтым прощальным огнем – осень, природы увяданье. Стаи воронья, облепив мокрые деревья, косили бусинками глаз на копошащихся в грязи людей, недоуменно каркали, водили крепкими, отполированными клювами: и что это вдруг нашло на двуногих? Шум, вонь, грохот, чего все ради?
Наконец маневры закончились, инструктор, одноглазый спецназовец, прошедший Афган, Сербию, Колыму и Чечню, скомандовал общее построение.
– Поздравляю вас, отлично. – Скупо улыбаясь, он пожал руку Пиновской, во взгляде его блеснула сталь. – Учитесь, товарищи офицеры, даром что четырехглазая и баба.
Действительно, несмотря на близорукость, возникшую как следствие ранения, Марина Викторовна была отличным стрелком.
В это время неожиданно раздалась телефонная трель.
– Разрешите, товарищ инструктор? – Не дожидаясь ответа, Плещеев вытащил трубку, покинул строй. – Это я. Это ты? Ты где? Ага! Никакого посольства! Ни о чем не беспокойся, прорывайся На север. Да, можешь и этих взять. На границе вас будет ждать окно. Ну все, обнимаю, рад был тебя слышать.
Несколько секунд он стоял неподвижно, задумавшись, и вдруг, словно очнувшись, не сдерживаясь, радостно закричал:
– Толик жив, домой едет!
ГЛАВА 23
Год 1990-й
-Вы на берегу лесной реки, жарко, печет солнце, в душном воздухе порхают бабочки. – Голос Лауры стал тише, в нем появились нега и расслабленность. – Вам хочется раздеться и войти в прохладную, задумчивую воду.
Добровольцы на сцене, невзирая на переполненный зал и яркий свет софитов, начали раздеваться: молодой человек остался в сомнительной свежести трусах, девица – в почти что не существующих бикини, бюстгальтера под футболкой с надписью «Перестройка» у нее не было.
– Теперь купаться – Лаура властно взмахнула рукой, и парочка, плюхнувшись животами на пол, стала изображать групповой заплыв.
Зал взорвался аплодисментами, замелькали молнии фотовспышек, камеры телевидения придвинулись вплотную к сцене, – лица плывущих выражали абсолютное блаженство, их руки и ноги мерно загребали по истертым доскам пола, а невероятная Лаура Гревская была прекрасна и загадочна, подобно богине! Потом началось угадывание мыслей, сеанс телепатической связи, массовый гипноз и отращивание за минуту густой курчавой бороды у одного из зрителей. В заключение Лаура сбросила платье, демонстрируя великолепное, классических пропорций тело, прошлась в одном купальнике по остриям кинжалов, дала облить себя серной кислотой и наконец, с чарующей улыбкой, по пояс в пламени, неторопливо исчезла за кулисами. Шквал аплодисментов, вонь горящего бензина, яростное шипение огнетушителей, крики изумления, восторга и зависти. Грандиозный успех.
В своей уборной Лаура первым делом залезла под душ. Сбросила дымящийся, прожженный кислотой купальник, долго стояла под тугими струями, чувствуя, как уходит кураж и спадает опустошающее душу нервное напряжение. Это только профанам кажется, что все так просто, да будь ты трижды одарен, за все приходится платить!
– Дорогая, сегодня ты была особенно в ударе!
Как всегда, ее уже ждал дед, подтянутый, ироничный, в безупречном светлом костюме, с букетом бордовых, цвета запекшейся крови, прекрасных роз.
– Поехали, к ужину я заказал твою любимую индейку.
Дед прекрасно знал, что перед выступлениями она никогда не ела. Ничуть не смущаясь его присутствием, Лаура оделась, проигнорировав косметику, скрутила тугим узлом волосы на затылке, достала сотовую трубку.
– Ну что там, можно?
– Да, Анастасия Павловна, все спокойно. – Бригадир секьюрити отозвался не сразу, видно был занят делом, бдел. – Выходите через второй подъезд. «Мерседес» деда был запаркован подальше от любопытных глаз, на общей стоянке, – перламутровое бронированное чудище, изготовленное на заказ. На первый взгляд обыкновенный «шестисотый», однако мотор помощнее, салон побогаче и еще не всяким гранатометом возьмешь. Не привлекая постороннего внимания, сели в машину, опытный водитель стремительно взял с места, и за окнами поплыла вечерняя, уставшая от дневнего зноя Москва. Неслышно урчал кондиционер, тяжелая машина легко и быстро катилась по дороге, ехать было необременительно и приятно.
– К ужину будут гости. – Дед вытащил большую трубку с резным янтарным чубуком, набив не спеша, закурил, в воздухе поплыл приятный жасминовый дымок. – Савин и комитетский один, все набивается в друзья. Полковник, не сегодня завтра генерал. Будет настроение, запудри ему мозги, возьми чекиста на короткий поводок. Пригодится.
Кивнув, Лаура открыла бар, налила себе персикового соку.
– Как скажешь.
Дед ей нравился. Уже больше тридцати лет они живут под одной крышей, а он все не меняется, такой же загадочный и непонятный. Это для нее-то, читающей в душах людских, как в открытой книге. Молчит, улыбается в пышные усы, и хоть бы мысль какая мелькнула на поверхности – куда там, лишь плотная завеса тумана блокировки. Сфинкс, человек-загадка! Да, впрочем, нет, просто маг более высокого плана, учитель, указавший путь. Человек, перевернувший всю ее жизнь, заменивший отца и мать.
В пятьдесят седьмом дед отыскал ее в Калининграде, в детском доме. Он увидел перед собой болезненного заморыша, доходягу, – пятнадцать лет, а еще и намека на месячные не было. Зато всего остального в избытке: нарушение речи, эпилепсия, лунатизм. «Как тебя зовут?» – спросил ее тогда дед, и она вдруг, сама не зная почему, ответила по-немецки: «Норна. Норна фон Химмель, добрый господин». С ее глаз словно спала пелена, она вспомнила чудной красоты женщину с белокурыми волосами, рев тяжелого грузовика, страшный, перечеркнувший все огненный столб…
Дед был важной шишкой, забрал ее в Москву. Они поселились в трехэтажном особняке, обедали в кабинетах «Арагви», по вечерам ходили в Большой, затем ужинали в соседнем «Савое», часто наведывались в художественные галереи, осматривали Кремль, катались на катере и персональной, сияющей хромировкой бежевой «Волге». Новая жизнь захватила Анастасию, гадкий утенок вскоре превратился в Царевну-лебедь, красивую, уверенную в себе, благополучную девушку из хорошей семьи. Но главное заключалось в другом – дед заново открыл ей мир. Мир во всем его многообразии – лишенный иллюзорности, оков традиций и воспитания, нелепых догм, предрассудков, всей той порочной косности ортодоксального материализма, которая насильно насаждается, навечно вдалбливается обществом с пеленок.
– Пойми, Норна, – наставлял он ее, попыхивая своей любимой трубкой, – реальность ограничена нашими органами чувств, к слову сказать весьма и весьма примитивными. Попробуй изменить свою чувствительность, и привычная реальность исчезнет… Мне вот, например, кажется, что с некоторых пор тебя очень заботит осязание.
Это была правда. Анастасии в то время нравилось ласкать себя, чувствовать, как каменеют под пальцами соски, ощущать волнующую новизну смелых прикосновений, от которых сладко кружится голова и истомной судорогой сводит тело. Кровь туманила ее разум, ей хотелось познать, что такое любовь, и отдаться ей со всей страстью буйно расцветшей женственности.
– Тебя тяготят оковы невинности? – спросил дед, на его лице при этом не промелькнуло ни тени усмешки. – Ты уже думала, как избавиться от них? Отдашься неотесанному пролетарию, тупому солдафону или, может, страдающему словесным недержанием члену партии? А хочешь прибегнуть к помощи козла? Не удивляйся, в Мандесском храме держали специально обученное животное, лишавшее невинности египетских девушек. В твоих жилах, между прочим, течет королевская кровь, ты обладаешь силой, и, чтобы познать оргазм, тебе совсем не обязательно нисходить до грязных, упивающихся своим скотством плебеев или заниматься мастурбацией, словно растревоженная школьница. Достаточно активизировать половой центр и сконцентрировать на нем свое внимание, это просто, я тебе покажу. Самодостаточность – высшее благо для мага. А с мужчиной ты будешь еще не скоро.
«В самом деле, жалкие рабы, тупое, безмозглое стадо. – Неспешно потягивая сок, Лаура с саркастической усмешкой посматривала на толпу прохожих. – Путь их во мраке, ибо не ведают, чтб творят… Жрать, спать, спариваться, валяться на золотом песочке где-нибудь у моря – вот предел мечтаний этих хомо сапиенсов, квинтэссенция их успеха и жизненной мудрости». Да какое дело ей, Лауре Гревской, отмеченной печатью исключительности – хварной, до самцов в этом стаде, грубых, грязных, бесчувственных, ощущающих мир лишь сквозь призму материальности? Зачем они ей, если каждую ночь она уходит в сексуальную нирвану, где поцелуи, объятия, оргазмы невыразимо ярче и более реальны, чем в обычной жизни!
«Мерседес» между тем подъехал к трехэтажному, окруженному кирпичной оградой особняку, просигналил и, прошуршав колесами по асфальту, остановился у входа. Ворота за ними автоматически закрылись, водитель, выскочив из машины, распахнул дверцу, подал Лауре руку:
– Прошу.
Воздух наполняло благоухание сирени, с деловитым жужжанием кружились вокруг распустившихся соцветий пчелы, умиротворяюще журчал маленький фонтан перед фасадом дома, струи его переливались в лучах прожекторов. Раньше, в лихие смутные времена, на этом месте был разбойничий притон – кружало с привычными к блуду бабами. Обреталась тут сволочь разная, скаредники, кро-мешники, не дай Бог забрести постороннему: зарежут, оберут и в особый лаз, сообщающийся с Москвой-рекой, – плыви, милый. Нынче вроде бы времена изменились к лучшему, и на разбойном месте стоит мирный особняк деда. Третий этаж занимает Лаура, второй – сам хозяин дома, на первом – кухня и обслуга. Посторонние здесь появляются не так уж и часто, горло никому не режут, тайный ход к Москве-реке, слава Богу, давно зарыт…
– Пойду переоденусь. – Лаура, коротко оглянувшись, стала подниматься по лестнице, и дед вытащил вдогонку массивные, на золотой цепочке часы:
– Не задерживайся, скоро будут.
Гости и в самом деле не заставили себя долго ждать, приехали по-старомодному, на черных «Волгах», с огромными, похожими на веники, букетами. С генерал-майором Савиным, высоким, поджарым, всегда чем-то недовольным, Лаура уже была знакома, он напоминал ей фанатика-иезуита, с легким сердцем отправляющего людей на костер. Хотя на монаха он не похож, вон как гипертрофированы нижние чакры – похоть, стремление к власти, одержимость материальным, – этот себя еще покажет.
– Морозов Кузьма Ильич. – Второй гость оказался крепеньким лысеющим мужчиной в расцвете лет, с хорошими манерами и негромким, глуховатым голосом. – Очень много слышал о вас, чрезвычайно рад знакомству.
Тоже тот еще фрукт, профессиональный убийца, в сердце ни малейшего намека на жалость к ближнему, любит власть и женщин, если не обломают ноги, пойдет далеко. Интересно было бы посмотреть, как он умрет, уж не от болезни ли мозга? Похоже, у него начальная стадия рака. Ладно, потом, не стоит портить аппетит.
Прошли в зеркальную гостиную, не спеша расселись. Стол был сервирован закусками – перламутровый балык, пунцовая семга, розовая ветчина с белыми прослойками жира, паштет из рябчиков, агатово-черная паюсная и серая зернистая, остенд-ские устрицы на льду, пахучие ревельские кильки, помидоры, прослоенные испанским луком, крохотные, с дамский мизинец, корнишоны. Что-что, а поесть дед умел – маленькая слабость, не считая женщин. Налили, кто «смирновку», кто «рябиновку», кто английскую горькую, Савин поднял тост – за хозяина дома, несравненного мэтра оккультизма, Георгия Генриховича Грозена, своего друга и сподвижника. Насчет любви и дружбы соврал, сразу видно, но вот во всем остальном правда, без деда ему никак, работа сразу встанет. Выпили, закусили, налили по новой, и Морозов тоже провозгласил тост – за хозяйку, самую обворожительную женщину, которую он когда-либо встречал. Сказал как на духу – Лаура ощутила бешеную похоть, нестерпимое желание взять свое тут же, любой ценой. В другой бы обстановке налетел зверем, зажал бы намертво – не вырваться. К чему умные речи? Руки связать, подол на голову, ноги задрать к плечам. И никаких там кляпов, подушек, плотно прижатых к лицу, ори громче, любимая, от бабских криков только кровь горячее…
Ели и пили не спеша, обсуждали гласность, перестройку, нетореные пути реформ, однако, поскольку люди собрались бывалые, разговор велся все больше полунамеками, без каких-либо имен и привязки к конкретным событиям, так, светская болтовня ни о чем.
– Да, зашевелились наверху, спокойная жизнь, похоже, кончилась. – Дед выдавил на устрицу сок лимона, с ловкостью отправил в рот, – Перспективы туманны, неуловимы, расплывчаты…
– Это точно, верхним не позавидуешь, особенно «летягам». – Усмехнувшись, Савин занялся икрой и чавычей, было заметно, что он уже навеселе. – Ничего, им не привыкать, приспособятся. Те, кого не запустят…
– «Летяги»? – Морозов отпилил от ломтика ветчины маленький кусочек, отправил его в рот. – Из военно-космического комплекса?
– И из него тоже. – Савин незаметно подмигнул деду, тот усмехнулся:
– Может, знаете, белочки есть такие, с деревьев планируют? Фанера, бывает, тоже, над Парижем…
– А, вот вы о чем, орлята учатся летать! – Морозов, догадавшись, о чем речь, улыбнулся, подцепил вилкой серебристую сардинку. – Ну, этих-то жалеть нечего, они свое отымели авансом, на десять поколений вперед хватит, так что справедливость, можно сказать, восторжествовала.
– Справедливость! Какая чушь. – С наслаждением выпив водки, Савин сунул в рот прозрачный ломтик балыка, глаза его затуманились. – У меня в детстве кошка была, сибирская, Нюськой звали, так вот однажды она родила котят и первому, самому крупному, вместе с пуповиной случайно отгрызла хвост. Он, бедняга, весь паркет кровью перепачкал, пищал, жаловался – за что, дескать? А потом пришел с работы отец и утопил его. Кому убогий нужен? Остальных же котят через месяц благополучно пристроили. А вы говорите, справедливость…
– Не стоит подходить ко всему с единой меркой. – Дед пил осмотрительно, закусывал не торопясь, казалось, хмель его не берет. – Каждому свое. Возьмите человека из толпы. Он живет лишь удовлетворением своих сиюминутных желаний, страхами, тщеславием, увеселениями, приобретательством, жаждой удовольствий. Он бесконечно далек от всего, что непосредственно не связано с интересами и заботами дня, от всего, что хоть немного поднимает над материальным уровнем жизни. По существу, человек из толпы варвар, пусть цивилизованный. Или взять настоящего хомо сапиенса, индивида, сумевшего подняться над жизненной суетой, одаренного высшими проявлениями духа, – естественно, он имеет право на многое и многое же должно ему прощаться. Он движущая сила эволюции, в отличие от толпы, которая не способна ни к чему, кроме разрушения.
Лаура сидела молча, чуть заметно улыбаясь, разговор о сверхчеловеке ей нравился.
Когда с закусками было покончено, сотрапезники сменили тему и воздух наполнился табачным дымом. Дед курил любимую трубочку, Савин – «Беломор», Морозов же, раздувая ноздри, томился – недавно бросил. Скоро на огромном блюде подали индейку в медово-клюквенном соусе, румяную, выглядящую чрезвычайно аппетитно. Вокруг нее на гренках, смазанных куриной печенью, лежали жареные перепела. Кулинарный шедевр! Фантасмагория запахов и квинтэссенция вкуса! Под птицу хорошо пошло шампанское, затем гости перешли на коньяк, армянский, пятизвездочный, дружно отказавшись от красного «Шато», снова приложились к «смирновке» и «рябиновке», и вот наконец заговорили уже свободней, правда опять-таки на нейтральные темы – профессионалы, как-никак. О Раисе Максимовне, заказавшей за семьдесят тысяч фунтов сережки аля Маргарет Тэтчер, о купленном ею же золотом яичке Фаберже стоимостью два с половиной миллиона долларов, о странной отметине на лбу Генсека. А хрена ли нам гласность? Ускоренье – важный фактор, от него взлетел реактор. По России мчится тройка – Мишка, Райка, Перестройка. Савин". брызжа слюной, лил коньяк себе на галстук, размахивал руками, шумел, Морозов, не сводя с хозяйки сальных глаз, что-то невпопад отвечал ему и все время улыбался, то глуповато, то зловеще, хищно. Лаура с дедом слушали молча, в разговор не вступали, их одолевала скука. Пьяный гомон мешал им наслаждаться великолепным вкусом птицы.
На сладкое было парфе – взбитые сливки с ананасовым ликером, украшенные розами из сахара и блестящими прожилками карамели. Стуча ложечками о креманки, гости несколько поутихли, а после черного кофе и вовсе пришли в себя, поправив галстуки, вновь превратились, в воплощения такта и хороших манер. Чувствовалось, что в свое время они прошли хорошую школу.
Наконец ужин подошел к концу; поговорив еще немного о пустяках, гости стали прощаться.
– Вы божественны. – Морозов надолго припал к руке Лауры и, желая напоследок произвести впечатление, со значением посмотрел ей в глаза. – Скажите, как я умру? Не от любви к вам?
– Вам ли не знать, что информация стоит денег? – Анастасия улыбнулась несколько гадливо. – Милости прошу ко мне в салон, «Магия успеха». А впрочем, ладно, поскольку вы у нас в гостях. – Она развернула ладонь Морозова к свету, зрачки ее сузились, потемнели. – Вас убьет маленький хищный зверь, очень вонючий. Не обессудьте, Кузьма Ильич, сами напросились. Осталось вам лет десять.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.