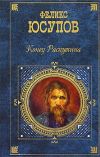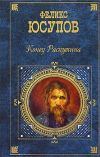Текст книги "Перед изгнанием. 1887-1919"
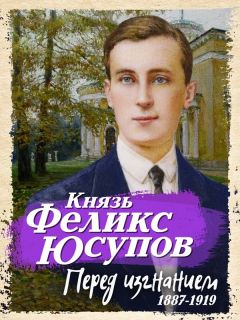
Автор книги: Феликс Юсупов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Глава ХV
Месяц в Англии. – Первая встреча с Распутиным. – Отъезд в Оксфорд. – Университетская жизнь. – Анна Павлова. – Светская жизнь, балы, маскарады и т. д. – Прощание с университетом. – Последнее пребывание в Лондоне. – Англичанин у себя дома
В Лондоне я остановился в отеле «Карлтон». Было уже начало осени, неудачное время для первого знакомства с Англией. Правда, мои впечатления это не испортило. Англичане показались мне симпатичными, гостеприимными, хорошо владеющими собой и, главное, наивно уверенными в своем превосходстве. На следующий день после приезда, завтракая в русском посольстве, я не без удивления заметил, что наш посол, граф Бенкендорф[121]121
Бенкендорф Александр Константинович (ум.1916), граф. Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании.
[Закрыть], едва говорит по-русски.
На следующий день я был приглашен завтракать к принцу Людовику Баттенбергскому. Принцесса долго меня расспрашивала о Распутине. То, что она услышала о его влиянии на сестру, ее возмутило. Она была слишком умна, чтобы не почувствовать катастрофу, угрожавшую нашей стране. Узнав о моем намерении поступать в один из английских университетов, она посоветовала сходить к ее кузине, принцессе Марии-Луизе Шлезвиг-Гольштейнской, и к архиепископу Лондона, уверив меня, что оба могут быть мне полезны. Я без промедления последовал совету. У принцессы и у архиепископа я встретил самый сердечный прием. Они живо советовали мне поступать в Оксфордский университет. Позднее, когда я был студентом, оба любезных советчика частенько навещали меня. Архиепископ познакомил меня с молодым англичанином Эриком Гамильтоном, который должен был поступать в Оксфорд одновременно со мной и в тот же колледж. Этот очаровательный юноша, с которым я сохранил дружеские отношения, сейчас капеллан королевского собора в Виндзоре.
Запасшись рекомендательными письмами, я отправился представляться ректору Университетского колледжа, одному из старейших среди многочисленных коллег по Оксфордскому университету. Ректор принял меня очень любезно и ввел в курс жизни и обычаев университета. Я понял, что каждые два месяца буду иметь трехнедельный отпуск и что летние каникулы длятся три месяца. Этот великолепный распорядок позволял мне часто ездить в Россию. Ректор пригласил меня посетить колледж и комнаты студентов, маленькие, но довольно удобно обставленные. Одна на первом этаже была свободна. Она была большая, с зарешеченным окном, выходящим на улицу, и другая совсем маленькая комнатка рядом. Ректор сказал, что это помещение является клубом, студенты имеют обычай собираться у того, кто здесь живет, чтобы пить виски. Он также сказал, что первый год я обязан жить в колледже, но на два следующих могу снять дом или квартиру в городе. Я попросил его оставить для меня эти две комнаты к моему возвращению следующей зимой.
Решив этот вопрос, я отправился осматривать город. Оксфорд меня сразу же покорил. Его многочисленные колледжи размещались в старинных монастырских строениях, окруженных высокими стенами и великолепными парками. Бесчисленные поколения студентов, сменявшие друг друга за этими столетними стенами поддерживали в средневековом обрамлении атмосферу вечной молодости. Я покинул Оксфорд с сожалением, будто бы не был уверен в возвращении.
Перед отъездом в Париж я отправился к великому князю Михаилу Михайловичу[122]122
Великий князь Михаил Михайлович (1861–1929).
[Закрыть], брату моего будущего тестя, в прекрасное имение в окрестностях Лондона, где он жил с семьей. Великий князь был в изгнании после своего морганатического брака с графиней Меренберг, внучкой Пушкина. Она получила титул графини Торби. Это была любезная женщина, очень популярная в лондонском обществе. Она страдала от характера мужа, который не переставал метать громы и молнии против своей русской семьи. За эти высказывания великого князя считали безответственным, но жалели его жену. У них было трое детей: сын, которого звали Бой, и две очень хорошенькие дочери, Зоя и Надя[123]123
Торби Михаил Михайлович, Зоя Михайловна, Надежда Михайловна.
[Закрыть].
Я часто виделся с ними в оксфордские годы.
Я привез из Англии целую коллекцию животных для Архангельского: быка, четырех коров, шесть свиней и множество петухов, кур и кроликов. Большие животные были отправлены прямо в Дувр, чтобы там их погрузили на суда, но я оставил с собой ящики с птицей и кроликами, которые разместили в подвале отеля «Карлтон». Я не отказал себе в удовольствии открыть ящики и выпустить животных в отель. Это было великолепно! В одно мгновение они разбежались повсюду; петухи и куры взлетали и кудахтали, кролики пищали и гадили; персонал, расторопный, как полагается, бегал за ними, управляющий свирепствовал, клиенты были ошеломлены. Короче, полный успех!
Я остановился на несколько дней в Париже, чтобы повидать друзей, Рейнальдо, Хана и Фрэнсиса де Круассе. Мы проводили вместе восхитительные музыкальные вечера. Рейнальдо очень любил слушать мое пение и учил меня своим очаровательным мелодиям.
Я вернулся в Россию в прекрасной форме, полный энергии и планов. Родители были в Царском Селе. Я нашел мать более спокойной и смирившейся. Великий князь Дмитрий с нетерпением желал узнать все подробности моего путешествия. Императрица, которая в то время была еще в хороших отношениях с матерью, часто ее навещала. Она тоже долго расспрашивала меня о пребывании в Англии и о своей сестре принцессе Виктории. Я остерегся говорить о беспокойстве ее сестры по поводу влияния Распутина. Вскоре я вместе с родителями поехал в Москву и возобновил посещения туберкулезной больницы. Многих из прежних больных не было, но персонал остался прежним, и я был счастлив вновь оказаться среди них. Я часто видел великую княгиню Елизавету и имел с ней долгие беседы.
Лето я провел в Архангельском, где вновь увидел купленных в Англии животных.
Отец, очень довольный моими приобретениями, попросил меня выписать второго быка и еще трех коров. Я отправил следующую телеграмму, дающую представление о моих успехах в английском: «Please send me one man cow and three Jersey women» (Просьба прислать мужчину-корову и трех женщин Джерси). Просьба была точно понята и выполнена, как показало прибытие животных, но один веселый журналист завладел текстом моей телеграммы и опубликовал ее в английских журналах. Я стал посмешищем своих лондонских друзей.
Мы провели, как всегда, осень в Крыму. Время текло быстро. Я работал над своим английским и мысленно уже был в Оксфорде.
* * *
В конце этого, 1909 года, я впервые встретил Распутина. Мы вернулись в Петербург, где я должен был провести Рождественские праздники с родителями перед отъездом в Англию. Я давно был знаком с семьей Г., и особенно связан с их младшей дочерью, ставшей ревностной поклонницей «старца»[124]124
Речь идет о Марии Евгеньевне Головиной (р.1891), дочери камергера двора Евгения Сергеевича Головина (ум.1897) и Любови Валериановны Головиной (урожденной Карнович), родной сестры княгини Палей.
[Закрыть]. Эта девушка была слишком чиста, чтобы понимать низость «святого человека», и слишком наивна, чтобы здраво судить о его поступках и их мотивах. «Это, – говорила она, – существо редкой духовной силы, посланное в мир, чтобы очистить и вылечить души и руководить нашими помыслами и поступками». Этот дифирамб не поколебал моего скептицизма, поскольку, хотя я не имел никаких конкретных сведений о Распутине, все же какое-то неясное предчувствие делало его подозрительным мне. Тем не менее, энтузиазм мадемуазель Г. возбудил мое любопытство, и я подробно расспрашивал ее о том, кем она так восхищалась. По ее словам, это был посланник неба, новый апостол; человеческие слабости не были властны над ним, пороки были ему неизвестны, и его жизнь была аскезой и молитвой. Эти слова породили во мне желание узнать человека, столь необыкновенного, и я согласился прийти к Г. через несколько дней, чтобы встретить там знаменитого «старца».
Дом Г. находился на Зимней Канавке. Когда я вошел в салон, мать и дочь сидели за чайным столом с торжественным видом людей, ожидавших прибытия чудотворной иконы, которая призовет на дом благословение Божие. Вскоре дверь из коридора открылась, и Распутин вошел семенящими шагами. Он подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, милый», и попытался меня обнять. Я инстинктивно отклонился. Он язвительно улыбнулся. Подойдя к мадемуазель Г., а затем к ее матери, он без церемоний прижал их к сердцу и обнял с видом нежным и покровительственным. С самого начала что-то в нем мне не понравилось, даже оттолкнуло. Он был среднего роста, мускулистый, почти худой. Его руки были непропорциональной длины. У корней всклокоченных волос можно было заметить рубец, как я позже узнал, след раны, полученной во время его сибирских похождений. На вид ему было лет сорок. Одетый в поддевку, широкие штаны и обутый в большие сапоги, он выглядел простым крестьянином. Его лицо, обрамленное косматой бородой, было грубым: тяжелые черты, длинный нос, маленькие прозрачные серые глазки с блуждающим взглядом, которые смотрели из-под густых бровей. Его странные манеры поражали. Хотя он сам был подчеркнуто развязен, чувствовалось какое-то стеснение, даже недоверчивость; можно сказать, что он непрестанно опасается собеседника.
Распутин посидел несколько минут, потом принялся мерить комнату мелкими поспешными шагами, бормоча бессвязные фразы. У него был глухой голос и неясное произношение. Мы молча пили чай, следя за ним. Мадемуазель Г. с восторженным вниманием, а я с живым любопытством.
Затем он сел возле меня и уставил на меня пристальный взгляд. Между нами начался разговор. Он говорил бегло, тоном проповедника, наставляемого Богом, цитируя вкривь и вкось Евангельские тексты, смысл которых он часто переиначивал, что вносило путаницу в его речь.
Пока он говорил, я внимательно изучал его черты. В этом крестьянском, мужицком лице действительно было что-то необыкновенное. Он вовсе не выглядел святым человеком, скорее злобным и похотливым сатиром. Я особенно был поражен страшным выражением его глаз, очень маленьких, очень близко посаженных и так глубоко сидящих в глазницах, что на расстоянии их даже не было заметно. Иногда трудно было даже вблизи рассмотреть, открыты они или закрыты, и казалось, что Распутин скорее прокалывает иглами, чем смотрит на тебя. Его взгляд был проницательным и тяжелым одновременно. Его слащавая улыбка поражала почти так же, как и ужасный взгляд. Кое-что просвечивало сквозь добродетельную маску; он казался злым, коварным и чувственным. Мадемуазель Г. и ее мать не сводили с него глаз и не упускали ни одного его слова.
Через минуту Распутин поднялся и, окинув нас лицемерно-нежным взглядом, сказал мне, указывая на мадемуазель Г.: «Какого верного друга ты в ней имеешь! Ты должен ее слушать, она будет твоей духовной женой. Да… Она очень хорошо говорила о тебе, и я сам вижу теперь, что вы оба хороши, подходите друг другу. А ты, милый, ты далеко пойдешь! Очень далеко!»
С этими словами он вышел. Я тоже уехал, весь под впечатлением, произведенным на меня этим странным человеком.
Я увидел мадемуазель Г. несколько дней спустя. Она сказала, что я очень понравился Распутину и что он желает вновь видеть меня.
Спустя немного времени я выехал в Англию, где меня ждала новая жизнь.
* * *
После тяжелого плавания я прибыл в Лондон. Управляющий отелем «Карлтон», не забывший переполох с пернатыми, поглядывал на меня недоброжелательно. Я приехал в Оксфорд поздним утром, и первым, кого я встретил в колледже, был Эрик Гамильтон. Он проводил меня до моей комнаты и сказал, что зайдет за мной к завтраку в большой столовой, где я увижу всех товарищей. Перед завтраком лакей принес мою студенческую форму: черную и маленькую квадратную шапочку с длинной подвеской сбоку. Форма мне шла, но завтрак был отвратителен. Впрочем, у меня в голове было множество других забот. Я сделал из маленькой комнатки спальню. Иконы висели в углу, над кроватью, вместе с лампадой, напоминая о России. Большая комната стала гостиной. Я расставил книги на этажерках, безделушки и фотографии на столах, взял напрокат пианино, купил цветов, и в результате в этих комнатах, холодных и безликих, образовался интимный и приятный уголок. В тот же вечер «клуб» наполнился студентами. Все пели, пили, болтали до зари. За несколько дней я узнал почти весь колледж. Учеба не была моей сильной стороной. Что меня больше всего интересовало – это узнавать людей разных стран, говорить с ними, постараться понять их психологию, нравы и обычаи. Я не мог для этого выбрать место лучше, чем Оксфорд, где встречалась молодежь всех наций. Мне казалось, что я совершил кругосветное путешествие. Тамошний спортивный уклад мне тоже нравился: не грубые виды спорта, а мои любимые – псовая охота, поло и плавание.
Все учащиеся, жившие в колледже, должны были возвращаться домой к полуночи.
В этом отношении режим был очень строг. Те, кто нарушал это правило трижды в течение триместра, исключались из колледжа. Тогда устраивались их похороны. Все студенты провожали исключенного на вокзал, целой процессией, под похоронное пение. Чтобы помочь преступникам, я придумал сделать веревку из переплетенных простынь, которую можно было сбросить с крыши на улицу. Опоздавшему надо было лишь постучать мне в окно, и я тут же поднимался на крышу, откуда спускал веревку. Однажды, услыхав стук, я поспешил на крышу, бросил веревку и поднял … полицейского! Не вмешайся лондонский архиепископ, меня бы исключили из университета.
Это могло случиться еще раз по моей собственной вине. Я возвращался в тот вечер из Лондона, куда ездил пообедать с другом. Несмотря на густой туман, мы ехали быстро, поскольку едва успевали добраться до Оксфорда перед полуночью. Я тем более опасался опоздать, что уже делал это дважды в том триместре; третье нарушение распорядка означало автоматическое отчисление.
Ослепленный туманом, мой товарищ, бывший за рулем, въехал, не заметив его, на железнодорожный переезд. Удар был очень силен, и меня без сознания выбросило на рельсы. Придя в себя, я увидел в тумане огонь, быстро приближавшийся. Еще плохо понимая, что происходит, я тем не менее рефлекторно повернулся и оттолкнулся от рельсов. Лондонский экспресс прошел, как смерч, и меня сбросило в канаву. Я поднялся, однако, без малейшей царапины. Мой друг был жив, но в тяжелейшем состоянии, со многими переломами. Что касается машины, то бесполезно говорить, что от нее осталось после прохода поезда. Я позвонил от служащего на переезде, чтобы вызвать скорую помощь, и, проводив в оксфордскую больницу моего несчастного товарища, явился в колледж с двухчасовым опозданием. Ввиду трагических обстоятельств я избежал отчисления.
* * *
Утром, после холодного душа, приводившего меня в ужас, и обильного завтрака, единственной съедобной трапезы в течение дня, я до обеда был на занятиях. Послеполуденное время отводилось для спорта, до святого времени чая, после чего каждый шел к себе заниматься. Вечера проходили у меня в разговорах, музицировании и питье виски.
В этой здоровой и приятной обстановке прошел мой первый оксфордский год. Но я ужасно мучился от холода. В моей спальне не было никакого отопления, и температура была почти такая же, как на улице. Вода замерзала в тазу, и, когда я вставал, мне казалось, что я попал в ледяное болото.
На второй год, пользуясь правом учащихся второго курса жить вне колледжа, я снял в городе маленький дом, обычный и малопривлекательный, который быстро переделал по своему вкусу. Двое товарищей, Жак де Бестегюи и Луиджи Франчетти, поселились со мной. Последний великолепно играл на пианино. Мы его слушали с наслаждением целыми ночами. Я привез из России хорошего повара и автомобиль. Кроме русского повара, мой персонал состоял из шофера-француза, замечательного лакея-англичанина, Артура Кипинга, и из супружеской пары – муж занимался моими тремя лошадьми, его жена служила экономкой. Я купил лошадь для охоты и двух пони для поло. Бульдог и ара дополняли мое хозяйство. Ара, по имени Мари, был сине-желто-красный; бульдог отзывался на кличку Панч. Как и все его сородичи, он был оригиналом. Я быстро заметил, что шахматные клетки сводили его с ума, были ли они на линолеуме или на какой-нибудь ткани. Будучи однажды у своего портного Дэвиса, я увидел входящего очень элегантного пожилого джентльмена, одетого в клетчатый костюм. Прежде чем я успел шевельнуться, Панч бросился на него и убежал, унося большой кусок брюк. В другой раз, когда я провожал подругу к меховщику, Панч увидел соболью муфту, обрамленную шарфом в черно-белую клетку. Схватить ее было для моего Панча делом мгновенным, и вот он бежит по Бонд-стрит со своей добычей, преследуемый всем персоналом и мною. Мы с большим трудом настигли преступника и отняли у него муфту и шарф, по счастью, почти не пострадавшие. Когда наступили каникулы, я отвез Панча в Россию, не подумав о драконовских законах, запрещавших ввоз собак в Англию без шестимесячного карантина. Это было немыслимо, и я решил проехать иным способом. В конце своего пребывания в Париже, осенью, перед возвращением в Оксфорд, я отыскал старую русскую куртизанку, знакомую мне, которая жила в Париже на покое. Я предложил ей съездить со мной в Лондон одетой кормилицей, с Панчем на руках под видом младенца. Эта восхитительная особа очень охотно согласилась сыграть комедию, которая ее весьма забавляла, хотя и пугала. На следующий день мы отправились в Лондон, дав «дитяте» досточную дозу снотворного, чтобы заставить его тихо вести себя во время путешествия. Все прошло прекрасно, и никто не заподозрил обмана.
* * *
Во время каникул в России я имел случай присутствовать на одной из самых впечатляющих демонстраций. Речь идет о прославлении мощей блаженного Иосифа, проходившем в тот год в Кремле в Успенском соборе. Великая княгиня Елизавета попросила меня сопровождать ее туда. Места, отведенные для нее, позволили нам хорошо видеть ход церемонии. Бесчисленная толпа наполнила собор. Рака с мощами Блаженного стояла перед хорами, и больных, приносимых на носилках или на руках, подводили туда для целования мощей. Одержимые по большей части были ужасны на вид. Их нечеловеческие крики и гримасы становились еще более неистовыми, когда они приближались к раке, и часто требовалось несколько человек, чтобы их удерживать. Их вопли перекрывало великолепное церковное пение, как будто сам Сатана их устами хулил Бога; но все моментально успокаивались, как только их силой заставляли коснуться раки. Некоторые сразу становились нормальными. Я видел там своими глазами множество чудесных исцелений.
14 сентября того же 1911 года премьер-министр Столыпин был убит в Киеве.
Это был очень крупный государственный деятель, глубоко преданный стране и династии; яростный враг Распутина, не перестававший с ним сражаться и добившийся, таким образом, враждебности императрицы, для которой враг «старца» был врагом царя.
Я говорил в предыдущей главе о первом покушении на Столыпина в 1906 году.
Мудрые меры, принятые им с тех пор, укрепляли порядок. Он подготовил новый закон для развития крестьянской собственности и отмены общинного крестьянского хозяйства. Он был убит выстрелом из револьвера во время спектакля, на котором присутствовал царь. Раненый Столыпин, опустившийся на землю, приподнялся и, собирая последние силы, сделал благословляющий жест в сторону императорской ложи. Убийца – некий Богров, еврей-революционер, принадлежавший, как это ни странно, ко второму департаменту, был другом Распутина. Начавшееся было следствие быстро свернули, словно опасаясь каких-либо неудобных разоблачений.
Смерть Столыпина была триумфом для врагов России и династии; никто больше не был препятствием для преступных планов. Дмитрий высказывал мне свое возмущение безразличием государя и государыни, не понимавших, казалось, серьезности события. Императрица сделала ему такое оригинальное замечание: «Тот, кто противится Богу и нашему другу, не может более рассчитывать на божественное покровительство. Лишь молитвы старца, идя прямо на небо, имеют силу защитить их».
* * *
В конце каникул я провел некоторое время в Париже, где нашел Жака де Бестегюи, и мы повеселились перед возвращением в Оксфорд.
Бал Четырех искусств, о котором я знал лишь понаслышке, возбудил мое любопытство. Поскольку он проходил как раз в это время, мы решили туда отправиться. Вопрос о нашем маскараде облегчался тем, что доисторический костюм был очень моден в тот сезон. Достаточно было простой леопардовой шкуры. Бестегюи, не любивший ненужных расходов, добыл себе ее имитацию. Он надел белый парик с двумя свисающими косами, что делало его похожим скорее на валькирию, чем на пещерного человека. Я же одолжил у Дягилева костюм, который носил Нижинский в «Дафнисе и Хлое»: леопардовая шкура и большая соломенная шляпа аркадского пастуха, завязанная на шее и падавшая на плечи.
Этот бал меня глубоко разочаровал. В жизни не видел ничего более отвратительного. Толпа людей, почти голых, двигалась в ужасной духоте от жары и смрада всех этих потных тел. Если молодость и красота отнимают у наготы неприличный характер, то, сопровождаемая старостью и уродством, она становится непристойна. Большинство этих людей были ужасны, совершенно пьяны, совершенно распущенны, и доходили они даже до того, что свободно удовлетворяли свою чувственность при всех, презирая всякую стыдливость. Это зрелище внушило нам такое отвращение, что мы не замедлили покинуть бал. Леопардовые шкуры у нас вырвали, а из всей одежды осталось: у Жака – его белый парик, у меня – аркадская шляпа.
В ту же пору я познакомился со знаменитой куртизанкой Эмильеной д’Аленсон, столь же умной, как и красивой, наделенной тонким и язвительным остроумием. Я стал постоянным гостем красивого особняка на проспекте Виктора Гюго, где она жила. Она велела выстроить в саду китайский павильон, обставленный и украшенный с тонким искусством. Рассеянное освещение усиливало сладострастное очарование этого убежища, где она проводила большую часть времени за чтением, курением опиума или сочинением очень милых стихов, которые, забавляясь, громким голосом мне читала. Она умела окружать себя интересными людьми, великолепно принимала и всегда безукоризненно держалась, что характеризовало большинство выдающихся женщин полусвета того времени. Изысканность их ума и манер можно было бы поставить в пример множеству современных светских женщин.
Помимо обычных каникул, мне случалось быть вызванным телеграммой матери, здоровье которой оставалось слабым. Особенно сильный нервный криз случился во время ее пребывания в Берлине с моим отцом, который, думая, что я один могу ее успокоить, телеграфировал мне в Оксфорд, и я примчался.
В тропическую жару я нашел мать в постели, погребенной под мехами, с закрытыми окнами и отказывающейся от всякой пищи. Она страдала от ужасных болей и кричала на всю гостиницу.
Мы давно знали, что у нее нет никакой органической. болезни и что ее страдания были чисто нервические. Мы пригласили психиатра, светило медицинского мира Берлина. Когда он явился, я провел его к больной и оставил их наедине.
Вдруг я услышал через дверь взрыв смеха. Я уже так давно не слыхал смеха матери, что на мгновение оцепенел. Я открыл дверь: смеялась действительно она своим веселым, заразительным смехом. Профессор Х. сидел на стуле со смущенным видом, явно озадаченный веселостью пациентки.
– Прошу тебя, уведи его, – сказала она, увидав, что я вошел. – Я не могу больше, он заставит меня умереть со смеху!
Я проводил оторопевшего профессора. Когда я вернулся к матери, она не дала мне задать вопрос.
– Твой знаменитый профессор больше меня нуждается в уходе, – сказала она. – Он увидал мои настольные часы и, заметив, что они встали, знаешь, что он мне сказал? «Как странно! Заметили ли вы, что ваши часы остановились точно на часе смерти Фридриха Великого?»
В итоге визит этого выдающегося практика не был бесполезен. Но он, несомненно, не предвидел возможности принести больной облегчение, разбудив ее чувство юмора.
Я покинул Берлин через несколько дней, оставляя мать в гораздо лучшем состоянии. Любопытное обстоятельство, объяснение которого я искал напрасно, отметило мое краткое пребывание там: каждый вечер, отправляясь спать, я находил у себя на подушке красную розу. Поскольку никто не мог проникнуть в мою комнату без ключа, мне оставалось заключить, что я внушил нежные чувства одной из горничных этажа.
* * *
Немного спустя после возвращения я получил приглашение на большой костюмированный бал в Альберт-холле. Поскольку у меня еще было время в запасе,
я заказал в Петербурге русский костюм из золотой парчи с красными цветами в стиле шестнадцатого века. Костюм был великолепен: украшенный каменьями и обрамленный собольим мехом, с соответствующей шапочкой, он стал сенсацией. В тот вечер я узнал весь Лондон, и на следующий день моя фотография была во всех газетах. Я встретил на этом балу молодого шотландца, Джека Гордона, учившегося, как и я, в Оксфорде, но в другом колледже. Очень красивый мальчик, похожий на юного индийского принца, он уже был вполне принят лондонским обществом. Привлеченные оба великолепной перспективой открывавшейся нам светской жизни, мы поселились в Лондоне в двух смежных квартирах. Я доверил обстановку мисс Фрит, двум старым девам, столь же любезным, сколь и старомодным, имевшим мебельный магазин на Фулхэм-роуд. Со своими широкими юбками и маленькими кружевными чепчиками, они казались вышедшими из романа Диккенса. Все шло хорошо до того дня, когда я у них потребовал черный ковер. Они, должно быть, приняли меня за дьявола во плоти, поскольку с тех пор, если я приходил в магазин, они исчезали за ширмой, из-за которой я видел два дрожащих кружевных чепчика. Мой черный ковер вызвал подражателей в Лондоне. Эта мода стала даже причиной развода. Одна англичанка завела ковер, а муж нашел его слишком мрачным: «Или я, или черный ковер», – заявил он, наконец. Неосторожный вызов: его жена предпочла ковер.
Однажды днем мне позвонила очень модная особа, пригласившая меня возглавить с ней большой обед, который она давала в Рице. Я согласился и старался как мог, чтобы помочь ей принять избранных гостей из «лондонских сливок». Стол был изыскан, вина лучших сортов, обстановка великолепная, короче, полный успех. Каково же было мое изумление на следующий день, когда я получил счет, доходивший до астрономической цифры!
Дягилев был уже в Лондоне с русским балетом. Павлова, Карсавина, Нижинский выступили с триумфом в Ковент-Гардене. Большинство этих артистов были мне знакомы лично, но особенно живая дружба связывала меня с Анной Павловой. Я видал ее в Санкт-Петербурге, но был слишком молод, чтобы по-настоящему оценить. В Лондоне, когда я ее увидел в «Умирающем лебеде», она меня потрясла. Я забыл Оксфорд, учебу и друзей. День и ночь я мечтал об этом бесплотном существе, заставлявшем весь зал, затаив дыхание, смотреть на сцену. Я был очарован колебанием белых перьев, где вспыхивало кровавое пятно рубинового сердца. Анна Павлова была в моих глазах не просто великой артисткой небесной красоты: это был божественный посланник! Она жила в лондонском пригороде в очень милом доме, Айви-хаусе, куда я часто приходил. У нее был культ дружбы, которую она не без основания считала благороднейшим из чувств. Она дала мне множество тому доказательств в течение нескольких лет, когда я имел счастье часто ее видеть. Она хорошо меня знала: «У тебя в одном глазу Бог, в другом дьявол», – говорила она иногда.
Делегация оксфордских студентов пришла к ней с просьбой танцевать в университетском театре. Поскольку Павлова должна была отправиться в турне и не имела до тех пор свободного вечера, она сначала отказалась, но когда узнала, что это мои друзья, то пообещала, к ярости ее импресарио, вырваться, чтобы исполнить их просьбу. В день спектакля она приехала ко мне со всей труппой. Она хотела отдохнуть перед выступлением, я провел ее в свою комнату и отправился с остальными смотреть Оксфорд.
Вернувшись с прогулки, я увидал перед своей дверью автомобиль родителей девушки, которую мало осведомленные люди считали моей невестой. Я увидал всю семью, спускавшуюся с лестницы с крайне смущенным видом: не найдя меня в гостиной, они поднялись на этаж и, открыв дверь моей комнаты, увидели Анну Павлову, спавшую в моей постели.
В тот вечер Оксфорд исступленно приветствовал Павлову на сцене своего театра.
Со мной к тому времени происходило то, что я сначала принимал за нарушение зрения. В театральном зале, в гостиной или на улице некоторые люди казались мне как бы окутанными облаком. Поскольку это часто повторялось, я обратился, наконец, к окулисту. Обследовав меня очень основательно, он заверил, что не находит никаких отклонений от нормы. Я перестал беспокоиться из-за этого явления до момента, пока не обнаружил его новое и страшное значение.
Обычно раз в неделю, в день, когда мы охотились с собаками, друзья собирались у меня завтракать перед охотой. На одном из таких завтраков я испытал мрачное предчувствие, увидав это странное облако, покрывающее товарища, сидевшего напротив меня. Несколько часов спустя, преодолевая препятствие, этот юноша сильно ударился при падении, и его жизнь в течение многих дней была под угрозой.
Немного спустя друг моих родителей, проезжая Оксфорд, пришел ко мне завтракать. За завтраком я его увидел вдруг в странном тумане. В письме к матери я рассказал ей об этой странности, прибавив, что убежден, что нашему другу угрожает опасность. Несколько дней спустя ее письмо известило меня о его смерти.
Когда я рассказал эту историю оккультисту, встреченному мною в Лондоне у друзей, он не удивился. Это была, сказал он, форма двойного зрения, много примеров которой он видел именно в Шотландии.
Весь год я жил в страхе увидеть ужасное облако, покрывающее дорогое существо. По счастью, подобные случаи прекратились так же внезапно, как и начались.
* * *
Лондонский свет был разделен на множество кланов. Я особенно охотно посещал наименее консервативные, где встречал артистов и где позволялась некоторая свобода поведения. Герцогиня де Рутленд – одна из замечательнейших особ в этих кругах. У нее были сын и три дочери. Я особенно был дружен с двумя из них, Маргарет и Дианой. Одна брюнетка, другая блондинка, обе очаровательные, остроумные и полные фантазии. Невозможно сказать, которая из них изысканнее. Я испытывал обаяние как одной, так и другой.
Леди Рипон, знаменитая красавица царствования Эдуарда VII, была уже женщина в возрасте, с великолепными манерами и еще очень привлекательная, какой англичанка может быть всю свою жизнь. Умная, тонкая, хитрая, она была способна блестяще поддерживать беседу о предметах, незнакомых ей вовсе. В ее характере заключалось много зла, которое она с бесконечной грациозностью скрывала под ангельским видом. Она много принимала в своем великолепном имении в Кумб Курте, в окрестностях Лондона, и обладала уникальным талантом придавать каждому своему приему особенный, свойственный лишь ему характер. Монархи принимались с самым строгим этикетом; политические деятели и ученые находили обстановку серьезную и приличную; для артистов это была безудержная богема, сохранявшая притом всегда утонченность и изысканность. Лорд Рипон, старый завсегдатай ипподромов, не имел никакого интереса к светской жизни и лишь изредка и ненадолго появлялся на приемах у жены. Его голову часто видели внезапно появляющейся над ширмой, за которую она почти тотчас снова ныряла. Их дочь, леди Джульетта Дафф, была так же очаровательна, как и мать, и, как она, любима и уважаема всем своим окружением.