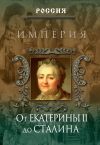Текст книги "История России: конец или новое начало?"

Автор книги: Игорь Яковенко
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 55 страниц)
Ресурсы низших слоев
Российский капитализм, быстро развивавшийся со второй половины XIX века, не состоялся прежде всего потому, что ему не удалось создать себе прочную социальную опору в деревне. Столыпинские реформы, апеллировавшие к индивидуальной инициативе крестьян и призванные мобилизовать их личностные производительные ресурсы, натолкнулись на неприятие сельского большинства, сохранившего приверженность общинным порядкам. Эту неудачу многие до сих пор склонны объяснять специфическими особенностями отечественной народной культуры – ее недостижительностью, нестяжательностью, приоритетом в ней духовных ценностей над материальными, коллективизма над индивидуализмом. Нельзя сказать, что такого рода объяснения беспочвенны, но нельзя согласиться и с тем, что они точны и исчерпывающи.
Во-первых, если почти каждый четвертый крестьянин воспользовался правом выхода из общины, чтобы хозяйствовать индивидуально, то это значит, что ценность коллективизма была в культуре, по меньшей мере, не единственной. Во-вторых, трудно понять, почему «столыпинских помещиков» или, скажем, инициативных крестьян, которые еще при крепостном праве воспользовались предоставленной возможностью торговой и промышленной деятельности, следует считать уступавшиими по части духовности тем, кто никакой хозяйственной инициативы не проявлял. В-третьих, культура недостижительности и нестяжательности получила в стране распространение не столько потому, что отвечала каким-то природным особенностям русского и других населявших Россию народов, сколько потому, что на протяжении веков навязывалась населению государством. В том виде, в каком это государство исторически сложилось, в достижительной культуре низших классов оно не нуждалось. Такая культура не укрепляла, а подтачивала его устои. Поэтому по мере своего появления и проявления она целенаправленно искоренялась.
Последствия этого начали осознаваться задолго до столыпинских реформ, еще при Екатерине II, которая первой среди российских самодержцев начала всерьез размышлять о крестьянском труде и повышении его производительности. Видный екатерининский вельможа князь Голицын, констатируя отсутствие у русских крестьян любви к труду, отдавал себе полный отчет и в причинах такого отсутствия. «Я хорошо знаю, – писал он, – что леность неразлучна с рабским состоянием и есть его результат; продолжительное рабство, в котором коснеют наши крестьяне, образовало их истинный характер и в настоящее время очень немногие из них сознательно стремятся к тому роду труда или промышленности, который может их обогатить»[275]275
Цит. по: Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 1. С. 27.
[Закрыть].
Имея в виду крепостное право, Голицын меньше всего думал о том, чтобы обосновать необходимость его ликвидации. Наоборот, он предупреждал об опасных последствиях, к которым могло бы привести освобождение крестьян, к свободному труду не приученных. Екатерина, судя по всему, это мнение полностью разделяла. Но дело не только в том, что она, понимая пагубность крепостничества, не решилась его отменить. Дело и в том, что императрица распространила крепостное право и на регионы, где раньше его не было. Следовательно, мобилизация личностных ресурсов земледельцев приоритетной задачей для Екатерины не стала. Более того, их индивидуальная энергия при ней подавлялась, их предприимчивость вытравлялась дополнительными стеснениями хозяйственной свободы, которые отнюдь не ограничивались распространением вширь помещичьего крепостного права.
Помещичьи крестьяне не составляли в России большинства: их численность была меньше совокупной численности различных крестьянских групп, принадлежавших государству или непосредственно короне. И именно в екатерининскую эпоху всем им стали навязываться уравнительные переделы земли, которые до того проводились, в основном, лишь в помещичьих хозяйствах. Это был сознательный выбор в пользу одной из двух экономических стратегий, предлагавшихся Екатерине тогдашними аграрными авторитетами. Первая заключалась в ставке на сильных земледельцев, что означало сохранение существовавших в то время прав на покупку и продажу земли и поощрение наметившейся дифференциации крестьянства. Речь шла, говоря иначе, о движении в сторону частной крестьянской собственности на землю – ведь фактически государственные крестьяне и пользовались своими участками как собственники, хотя юридически таковыми не считались. Вторая стратегия предполагала, наоборот, ориентацию на слабых и их поддержку: ее суть как раз и состояла в предписывании от имени государства обязательных земельных переделов, которые ставили бы заслон на пути дифференциации и выравнивали возможности разных групп земледельцев. Императрице предстоял выбор между экономической эффективностью и уравнительной справедливостью. Екатерина предпочла справедливость, которая в глазах тех, кто должен был в ходе переделов передавать свои унавоженные и ухоженные участки нерачительным односельчанам, выглядела верхом несправедливости. И такая политика продолжалась и впоследствии: преемники императрицы пытались довести до конца начатое ею административное насаждение общинно-передельных отношений вплоть до начала столыпинских реформ[276]276
Об административном насаждении общинно-передельных отношений Екатериной II и ее преемниками см.: Чернышев И.В. Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет:
Крестьяне об общине накануне 9 ноября 1906 года. М., 1997.
[Закрыть].
Недостижительность и нестяжательность русских крестьян, равно как и их затянувшееся до XX века неприятие частной собственности, составляли своеобразие их культуры лишь потому, что эти качества формировались принудительно предписанным жизненным укладом. Они укоренялись под влиянием крепостного права и передельной общины, порядки которой постепенно переносились из помещичьих хозяйств на все категории крестьянства.
Сами по себе земельные переделы не были изобретением помещиков и властей. Они стали инициироваться и проводиться самими крестьянскими общинами после того, как рост численности населения начал сопровождаться земельным голодом. При Рюриковичах переделов не наблюдалось, они начались лишь в эпоху Романовых, а укоренились только после окончательного закрепощения крестьян под нажимом помещиков. Но помещики, а затем и государство стали культивировать переделы вовсе не из желания следовать едва зарождавшейся народной традиции и лежавшему в ее основе представлению о справедливости. И не потому, что были озабочены сбережением каких-то других культурных особенностей подвластного им населения. Причина была более прозаичной – удобство и надежность сбора податей.
Уравнительное землепользование позволяло обеспечивать налоговую платежеспособность не только сильных, но и слабых земледельцев, что стало особенно важно после введения Петром I подушной подати: платить ее должны были все без исключения, а ответственными за ее сбор перед государством выступали помещики. Распространение же уравнительности на государственных крестьян диктовалось, помимо фискальных соображений, и стремлением защитить экономические интересы помещиков от конкуренции со стороны энергичных и предприимчивых крестьян, неизбежной при сохранении тех экономических прав и свобод, которыми они располагали и которые позволяли им двигаться в направлении фермерского типа хозяйствования. Освободив дворян от обязательной службы, власть была заинтересована в их хозяйственной жизнеспособности, необходимой для поддержания их роли и влияния в стране, их желания служить опорой трону, даже не служа ему непосредственно.
О том, что культурные и этические соображения в данном случае не доминировали, свидетельствует начавшееся при Екатерине наступление на однодворцев – окрестьянившихся потомков дворян, хозяйствовавших индивидуально, нередко с использованием наемного труда. Вопреки их отчаянному сопротивлению, они тоже загонялись в передельные общины – при том что раньше ни в каких общинах не состояли вообще[277]277
Подробнее см.: Там же. С. 86–92.
[Закрыть]. Екатерина отдавала себе отчет в том, что уровень отечественного земледелия оставлял желать лучшего. Но для его повышения она предпочитала приглашать на пустовавшие земли Поволжья, Урала и Юга немецких колонистов, предоставляя им льготные условия. Личностные ресурсы самих россиян востребованы и мобилизованы не были. Более того, осуществлялась их целенаправленная демобилизация.
Государство, опиравшееся на крепостное помещичье хозяйство, не питало иллюзий относительно предпринимательских талантов и энергии землевладельцев-дворян. Но оно не могло допустить развития в деревне альтернативного, фермерского уклада, который подрывал бы их экономические позиции. Российская государственность во времена Екатерины была достаточно устойчивой, способной отвечать на внешние и внутренние вызовы именно потому, что была самодержавно-дворянской. А от добра, как известно, добра не ищут.
С прагматической точки зрения политика Екатерины и ее преемников имела свои безусловные резоны. Но с точки зрения стратегической деятельность эта, гасившая инициативу наиболее предприимчивых слоев российской деревни, создавала дополнительные социокультурные предпосылки для будущего утверждения в стране большевистского социализма, сделавшего ставку на деревенскую бедноту. Власть «не была обеспокоена тем, что, лишая государственных крестьян права на частное землевладение, она этим действием вызывает всеобщее неприятие частной собственности на землю вообще»[278]278
Кудинов П.А. Предисловие к изданию 1997 года // Чернышев И.В. Указ. соч. С. 17.
[Закрыть].
Русская недостижительность, возведенная консервативными отечественными идеологами в высокий духовный ранг нестяжательности, не была изначально задана уникально-самобытными особенностями культуры. Такого рода человеческие качества – неотъемлемое свойство любых архаичных общностей, проживающих в режиме физического выживания. В России же эти качества искусственно консервировались и насаждались государством посредством административного воспроизводства уравнительной передельной общины в сочетании с крепостным правом. Потому что тип государственности, который в России сложился, только таким способом мог обеспечить свое собственное выживание.
Исторической платой за замораживание личностных ресурсов земледельцев стала не только антисобственническая психология народного большинства, проявившаяся со временем и в городах, которые в ходе пореформенной индустриализации быстро заселялись выходцами из деревни. Платой за это стало и безнадежное отставание отечественного сельского хозяйства – почти на всем протяжении правления Романовых оно не преодолевалось, а усугублялось. В «житницу Европы» Россия превратилась не благодаря росту урожайности, а исключительно за счет расширения посевных площадей на присоединявшихся новых и осваивавшихся старых территориях. В середине XIX века русские крестьяне собирали с каждого гектара почти на треть меньше ржи и пшеницы, чем английские фермеры в XIII столетии[279]279
Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 400.
[Закрыть]. За полтысячелетия урожайность увеличилась в Англии в три раза, между тем как в России за это время она не изменилась[280]280
Там же.
[Закрыть].
Экстенсивное хозяйствование не помешало стране наращивать державное могущество и расширять имперское пространство, ресурсов для этого до поры до времени хватало. Но верно и обратное – державное могущество и постоянное расширение пространства позволяли воспроизводить экстенсивное хозяйствование на приобретавшихся территориях посредством стихийного и принудительного переселения на эти территории русских земледельцев, вместе с которыми распространялся вширь и общинно-уравнительный жизненный уклад. Военно-технологическая конкурентоспособность страны не только подтверждалась успехами имперской экспансии, но и сама себя поддерживала: экспансия позволяла государству приобретать дополнительные природные ресурсы, компенсируя тем самым невовлеченность в хозяйственную жизнь ресурсов личностных, заживо погребенных в передельной общине.
Именно эта община воспроизводила тот массовый человеческий тип, который поставлял обширный жизненный материал не только для романтизации нестяжательности, но и для критики русского работника и его ментальных особенностей. Одни и те же качества разные люди, в зависимости от их собственных ценностей, трактовали либо как проявление повышенной духовности, либо как показатели лености, безынициативности, готовности трудиться только из-под палки. Однако и возвышенная, и обличительная риторика, которые в ходу и сегодня, не столько проясняют, сколько вуалируют природу явления. Важно не то, как оценивать русского работника, а то, какими обстоятельствами были обусловлены его воспеваемые или же хулимые особенности и как сказывались они на развитии экономики страны.
Известно, например, что барщинные помещичьи крестьяне работали на земле лучше и качественнее, чем помещичьи оброчные и государственные. Объясняется это не в последнюю очередь тем, что в барщинных хозяйствах степень использования принудительно-насильственных мер и физических наказаний была в десятки раз выше, чем в других[281]281
Там же. С. 405.
[Закрыть]. Однако на росте урожайности такого рода человекозатратная интенсификация почти не сказывалась; то была интенсификация в границах экстенсивной экономики. Не способствовала она и превращению русских помещиков в предпринимателей: нестяжателями их, правда, не называли, но и достижительная психология – при возможности использовать даровой крепостной труд и физическое насилие над работником – в их среде не формировалась тоже.
Все эти особенности отечественного «человеческого фактора» можно, конечно, объявить производными от определенной культуры. Подобные интерпретации вполне корректны уже потому, что вне культурной обусловленности в мире людей ничего устойчивого, как, впрочем, и неустойчивого, не существует вообще. Но культура, как и все остальное в этом мире, подвержена трансформациям, которые в нашем случае искусственно блокировались государством, пытавшимся строить большое развивающееся общество при сохранении несовместимых с ним общностей локальных, замкнутых, догосударственных.
Государственная политика, будучи зависимой от культуры, полностью ею не определяется. Тем более если культура эта не однородна, а многослойна. Многослойна же она, если речь идет о большом обществе, всегда и везде – по крайней мере, потенциально. Поэтому и государственная политика в нем определяется во многом природой самого государства, ее особенностями. Она диктует ему, на интересы каких групп и слоев населения и, соответственно, на какую культуру, ему следует опираться, чтобы поддерживать свою устойчивость, а интересы каких – маргинализировать, ибо они его устойчивости угрожают. В этом смысле государственная политика настолько же определяется культурой, насколько и определяет вектор ее развития.
Культурологический детерминизм в объяснении политических решений не более продуктивен, чем экономический, социологический и любой другой. Культура крестьянского большинства в России была примерно одинаковой при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, Петре I и Екатерине II, Николае I и Александре II. Не претерпела она существенных изменений и к началу реформаторской деятельности Столыпина. Тем не менее их политика в отношении крестьянского вопроса была разной. Если же российское государство так долго отвергало культуру предпринимательской достижительности, то делало это не потому, что такой культуры в стране не существовало, а потому, что не было в состоянии ни адаптироваться к ней, ни в соответствии с ней себя преобразовать.
О многослойности и многомерности русской культуры свидетельствует не только готовность многих крестьян выделиться из общины, выявившаяся в ходе столыпинских реформ. Об этом свидетельствует также торговая и промыслово-промышленная деятельность оброчных крестьян с конца XVIII столетия: едва для нее появились легальные возможности, как сразу же обнаружились и люди, к ней предрасположенные. О них нельзя сказать, что они были недостижителями и нестяжателями. Но их нельзя было упрекнуть и в лености.
Показательна в данном отношении и артельная организация труда, при которой несколько человек добровольно объединялись в группы для различных работ – строительных, погрузочно-разгрузочных в портах, бурлацкого перегона барж и т. п. Она возникла на стыке общинного коллективистского принципа и чуждого общине принципа вольного найма по контракту, стимулировавшего добросовестную и качественную деятельность. В глазах интеллигенции тяжелый труд бурлаков стал символом эксплуатации, но искать в нем воплощение нестяжательности или лености в голову никому не приходило. Тем более не могла служить иллюстрацией такого рода качеств жизнь вышедших из крестьян русских купцов. В драматургии Островского они представлены не в самом привлекательном виде, интеллигенция усмотрела в их быте и нравах «темное царство» семейного самодержавия, что не было лишено оснований, но нестяжателями или недостижителями они уж точно никем не воспринимались. И «обломовщина» была открыта литературой и публицистикой тоже не в купеческой среде.
Да, городское торгово-промышленное предпринимательство отечественной культурой отторгалось, как отторгалось ею и более позднее предпринимательство сельское в лице «столыпинских помещиков». Но, во-первых, речь идет не о всей культуре, а лишь о культуре большинства. А, во-вторых, инерционность этой культуры в значительной степени была обусловлена тем, что воспроизводивший ее общинно-уравнительный жизненный уклад был насажден государством и поддерживался им вплоть до XX века. Изначально русская культура не обладала никакими особыми свойствами, делавшими ее фатально несовместимой с ценностями индивидуального успеха.
Едва ли не самым весомым доказательством этого может служить тот факт, что наиболее известные купеческие фамилии России вышли из среды старообрядцев. Последние же вряд ли могут быть заподозрены в культурном ренегатстве. В отличие от европейских протестантов, они были не религиозными реформаторами, а, наоборот, православными ортодоксами и противниками реформ. Но в своем практическом поведении – в частности в своем трудовом усердии – последователи Аввакума походили на последователей Лютера и Кальвина. Для этого им, однако, не понадобилось, подобно европейским протестантам, повышать ценностный статус труда и объявлять его земным служением Богу. В полном соответствии с Библией, они толковали его как Божье наказание за грехи, как тяжкую повинность, а не как высокую духовную ценность. И их трудовое подвижничество мотивировалось прежде всего тем, что церковные реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича воспринимались ими как конец «Третьего Рима», единственного на земле богоугодного царства, и предвестие близкого Страшного суда, перед которым следует со всей серьезностью и ответственностью принять предписанное Богом наказание, дабы через страдание максимально очиститься от греха. Впоследствии этот первичный духовный импульс в старообрядческой трудовой традиции кристаллизовался и трансформировался в этику предпринимательского успеха. Но самое важное и показательное заключается все же в том, что старообрядцы были не ниспровергателями национальной культуры, а ее самыми ревностными апологетами. Равно как и в том, что их уклад жизни складывался параллельно государственному и в противостоянии ему. Государство могло их притеснять, могло облагать их двойным налогом, что и делало, но оно не в силах было навязать им то, что навязывало остальным.
Насаждение общинно-уравнительных отношений осуществлялось государством не только при крепостном праве, но и после его отмены. Потому что еще в начале XIX века в пользу такой политики появились дополнительные политические аргументы, казавшиеся весомыми и в пореформенную эпоху. Передельная община стала восприниматься властями как главный оплот против революционных потрясений, обрушившихся на Европу.
Обезземеливание и пролетаризация значительных слоев населения (так называемая «язва пролетариатства»), которыми на Западе сопровождалось развитие капиталистических отношений, не могли не вызывать беспокойства в России. Именно массовая пролетаризация и сопутствовавший ей поначалу рост нищеты рассматривались российскими властителями как главная причина революций и основной источник социализма и коммунизма – новых идей, получивших в Европе широкое распространение и грозивших разрушением ее культурных и цивилизационных основ. Передельная община, обеспечивавшая крестьян земельными участками и, соответственно, гарантированными средствами существования, пролетаризацию исключала. Поэтому, как казалось, она должна исключить и революцию[282]282
О политико-идеологических причинах в пользу сохранения и укрепления общины см.: Чернышев И.В. Указ. соч. С. 129–133.
[Закрыть]. Тем более что уровень жизни населения в относительно стабильной России был выше, чем в переживавших капиталистическую трансформацию – со всеми ее социальными издержками – европейских странах[283]283
Кудинов ПА. Указ. соч. С. 24.
[Закрыть].
Однако после отмены крепостного права и начала индустриальной модернизации с общиной стали возникать проблемы. Развитие капитализма в городе не сочеталось с архаичными формами жизни и труда в деревне. Увеличение зернового экспорта сопровождалось уменьшением крестьянских хлебных запасов и при неурожаях оборачивалось массовым голодом. К тому же численность сельских жителей продолжала быстро расти, земли не хватало, аграрное перенаселение при отсутствии права выхода из общины без ее согласия превращало деревню в котел с горючей смесью, который рано или поздно не мог не взорваться[284]284
К 1914 году избыток рабочей силы в российской деревне достиг 32 млн. человек, что составляло 56 % от всего наличного числа сельских работников (Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 412).
[Закрыть]. Тем не менее самодержавие продолжало держаться за передельную общину, по инерции рассматривая ее как самое надежное противоядие от революции и социалистическо-коммунистических соблазнов. При Александре III (1893) была даже отменена принятая при освобождении крестьян законодательная норма, согласно которой тем, кто полностью выплатил выкупные платежи, дозволялся выход из общины без ее согласия. От этой политики отказались лишь тогда, когда революция, которую с ее помощью надеялись предупредить, стала фактом и когда стало ясно: передельная община не только не выступила заслоном на пути революции, но оказалась встроенным в государство институциональным механизмом, именно ее и обслуживавшим.
Европа, переболев болезнями капитализации, стремительно уходила вперед, превращаясь из сельской в городскую[285]285
В 1890 году доля городского населения составляла в России около 13 %, между тем как в Великобритании – 72 %, в Германии – 47 %, в Австрии, Франции и США – 33–38 % (Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 378). В последующие полтора десятилетия картина существенно не изменилась – перед Первой мировой войной горожане составляли в России чуть более 15 % от общей численности населения (Там же. Т. 1. С. 317).
[Закрыть]. Россия, пытаясь предупредить эти болезни, замораживала личностные ресурсы миллионов людей, искусственно удерживая их в перенаселенной деревне. В результате вместо болезни роста с сопутствовавшими ей буржуазными революциями страна оказалась пораженной неизлечимым недугом распада, ставшим прямым следствием удерживания большинства населения в архаичном состоянии, а страны в целом – в состоянии социокультурного раскола. Поэтому и революция в России получилась в конечном счете не буржуазная, а социалистическая. Точнее – не революция, а всеобщая смута, завершившаяся большевистским переворотом.
Столыпинские реформы начались слишком поздно, чтобы развернуть страну в ином направлении. Потому что слишком велика была накопленная к началу XX века сила исторической и культурной инерции. Можно ли было начать преобразования много раньше, т. е. до социального взрыва, мы обсуждать не беремся, воздерживаясь, как и в других случаях, от поиска в прошлом нереализованных альтернатив реальному ходу событий. Что касается реформ Столыпина, то они интересны не только своей экономической и социальной направленностью. И не только тем, что явились запоздалой попыткой мобилизовать личностные производительные ресурсы деревни, до того почти невостребованные. Они означали, помимо прочего, и признание тупиковости тех притязаний на мессианскую цивилизационную роль, которые стали задавать тон в российской политике под влиянием революционных потрясений в европейских странах, воспринятых в России как начало конца Европы. Сама же Россия стала восприниматься при этом как «центр особой славянской цивилизации, основой которой являются общинные устои»[286]286
Кудинов П.А. Указ. соч. С. 24.
[Закрыть]. От такой цивилизационной альтернативы и отказывался Столыпин.
Это был отказ от деревенской экономической и культурной архаики в пользу продемонстрировавшего свои неоспоримые преимущества европейского пути. Технологическое отставание отечественного сельского хозяйства, втиснутого в передельнообщинные формы, к началу XX века выглядело удручающим. У большинства крестьян не было ни денег, чтобы покупать дорогостоящую сельскохозяйственную технику, ввозимую, как правило, в Россию из-за границы, ни желания осваивать ее: традиционная культура отторгала любые новшества, а иностранные – тем более[287]287
«Несмотря на некоторый рост количества усовершенствованного сельскохозяйственного инвентаря, в 1910 г., по данным специальной переписи, из орудий вспашки более 2/3 составляли деревянные сохи, косули, плуги, имевшие лишь железный наконечник; из орудий рыхления – деревянные бороны составляли 97 %» (Карелин А.П. К стабильности через реформы? // Россия в начале XX века. С. 500). Перепись 1917 года показала, что 52 % крестьян главных земледельческих губерний Европейской России не имели усовершенствованного инвентаря. Его закупали главным образом помещики и крепкие крестьяне, выделившиеся из общины (см.: Там же. С. 231). Этим в значительной степени объясняется и то, что основная масса товарного хлеба производились в России помещичьими и кулацкими хозяйствами, между тем как на долю подавляющего большинства крестьян приходилась лишь четверть зерновой продукции страны (Сметанин С.И. Указ. соч. С. 166).
[Закрыть]. Столыпину предстояло решать ту же задачу преобразования «человеческого фактора», которую в свое время решал Петр I. Правда, с существенной разницей: теперь дело касалось не элитного меньшинства, а подавляющего большинства населения. Петровскими методами, посредством новой милитаризации после завершения длинного цикла демилитаризации проблема не решалась – государство не располагало для этого достаточными властными ресурсами. Оно могло рассчитывать только на постепенное органическое преобразование, для которого, однако, история не предоставила реформатору необходимого времени. Через два десятилетия после гибели Столыпина Сталин приступит к решению той же задачи, реанимируя милитаризаторскую политику Петра. Но он будет делать это, предварительно устранив все «помехи» в лице помещиков, капиталистов (в том числе и сельских) и заменив старый государственный аппарат новым, «рабоче-крестьянским».
Удручающим в начале XX века было и отставание России в области народного образования: несмотря на заметные сдвиги, которые наметились в этом отношении в пореформенный период[288]288
Если в 1850 году грамотность среди мужчин старше девяти лет составляла в России 19 %, то к 1913 году эта цифра возросла до 54 %. Среди женщин соответствующие показатели составляли 10 и 26 % (Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 294). В Австрии, Великобритании, Германии, США, Франции и Японии в 1913 году грамотность среди мужчин была не ниже 81 %, а среди женщин – не ниже 75 % (Там же. С. 383).
[Закрыть], страна вошла в новое столетие с уровнем грамотности западноевропейских стран XVII века[289]289
Там же. С. 294.
[Закрыть]. И одной из причин такого положения дел были все те же претензии на особый цивилизационный статус: власти опасались, что вместе с образованием в деревню проникнет и городская культура, способная поколебать традиционные общинные устои. Идея альтернативной цивилизации сочетала в себе притязания на мировое лидерство с замораживанием личностных ресурсов народного большинства и консервированием их неразвитости во всех отношениях, включая изоляцию этого большинства от книжно-письменной культуры. Во времена Столыпина (1908) постепенный, рассчитанный на десять лет переход ко всеобщему обязательному начальному образованию был все же узаконен, но раскол между образованным и необразованным классами за отпущенное добольшевистской России историческое время преодолеть так и не удалось.
Последующие события покажут, что реформы Столыпина не привели и к изживанию притязаний на создание альтернативной цивилизации. Потому что такие притязания появились не в XIX веке, а гораздо раньше и успели глубоко укорениться в государственном сознании. Поиски самобытной цивилизационной идентичности сопровождали весь период правления Романовых и до европейских революций никакого отношения к сельской передельной общине не имели. Остановимся на этих поисках подробнее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.