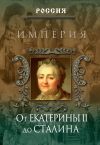Текст книги "История России: конец или новое начало?"

Автор книги: Игорь Яковенко
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 55 страниц)
Возвращение тотема и сталинский утилитаризм
Коллективизация восстановила прежнее размежевание города и деревни, заново и по-новому закрепостив последнюю. Вместе с тем индустриализация резко повысила спрос на рабочую силу в городах, что открывало перед сельскими жителями возможность вырваться из беспаспортного колхозного бытия с его обязательным трудом за неоплачиваемые трудодни. Город и стал для них «светлым будущим», выводившим из темного настоящего. Многие обрели его, убегая от коллективизации еще до учреждения паспортов (1932), другие меняли место жительства после службы в армии, учебы в вузах и других городских учебных заведениях, если в них удавалось поступить, или в результате массовых наборов рабочих на многочисленные стройки. К концу сталинского правления доля горожан в общей численности населения возросла, по сравнению с дореволюционными временами, почти втрое и приблизилась к половине[300]300
Только за период 1929–1933 годов, т. е. всего за четыре года, прирост городского населения составил 12–13 млн. человек. А за десять лет, с 1929 по 1939 год, численность горожан возросла на 27–28 млн. человек (Вишневский А. Серп и рубль. М., 1998. С. 87).
[Закрыть]. Эти выходцы из деревни и образовали массовую социальную базу утвердившегося режима единовластия, благодаря им и их культурным особенностям и стала возможна сакрализация партии и ее лидера.
Образ «отца народов» мог сформироваться только на основе «отцовской» культурной матрицы, т. е. восприятия большого, государственно организованного общества как большой патриархальной «семьи народов». Таким и было восприятие первого поколения советских горожан. То, что новый самодержец не был «природным», именно потому и не имело принципиального значения, что «природный» властитель символизировал воспроизводство неизменности, между тем как коммунистический «отец» выступал символом происходивших в жизни людей благоприятных перемен. И если он выступал при этом от имени партии, то его сакральный статус неизбежно переносился и на нее. Но он переносился на нее и потому, что вступление в партию открывало для наиболее энергичных сельских мигрантов «светлый путь» во власть – результатом кадровой революции 1930-х годов, уничтожившей почти всю старую большевистскую элиту, стал массовый приток в партийный, советский и хозяйственный аппарат выходцев из рабочих и крестьян[301]301
С 1928 по 1932 год численность партии возросла с 1,5 до 3,7 млн. человек, т. е. более чем в два раза (Верт Н. История советского государства. М., 2002. С. 228). В этот же период более 140 тыс. рабочих было выдвинуто на руководящие посты в народном хозяйстве. К концу первой пятилетки «практики» составляли половину руководящих кадров в промышленности. Общее число выдвиженцев из низов составило не менее 1 млн. человек (Там же. С. 220).
А к концу 1930-х годов выдвиженцы из рабочих и крестьян, получившие высшее образование, заполнили освободившееся в ходе массовых репрессий посты в партийном и государственном аппарате (Там же. С. 258).
[Закрыть].
Так произошло очередное возвращение в русскую жизнь древнего тотема – на этот раз в атеистической форме. Как и в правления Ивана IV и Петра I, он был однополюсным. Но, в отличие от тех времен, коллективное народное «мы» в нем присутствовало не только символически, но в определенной мере и организационно. Это присутствие и обеспечивалось коммунистической партией, представлявшей усеченный второй полюс тотема. Она не охватывала всю народную общность, далеко не все в стране разделяли ее идеи, но доступ в нее с помощью партбилета был открыт для многих. Те же, кто в нее попал или хотел попасть, готовы были, вслед за Лениным, воспринимать ее как «ум, честь и совесть нашей эпохи». Реально тотем оставался однополюсным, надличную волю партии дозволялось выражать только ее вождю, которая ему одному и считалась ве́домой, но партбилет предоставлял возможность приобщения к этой воле и соучастия в ее жизневоплощении.
Учитывая, что широкий доступ в партию и, соответственно, путь к карьере выходцам из низов был открыт в сталинскую эпоху, именно с нее и следует вести отсчет истории партии как сакрального института. Именно при Сталине партия и ее вождь стали считаться застрахованными от ошибок – Ленин их не только не исключал, но считал неизбежными и готов был публично признавать. При Сталине же из партии были устранены люди, считавшиеся Лениным ее главным достоянием и составлявшие в совокупности тот «тонкий слой профессиональных революционеров», которые, по его мнению, одни только и были способны управлять страной. Поэтому даже сталкиваясь с жестким противодействием своей позиции в Центральном комитете, Ленин старался их в руководящих органах партии во что бы то ни стало сохранить. Но организация, лидеры которой ведут публичную полемику по поводу «генеральной линии», не может претендовать на сакральность тотема. У сакрального института могут быть враги – в том числе и внутри него, и тогда они подлежат уничтожению, – но внутренние разногласия и несогласия с вождем в нем исключаются по определению. «Ленинская гвардия» этому требованию не соответствовала. Сталинские новобранцы – соответствовали вполне.
Уже цитировавшийся выше Эдгар Морен отмечает, что сакрализация партии стала возможной лишь после того, как политики в ней были заменены аппаратчиками. «При жизни Ленина еще сохранялось первенство политбюро над аппаратом партии <… > Со смертью Ленина это <…> положение нарушилось. Медленно, неуклонно Сталин, как хозяин аппарата <… > подчиняет себе политических руководителей, а затем уничтожает их, и с этого времени уже аппарат делает политиков»[302]302
Морен Э. Указ. соч. С. 44–45.
[Закрыть]. Именно партийный аппарат, ориентированный на беспрекословное исполнение воли вождя, был максимально заинтересован в сакрализации партии, потому что тем самым он сакрализировал и свою собственную роль. Это давало ему уверенность в правильности проводимых в жизнь решений, какими бы абсурдными они ни были, и возможность объявлять крамолой любые сомнения и колебания. «Для аппаратчика Партия есть социоантропоморфное существо, которое содержит в себе сознание Пролетариата и всеведение марксизма <…> Аппаратчик в полном смысле принадлежит партии и благодаря ей становится обладателем частицы ее трансцендентальной силы. Он целиком зависит от Партии, но именно эта зависимость дает ему в глазах населения авторитет Партии»[303]303
Там же. С. 64–65.
[Закрыть].
Остается лишь добавить, что сам аппарат мог стать таким только в результате определенной кадровой политики, т. е. при комплектовании его из носителей доличностной и доправовой культуры, которых миллионами поставляла в советские города коллективизированная советская деревня. Партийное государство, ставшее воплощением советско-социалистического идеала, – это государство окрестьяненного и привилегированного по отношению к деревне города. Из деревни оно заимствовало не только «отцовскую» культурную матрицу. Оно заимствовало из русского сельского мира и общинную модель жизнеустройства, перенеся ее на большое общество.
Подобно общине, это государство отторгало частную собственность и даже сумело ее уничтожить.
Подобно общине, это государство «безвозмездно» взяло на себя определенные социальные функции, существенно их расширив и возведя в ранг «преимуществ социализма» (бесплатное здравоохранение и образование, предоставление жилья, пенсионное обеспечение и др.), но безоговорочное предпочтение в данном отношении отдавалось городу.
Подобно общине и ее замкнутому укладу, это государство изолировало страну от мира, противопоставив советское коллективное «мы» тому, что именовалось «враждебным капиталистическим окружением».
Подобно общине, это государство устраивало регулярные переделы – с той, правда, немаловажной разницей, что перераспределялись не земельные участки, а должности и имущество «врагов народа».
Но большая коммунистическая община, в отличие от ее прообраза, была лишена собственной, автономной от государства самоорганизации. Именно потому, что была государственной.
Эта община представляла собой совокупность атомизированных индивидуумов, принудительно и – одновременно – идеологически скрепленных обручем государственного коллективизма. Он не воспроизводил коллективизм локальных сельских миров, который большевики таковым не считали вообще. То, что подлежало коллективизации, причем не только в деревне, но и в городе, воспринималось ими как нечто буржуазно-индивидуалистическое и даже анархическое. Но если насчет буржуазности коммунистические идеологи ошибались, то насчет анархизма были не так уж далеки от истины. Россия вовсе не случайно стала родиной этого идеологического течения (в лице Михаила Бакунина и его последователей) еще до того, как стала родиной «победившего социализма». Локальный общинный коллективизм и в самом деле был противогосударственным по причине своей догосударственности. Поэтому сталинскую коллективизацию можно рассматривать как его разрушение и раздробление на атомизированные человеческие единицы ради их огосударствления. И осуществить это было легче по отношению к тем «атомам», которые оказывались пространственно отделенными от локальных сельских миров, будучи связаны с ними лишь воспоминаниями о прежнем образе жизни и неприятием новой колхозной реальности.
Атомизированные индивидуумы, выброшенные в город из традиционного жизненного уклада и оставшиеся при этом носителями традиционной патриархальной культуры, были благодатным человеческим материалом для сакрализации и образа единоличного правителя, и возглавлявшейся им партии, и воплощавшегося в их деятельности исторического закона. Оставался, однако, открытым один немаловажный вопрос, а именно: как такой человеческий материал воспроизводить? Или, говоря иначе, каким образом уже воплощенный советско-социалистический идеал сделать идеалом будущего?
Этот вопрос был ахиллесовой пятой сталинской системы. Ответа на него она не содержала, а от тех ответов, которые давал сам Сталин, уже его ближайшие преемники предпочли отказаться. Они имели на то разные причины, но не последней среди них была невоспроизводимость того массового человеческого типа, на который сталинская система опиралась.
Второе и последующие поколения горожан культурный код своих отцов и дедов не наследовали или наследовали во все более ослабленном виде. Городское настоящее, которое для отцов было обретенным будущим, детьми таковым не воспринималось. Поэтому воплощенный советско-социалистический идеал удовлетворить их не мог. Поэтому же с серьезными искушениями должна была столкнуться и светская вера в открытый наукой исторический закон. И подрывалась она как тем, что коммунистический режим мог считать своей заслугой (развитие науки и народного образования, обеспечивавшее конкурентоспособность государства в мире), так и тем, чем гордиться не приходилось (низкий уровень народного благосостояния). Последнее обстоятельство в заключительные годы своего правления ощущал как серьезный вызов и Сталин, пытавшийся ответить на него ежегодным снижением цен, которое происходило в один и тот же день первого марта и призвано было сохранять в народе ощущение жизненной перспективы. Тем более остро воспринимался он послесталинскими лидерами, которым сакральный статус «вождя народов» история по наследству не передала. А без такого статуса трудно было поддерживать и светскую веру в исторический закон.
Дело не только в том, что для образованной части общества постепенно становилась очевидной несовместимость сакрализации научной истины с самой природой этой истины, подверженной, в отличие от религиозной, изменениям и на окончательность не претендующей. Дело и в том, что светская вера, тоже в отличие от религиозной, нуждается в эмпирических подтверждениях своей истинности. Победившему социализму, объявленному самым передовым общественным строем, предстояло обнаружить свои жизненные преимущества перед капитализмом. Первое поколение горожан было этим не озабочено, удовлетворяясь преимуществами своего положения по сравнению с положением односельчан в покинутой деревне. Однако следующее поколение такой точки отсчета для сравнения уже не имело. Кроме того, превосходство социализма должно было проявляться и в ускоренной реализации общемирового закона за пределами СССР, т. е. в становлении нового общественного строя в планетарном масштабе. Такого рода эмпирические подтверждения научной истинности «всепобеждающего учения» были тем более необходимы, что в самой советской России исторический закон был реализован с существенным отступлением от его буквы и духа.
Согласно марксистскому учению, социализм исторически вырастает из зрелого, развившего все свои силы капитализма и на созданной им основе. Крестьянская Россия этому условию явно не соответствовала, что нашло свое выражение и в том, что после захвата власти большевики рассматривали Октябрьскую революцию как первый акт революции мировой: судьба социализма в России ставилась в зависимость от победы социализма в Европе. Мировой революции, однако, не случилось, и на смену этой концепции пришла концепция «строительства социализма в одной стране». Но и после того, как проект был объявлен воплощенным и советско-социалистический идеал стал реальностью, западный капиталистический мир по пути первопроходца не двинулся.
Запад не пошел по этой дороге даже под влиянием впечатляющей победы СССР над гитлеровской Германией и образования мирового «социалистического лагеря». Зона коммунистического эксперимента расширялась, охватив Восточную Европу, Китай и некоторые другие страны, но, вопреки историческому закону, не за счет развитого капиталистического мира. Для светской коммунистической веры данное обстоятельство тоже станет со временем серьезным испытанием, поскольку преимущества социализма в глазах советских людей будут становиться все более призрачными, а преимущества капитализма – все более очевидными.
Но все это проявится уже после смерти Сталина. При нем же коммунистическая государственная система была достаточно прочной и своих слабостей почти не обнаруживала. На короткий срок Сталину действительно удалось создать новое историческое время, в котором прошлое профанировалось, а настоящее сакрализировалось – не потому, что было самодостаточным и самоценным, а потому, что предвосхищало планетарное будущее. Однако такое опережение мирового времени, будучи специфическим способом форсированного преодоления отставания от него, вело к выпадению из этого времени и, в конечном счете, к еще большему отставанию. Потому что опережающее коммунистическое время не имело собственного культурного качества, как не обладали им и выброшенные в город советские сельские мигранты. Такое время могло существовать только в жестко фиксированном и изолированном от внешних воздействий пространстве – в открытой стране необоснованность его авангардистских притязаний быстро стала бы очевидной. И оно могло быть только временем перманентного большого террора: без постоянной актуализации образа врага самоизоляция в «осажденной крепости», особенно после победы в войне, не выглядела бы оправданной.
Показательно, что маховик этого террора был раскручен именно тогда, когда, согласно марксистским учебникам, для массовых репрессий исчезли какие-либо основания. Большевистский «красный террор» возник не при Сталине, а при Ленине. Он, как и сталинский, тоже был юридически беззаконным, если понятие законности вообще применимо по отношению к массовому террору, и мотивировался исключительно ссылками на закон исторический, согласно которому переход от капитализма к социализму предполагает насильственное подавление неизбежно противящихся такому переходу «эксплуататорских классов». И этот террор, осуществлявшийся по социально-классовому принципу, тоже не различал правых и виноватых, потому что дворянское или буржуазное происхождение уже само по себе считалось виной. Но после того как социализм был объявлен победившим, а «эксплуататорские классы» ликвидированными, репрессии лишались доктринального обоснования. Несовместимой с «торжеством победившего социализма» была и единоличная диктаторская власть. Тем не менее она в стране утвердилась и вновь запустила механизм массового террора, без которого сталинский режим существовать не мог.
Люди, знакомые с историческим законом не понаслышке, лучше других были осведомлены о том, что воплощение его в жизнь личной диктатуры не предполагало. Они-то, наверное, и проголосовали против Сталина на «съезде победителей» при выборах Центрального комитета. Но они могли позволить себе только тайный протест: с трибуны съезда Сталин ничего, кроме одических восхвалений, не услышал. Несколько сот делегатов выступили против диктатуры, когда она – при их непосредственном участии – уже стала фактом. Пройдет несколько лет, и почти все делегаты этого съезда будут уничтожены. Но истреблены будут не только они. Сталин не мог чувствовать себя уверенно, пока сохранялись старая большевистская элита и прямо или косвенно связанный с ней слой функционеров. Большой сталинский террор – это выкорчевывание из управленческих структур определенного человеческого типа. Он потому и был произвольным, что никаких формально-юридических обвинений репрессированным даже по советским законам предъявить было нельзя. Они уничтожались как потенциальные противники режима, как «двурушники» (новая ситуация требовала нового языка), т. е. скрытые, еще не проявившие себя оппозиционеры.
Но дело было не только в том, что Сталин считал большевистскую элиту ненадежной. И даже не только в том, что, заменяя ее выдвиженцами из низов, он укреплял свои позиции в окрестьяненном городе. Ведь репрессии продолжались на всем протяжении сталинского правления, включая и послевоенный период, когда после одержанной Советским Союзом победы власти вождя ничто угрожать не могло. И причина этого именно в том, что сталинская система, объявив себя воплощенным идеалом, могла лишь воспроизводить себя, но была не в состоянии реализовать идеал более высокий. Разумеется, о коммунизме и его неизбежном торжестве говорить продолжали, как продолжали напоминать и о потенциальных возможностях социализма: еще до войны Сталин выдвинул задачу догнать и перегнать капиталистические страны по производству продукции на душу населения[304]304
«Теперь, когда СССР сложился как социалистическое государство <…>, – говорилось в резолюции XVIII съезда партии (1939) по докладу Сталина, – мы можем и должны во весь рост практически поставить и осуществить решение основной экономической задачи СССР: догнать и перегнать также в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соединенных Штатов Америки, окончательно решить эту задачу в ближайший период времени» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 5. С. 340).
[Закрыть]. Но реальных улучшений люди не ощущали – не только в разоренной и продолжавшей разоряться деревне, но и в городе. Война заставила их забыть о своих надеждах и ожиданиях. После победы они вновь актуализировались.
В послевоенном СССР нарастало скрытое недовольство, которое лишь отчасти гасилось ежегодными снижениями цен и кинематографическим благополучием кубанских казаков. Об этом можно судить, например, по опубликованным в последние годы письмам советских людей руководителям страны. То было недовольство не строем, не режимом, не системой, которое появится позже, а тем более не «отцом народов» – единственным, как казалось, кто способен защитить от незнавшего удержу большого и малого начальства и не делает это лишь потому, что правду от него скрывают. То было недовольство повседневным бытием, которое так контрастировало с увиденным в освобожденной от гитлеризма Европе и которое, как люди успели узнать в советской школе, оказывает решающее воздействие на сознание, а значит – и на уровень «социалистической сознательности», к повышению которого партия не уставала призывать[305]305
«По диалектике указано, – писал, например, в правительство колхозник Иван Кузьмич Кириченко в 1948 году, – материальная жизнь общества определяет сознание. Какое же будет сознание у людей, когда нет этой материальной жизни для общества? <…> Пора уже понять, всем и каждому, что дело так не пойдет, настроение нехорошее у народа – это факт, а не сводки брехунов <…> Может быть я не понимаю, может это политика, но кому она нужна эта политика, если она приводит к недоеданию? (Попов В.П. Крестьянство и государство (1945–1953). Париж, 1992. С. 201–203).
[Закрыть].
Показательные репрессии позволяли объяснять тяготы жизни наличием внутреннего врага. Они же давали возможность сохранять контакт с «отцовской» культурной матрицей: репрессии против представителей советской элиты, находившейся между «отцом народов» и самим народом, этой матрице вполне соответствовали. Говоря иначе, репрессии позволяли консервировать сложившийся режим как воплощенный идеал, отодвигая более высокие идеалы в неопределенное по срокам будущее и лишая их актуального содержания.
После смерти Сталина с той же проблемой столкнется Хрущев. Его обещание построить коммунизм за два десятилетия станет предметом насмешек. Между тем он правильно понял, что отказ от сталинского террора и сопутствовавшего ему конструирования образа врага требует актуализации образа будущего: в противном случае лишалось будущего само советское государство, равно как и его идеология. Сталин мог позволить себе о будущем не думать по той простой причине, что образ врага и перманентные репрессии давали ему возможность воспроизводить настоящее, интерпретируя его как будущее всего человечества. Тем более что после войны советско-социалистический идеал стал реальностью и в других странах.
Сталинский вариант отечественной государственности вызывает, конечно, ассоциации с теми ее формами, которые имели место в России во времена Ивана Грозного и Петра I. Репрессии против большевистской элиты напоминают антибоярский произвол опричнины. Без труда просматривается в деятельности Сталина и преемственность с государственным утилитаризмом Петра, превратившего не только заимствованные им зарубежные научно-технические достижения, но и всю страну и ее население в средство достижения провозглашенных им целей. Коммунистический руководитель имел все основания считать себя последователем того и другого. Но он был из тех учеников, которые, идя по пути учителей, значительно их превосходят.
Для Ивана Грозного опричный террор был инструментом экономического и политического ослабления боярства и упрочения единоличной власти, а не постоянным способом воспроизводства государственности: просуществовав несколько лет, опричнина была упразднена. Петр же для устрашения своих явных или потенциальных противников мог устраивать массовые казни восставших стрельцов, казаков и крестьян, лишать людей жизни исключительно по подозрению, не обременяя себя поиском бесспорных доказательств, но массового превентивного террора с использованием заведомо ложных обвинений при нем не наблюдалось.
Сталинский государственный утилитаризм отличался от петровского тем, что превратил в средство поддержания политической устойчивости не только жизни людей, но и произвольное лишение их жизни. Это был утилитаризм жертвоприношений на алтарь режима, преподносимых как возмездие его противникам. Он предполагал наличие в стране скрытых врагов, которое, в свою очередь, требовало наглядных подтверждений посредством непрекращавшихся разоблачений. Это был, говоря иначе, утилитаризм, нуждавшийся в имитации внутренних угроз, но – лишь постольку, поскольку сталинский режим был основан на имитации легитимировавших его идеалов.
Петр I в таких имитациях не нуждался. Он открыто заявлял о своих целях и потребных для их осуществления средствах. Цель – строительство конкурентоспособной военной державы, средства – заимствование и освоение европейских знаний и технологий и принудительная милитаризация жизненного уклада населения, т. е. превращение его самого в средство достижения цели. Сталин, обосновывая свои действия, тоже ссылался на отставание от Запада, которое необходимо в кратчайший срок преодолеть. Но сталинское «догнать и перегнать» не было самоцелью, идеалом. Идеалом было утверждение, защита и распространение на другие страны «самого передового общественного строя». Однако прогрессивность последнего предстояло демонстрировать и доказывать, причем не только новаторскими полетами через Северный полюс в Америку и возведением самых больших в мире заводов в фантастически быстрые сроки. И даже не только победой над сильнейшей в мире гитлеровской армией. Демонстрации и доказательства должны были касаться и повседневной жизни людей, их благосостояния и самоощущения. Но это и требовало имитаций. Речь идет не только о сокрытии информации о реальном положении дел и ее искажении, что обеспечивалось благодаря закрытости страны и государственной информационной монополии. Речь идет и о том, что имитацией был и сам воплощенный в СССР советско-социалистический идеал, в котором тираническая диктатура представала триумфом «подлинного народовластия», торжеством «социалистической законности» и невиданной до того полнотой гражданских прав.
Этот идеал включал в себя все идеалы, которые когда-либо выдвигались в стране и мире. В нем можно обнаружить и бледные следы общинно-вечевой традиции (колхозные собрания вместе с другими проявлениями советского коллективизма, да и сама власть советов), и всеобщее согласие времен первых Романовых («морально-политическое единство социалистического общества»), и демократизм (всеобщие и равные выборы в советы), и даже либерализм (конституционные гарантии прав и свобод). Но все это были фасадные идеалы, за которыми скрывалась монопольная и ничем не ограниченная власть коммунистической партии и ее руководителя. И все они выступали как производные от идеала коммунистического (тоже фасадного), ставшего светским аналогом религиозной веры и имитировавшего движение от настоящего к будущему.
Сталинский утилитаризм – это утилитаризм идеологический. Петр I, используя унаследованную им «природную» самодержавную власть, превратил страну и ее население в средство достижения реформаторских целей. Сталин превратил в средство легитимации своей неограниченной власти, лишенной любых известных источников легитимности, сами цели. Все, что происходило в стране, объявлялось или их конкретным воплощением, или приближением к ним. Неудачи и поражения при этом исключались. Их можно было либо представить как удачи и победы, либо списать на деятельность врагов, которая к природе социалистического строя никакого отношения не имеет[306]306
Нельзя не согласиться с исследователем, который именно этой двойной имитацией идеалов (принципов) и практики их воплощения объясняет террористический характер сталинской системы, предполагавший постоянное воспроизведение образа врага. «Клевета жизненно важна для системы, которая лжет сама о себе и поэтому должна безжалостно изобличать всех тех, кто не только ее изобличает, но даже обнаруживает частичку лжи, приподнимает краешек занавеса. Системе по сущности ее жизненно необходимы подлецы, фашисты, предатели» (Морен Э. Указ. соч. С. 58). Прав, на наш взгляд, автор и в том, что именно эта особенность системы диктовала необходимость сакрализации партии как организации, стоящей «выше принципов и действительности» (Там же. С. 74).
[Закрыть]. Сегодня мы бы назвали это политическими технологиями. В сталинскую эпоху таким языком еще не пользовались.
Но идеологический утилитаризм – это не только освящение возвышенными идеалами любых действий власти. Он, как свидетельствует коммунистический эксперимент в СССР и других странах, предполагает и постоянную корректировку промежуточных идеалов при сохранении в первозданном виде идеала конечного, к реальной жизни отношения не имеющего. Такого рода корректировки тоже начались не при Сталине. Достаточно напомнить о том, как менялась при Ленине крестьянская политика большевиков, причем все эти перемены получали доктринальное обоснование, соизмерялись с целями социалистического строительства. Так было при переходе от союза со всем крестьянством против помещиков к классовой политике комбедов, от комбедов к «союзу с середняком» и продразверстке, и, наконец, от продразверстки к продналогу, т. е. к НЭПу. А после смерти Ленина фактически началась ревизия базовых идеологических принципов марксистского учения: от адаптации исторического закона к реалиям крестьянской России перешли к пересмотру самого закона.
С этим законом были не совместимы ни идея строительства социализма в одной стране, пришедшая на смену идеологии мировой революции, ни, тем более, успешное завершение такого строительства. Не сочеталось с ним и смещение во второй половине 1930-х годов идеологических акцентов от «пролетарского интернационализма» к «советскому патриотизму». Мы говорим не о том, что исторический закон был верен, а Сталин его исказил. Эту иллюзию, воодушевлявшую отечественных «шестидесятников» и всех сторонников «социализма с человеческим лицом» в других странах, еще предстояло изжить. Мы говорим лишь о том, что сталинская система стала реальностью вопреки «единственно верному учению». А так как последнее в подлинном виде в истории не реализовалось, то сталинскую «подделку» можно считать более реалистичной, чем подлинник. По крайней мере для тех стран, где на какое-то время утвердились режимы сталинского типа.
Возвращаясь же к нашей теме, еще раз подчеркнем, что идеологический утилитаризм означал не просто инструментальное использование идеологических оснований режима, но и периодическую конъюнктурную смену самих этих оснований. Рано или поздно столь вольное обращение с историческим законом (точнее – с тем, что таковым считалось), продолжавшееся и после Сталина, не могло не подорвать веру в его научную истинность. Ведь светская вера, как и религиозная, не может выдержать постоянных отступлений от канона. Но при Сталине ее еще удавалось поддерживать.
О социальных и культурных предпосылках, благодаря которым это стало возможным, мы подробно говорили выше. Но была и еще одна причина, которой мы пока почти не касались. Она заслуживает отдельного рассмотрения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.