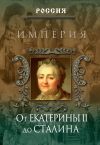Текст книги "История России: конец или новое начало?"

Автор книги: Игорь Яковенко
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 55 страниц)
Тень исторического закона продолжала, как и прежде, нависать над теми, кто осмеливался реально демонстрировать критическое отношение к коммунистической системе, ее идеологии или конкретным действиям верховной партийной власти и ее персонификаторам. Таким образом, юридический принцип универсального значения не приобретал, что наиболее наглядно проявлялось в сохранявшейся выведенное™ партии (точнее – ее руководства) за пределы его действия. Подобно российским самодержавным императорам додумского периода, она продолжала стоять над законом, но, в отличие от них, эту свою позицию юридически не фиксировала. Не обнаруживала она и свойственного последним российским монархам стремления избегать, по возможности, отступлений от действующих юридических норм.
Порой единичный факт лучше характеризует природу общественного явления, чем любые развернутые обоснования. Таким фактом во времена Хрущева стала история валютчика Яна Рокотова. Нелегальное хождение долларов Хрущеву показалось настолько опасным для системы, что он настоял на принятии закона о смертной казни за подобные преступления и подведении под этот закон дела Рокотова. В результате последний был расстрелян вопреки действовавшей юридической норме, согласно которой закон обратной силы не имел. Для потомков же сохранилась фраза Хрущева, которая лучше, чем что бы то ни было, выявляет и природу «социалистической законности», и ее границы. Когда ему намекнули насчет юридической некорректности его желания наделить закон обратной силой, он гневно воскликнул: «Мы над законами или они над нами?»[348]348
О модельном значении этого эпизода для понимания советской правовой теории и практики см.: Фурсов А.И. Коммунизм как понятие и реальность // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 2.
[Закрыть].
Страна по-прежнему удерживалась коммунистическим руководством в собственном историческом времени, альтернативном мировому, «капиталистическому». Но она удерживалась в нем иначе, чем при Сталине. Последний, доведись ему иметь дело с Рокотовым, при желании нашел бы возможность расстрелять его, не обременяя своих юристов поиском соответствующей юридической нормы и не смущаясь ее отсутствием. Послесталинские же лидеры пытались соединить несоединимое – законность и гарантированные ею права и свободы граждан с надзаконной экономической, политической и идеологической монополией на власть. Это значит, что права и свободы, равно как и законность, должны были исключать не только любое противодействие власти, но и любое открытое проявление инакомыслия по отношению к ней. Проблема, однако, заключалась в том, что претензии на привлекательность социалистического образа жизни не позволяли о такого рода ограничениях говорить вслух.
Поэтому послесталинские руководители, отказавшись от сталинской имитации гражданской войны, не могли отказаться от имитации «всенародной поддержки» своей политики или, что то же самое, всенародного добровольного отказа от права критики «своего» государства и выражения недовольства им. Но такая имитация могла претендовать на убедительность только в том случае, если бы в стране по-прежнему не было людей, понимавших права и свободы иначе, чем официально предписывалось, и готовых свое понимание не скрывать. Между тем такие люди стали в СССР появляться.
История никогда не повторяется в деталях и подробностях. Но в чем-то существенном она повторяется. По крайней мере в тех странах, где вопрос о сочетании государственного порядка и свободы остается проблемой. Послепетровская демилитаризация, осуществлявшаяся самодержавной властью, сопровождалась формированием отечественной интеллигенции, поставившей под сомнение сам принцип самодержавного правления. Точно также и послесталинская демилитаризация привела к появлению интеллигенции, усомнившейся в исторической прогрессивности советско-социалистического жизнеустройства. Однако теперь, чтобы бросить вызов государственной системе, ее представителям вовсе не обязательно было становиться революционерами.
С формально-юридической точки зрения власть советских лидеров была гораздо более уязвимой, чем власть их самодержавных предшественников. Те являлись неограниченными властителями по закону. Коммунистические руководители официально провозглашать себя таковыми не могли уже потому, что претендовали на воплощение демократического принципа, причем более полное и последовательное, чем где-либо и когда-либо в мире. Попытка – в новой Конституции 1977 года – придать своему полновластию юридическую форму узакониванием роли КПСС как «руководящей и направляющей силы советского общества»[349]349
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1978. С. 6.
[Закрыть] в данном отношении ничего не меняла. Ведь юридически необоснованными оставались и само право на «руководящую роль», и сохранявшаяся претензия партии на надзаконный статус[350]350
В этом смысле показательно конституционное положение, согласно которому «все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР» (Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 6). Эта уступка правовому принципу не относилась ни к партии в целом, ни к ее руководящим структурам, которые «партийными организациями» не именовались, ни к ее лидерам.
[Закрыть], и властная монополия ее лидеров. Но это означало, что никаких формально-юридических оснований для запрета на критику в свой адрес и в адрес системы в целом у коммунистических руководителей не было. Тем более если они хотели конкурировать с тем пониманием законности и гражданских прав, которое утвердилось на Западе.
Подписав Хельсинские соглашения, советское руководство продемонстрировало готовность с таким пониманием считаться. Но соблюдать эти договоренности, не подрывая устоев системы, оно не могло. Не могло оно, соответственно, терпимо относиться и к возникшему в СССР еще раньше правозащитному движению, которое получило возможность апеллировать к хельсинским документам. Однако правовая основа для противостояния защитникам прав граждан у советского социализма отсутствовала. Не в состоянии он был и создать ее, о чем со всей очевидностью свидетельствовала и уже упоминавшаяся Конституция СССР 1977 года.
В этой Конституции права и свободы советских людей были продекларированы в максимально широком наборе, значительно превышавшем не только их перечень в сталинской Конституции (тоже в данном отношении не скупой), но и в аналогичных документах западных стран. Однако в тех случаях, когда речь шла о взаимоотношениях граждан и государства, декларации сопровождались ограничительными оговорками: права и свободы могли использоваться только «в соответствии с целями коммунистического строительства» или «в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя»[351]351
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 18.
[Закрыть]. Так юридический закон «юридически» подчинялся закону историческому. Или, что то же самое, право подчинялось идеологии. Понятно, что соответствие или несоответствие «интересам народа» и «целям укрепления и развития» на строгий юридический язык непереводимо, а потому у властей сохранялась полная свобода интерпретации того или иного действия как конституционного либо неконституционного.
Однако дефицит правовой конкретности был на руку не одним лишь властям. Его стали использовать и правозащитники, которые могли теперь апеллировать не только к хельсинским договоренностям, но и к советской Конституции: чтобы защищать продекларированные в ней права человека, вовсе не обязательно было выступать против социализма и коммунизма. Тут-то окончательно и выяснилось, что коммунистическая система, отказавшись от сталинской версии «социалистической законности», на правовом поле оказалась беспомощной. Защищаясь от критики, она вынуждена была лишать свободы людей, которые на ее идеологические и политические устои не покушались, а просто говорили вслух о том, чего, по официальной версии, в стране не было и быть не могло – например, о цензуре[352]352
В этих целях власти использовали внесенные еще в 1966 году дополнительные статьи Уголовного кодекса, предусматривавшие уголовные наказания за «распространение измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и за «организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок».
Но эти дополнения не стыковались с декларированными конституционными правами и свободами граждан (во время принятия новых законов действовала еще сталинская Конституция), что лишний раз демонстрировало несовместимость советской государственной системы с последовательным проведением юридически-правового принципа. Подробнее см.: Козлов В.А. Крамола: Инакомыслие в СССР во времена Н. Хрущева и Л. Брежнева (по материалам Верховного суда и Прокуратуры СССР) // Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 70–71.
[Закрыть]. Правозащитники, иными словами, ставили под сомнение соответствие фасада системы и жизни за фасадом. Но публичного раскрытия этой своей главной тайны система допустить не могла.
Советские лидеры не могли, однако, признаться и в том, что способны лишать людей самого права на такое раскрытие, равно как и права обращаться к властям и гражданам с призывами «жить не по лжи» (А. Солженицын). Поэтому от фигур масштаба Сахарова или того же Солженицына власть отделывалась принудительной изоляцией или высылкой за рубеж, никакими законами не предусмотренными вообще. Ведь привлечение таких людей к уголовной ответственности еще больше подрывало бы и без того малопривлекательный образ СССР в мире. Что касается советских вольнодумцев, столь широкой известностью не защищенных, то их либо преследовали в судебном порядке на полузакрытых процессах, либо насильственно отправляли в психиатрические лечебницы, не только не признаваясь в этом, но и отметая любые на сей счет обвинения и объявляя их клеветническими.
Таков был исторический итог противоестественного скрещивания советского социализма с законностью и правом. Гибрид получился явно нежизнеспособным: уже сам факт, что многие свои действия власти предпочитали скрывать, свидетельствовал о несоответствии коммунистической системы тем ценностям и идеалам, которым она хотела бы выглядеть соответствовавшей. От вызовов времени она могла отгораживаться только увеличением скрываемой информации и откровенной дезинформации. И это тоже были симптомы глубокого системного кризиса.
Большинством населения они не воспринимались так остро, как диссидентами-правозащитниками и осведомленными об их деятельности – благодаря самиздату и зарубежным радиоголосам – более широкими слоями советской интеллигенции. Но системный кризис именно потому и являлся системным, что обнаруживал себя не в каком-то одном, а в самых разных проявлениях, о которых мы говорили выше. И в той или иной степени его последствия затрагивали почти всех.
Советские руководители пытались ответить на новые внешние и внутренние вызовы, избегая назревшей социально-политической модернизации системы. Они смогли искусственно продлить ее существование, но остановить ее движение в исторический тупик им было уже не по силам. Тем более что кризис обнаруживал себя не только в увеличивавшемся несовпадении фасадного и нефасадного социализма, которое постепенно фиксировалось массовым сознанием. Это все более глубоко осознававшееся несовпадение рано или поздно должно было сказаться и на базовой опоре системы, а именно – на самой коммунистической идеологии.
18.4Конец атеистического средневековья
Целевые абстракции будущего могут восприниматься сознанием людей только в двух случаях: или когда они переносят идею рая и спасения в мир иной, или когда эта идея – в светском варианте – соизмеряется с длительностью отдельной человеческой жизни. Концепция «строительства социализма в одной стране» такому требованию соответствовала. Но после того как он был объявлен построенным, ожидания автоматически переносились на коммунизм. Образ «осажденной крепости» и война позволили на время вытеснить эти ожидания из массового сознания. Одержанная победа их неизбежно актуализировала. Послесталинские руководители вынуждены были уже считаться с тем, что жертвенное отношение к настоящему во имя будущего в исторических сроках ограничено. Но при этом они шли разными путями.
Хрущев, объявив о том, что уже «наше поколение советских людей будет жить при коммунизме»[353]353
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3 т. М., 1962. Т. 1. С. 257.
[Закрыть], как раз и пытался конкретизировать идеологическую абстракцию будущего, приблизив его к настоящему во времени. Брежнев, осознав с помощью советников иллюзорность хрущевских сроков и уязвимость коммунистического проекта как такового, начал отходить от финалистского пафоса базовой абстракции и смещать конкретизирующие акценты от будущего к настоящему, поднимая идеологический статус последнего. Так появился «развитой социализм»[354]354
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 87; XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3 т. М., 1981.Т. 1. С. 97.
[Закрыть] – термин, придававший настоящему самостоятельное значение, а не только как подготовительной стадии на пути к будущему. Но если хрущевская конкретизация, как вскоре выяснится, была утопической, то брежневская столкнулась с тем, что повысившийся идеологический статус социалистического настоящего не только не уменьшил, но еще больше увеличил его фактическую уязвимость в сравнении с другим, несоциалистическим настоящим.
Идеологические новации брежневской поры не нашли в советском обществе заинтересованного отклика. Оно осталось к ним равнодушным уже потому, что никаких радужных перспектив они ему больше не сулили, предлагая научиться ценить то, что есть. Но сегодня советский идеологический официоз, по крайней мере для авторов данной книги, выглядит гораздо интереснее, чем в советскую эпоху. Потому что теперь мы знаем, чем все кончилось. А зная это, мы можем в том, что казалось бесконечно далеким от жизни казенным словотворчеством, рассмотреть определенное жизненное содержание.
Ничто, пожалуй, не осложняло в такой степени существование коммунистической системы, как сама идея коммунизма. Благодаря ей система начала свое историческое бытие, но со временем идея эта пришла в слишком явное несоответствие с реальным функционированием советской государственности. Последняя, как и любая другая, нуждалась в поддержании и упрочении своей легитимности. Между тем коммунизм с его пафосом прямого, т. е. безгосударственного, народовластия обрекал ее на временную, преходящую и потому заведомо несамодостаточную историческую роль. Кроме того, идея будущего, отличного от настоящего, способствовала постоянной актуализации в общественном сознании образа иного настоящего в виде чешского «социализма с человеческим лицом» и его советских аналогов, представленных отечественным «шестидесятничеством». Формула «развитого социализма», способного к развитию на собственной основе, и призвана была все эти идеологические альтернативы устранить, а их персонификаторов – от Александра Твардовского до Роя Медведева – маргинализировать.
Показательно, однако, что программу КПСС, принятую при Хрущеве и обещавшую ввести Советский Союз в коммунизм к 1980 году, брежневское руководство заменить другой так и не решилось. Она продолжала действовать даже тогда, когда обещанные сроки ее выполнения прошли, а ее невыполненность стала эмпирически фиксируемым фактом. Потому что вообще отказаться от коммунистического целеполагания система не могла. Но она не могла и перевести его на язык конкретных проектов и планов, не говоря уже о сроках.
В свое время эта проблема встала уже перед Сталиным. Но он имел возможность притуплять ее остроту образом «осажденной крепости» и имитацией внутренних угроз. В демилитаризированном состоянии и в отсутствие сакрального вождя система таких компенсаторов лишалась. Поэтому ей ничего не оставалось, как искать идеологические паллиативы. «Развитой социализм» переносил пропагандистские акценты с конечной коммунистической цели на уже достигнутые исторические результаты, необходимые и достаточные для того, чтобы процесс движения к цели («коммунистическое строительство») оставался необратимым. В этом отношении «развитому социализму» отводилась примерно та же роль, что и «победившему социализму» в сталинскую эпоху: в том и другом случае образ «светлого будущего» не устранялся, но, подобно религиозным идеалам, смещался из времени в вечность.
Мы, повторим, так подробно останавливаемся на идеологическом официозе брежневской эпохи вовсе не потому, что ему удалось сколько-нибудь значительно повлиять на общественное сознание. Наоборот, он влиял на это сознание меньше, чем в любой другой период советской истории. Но он интересен и важен для понимания того системного кризиса, который переживал в ту эпоху советский общественный строй. Понятие «развитого социализма», отодвигая настоящее от будущего, не могло повысить статус настоящего в глазах населения. А понятие «реального социализма», брошенное тогда же на помощь «развитому» и тоже призванное профанировать, как заведомо нереальные, идеологические альтернативы отечественных и восточноевропейских шестидесятников и западных «еврокоммунистов»[355]355
Термин «реальный социализм» был введен в политико-идеологический обиход секретарем ЦК КПСС Б.Н. Пономаревым в ходе полемики с представителями западноевропейского коммунистического движения, критиковавшими советские порядки, по мнению руководства КПСС, с идеально-доктринерских, нереалистичных позиций (см.: Пономарев Б.Н. Коммунисты в борьбе против фашизма и войны, за мир, демократию и социализм // Коммунист. 1975. № 11. С. 20; Социализм: между прошлым и будущим. М., 1989. С. 174–175).
[Закрыть], вместе с образом будущего вытравливало из идеологического официоза и какое-либо идеальное начало вообще.
Когда-то западноевропейская, а потом и русская церковь, осознав свою неспособность поддерживать ожидания скорого Второго пришествия и Страшного суда, отказалась от актуализации таких ожиданий, перенесла их исполнение в неопределенное будущее и предложила каждому христианину «думать не о вселенском „Дне Господнем", а о сроке собственной жизни»[356]356
Юрганов АЛ. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 28.
[Закрыть]. Тем самым была подведена культурноисторическая черта под религиозным средневековьем. Передвижка в неопределенную даль времен идеала коммунистического подводила черту под средневековьем советско-атеистическим. Но это означало лишь то, что культурно-исторические источники, питавшие властную монополию партийной коммунистической «церкви», полностью иссякли. Осуществлявшиеся ею идеологические коррекции должны были, по замыслу, приспособить ее к новым обстоятельствам. Реально же они выявляли ее неприспособляемость к ним. Государственно-идеологический утилитаризм, унаследованный послесталинскими лидерами от Сталина, в демилитаризованной системе обнаружил пределы своих возможностей.
Из ситуации системного кризиса, ставшего очевидным к концу брежневского геронтократического правления (средний возраст членов коммунистического Политбюро превышал 70 лет), можно было двигаться в двух основных направлениях. Первое – контрреформационное (по отношению к послесталинской демилитаризации). Второе – реформационное (по отношению к созданной Сталиным и во многом сохраненной его преемниками «административно-командной системе»).
Движение в первом направлении, предполагавшее ужесточение идеологической, хозяйственной и административной дисциплины при сохранении всех системных параметров, наметилось во время недолгого правления Андропова (1982–1983). Однако последовательное осуществление такой контрреформации было невозможно без реанимации сталинских методов, неадекватность которых изменившимся условиям не мог не осознавать и сам Андропов. Но и эффективный паллиатив, который он искал, ему, проживи он дольше, найти бы не удалось: ремонту, тем более капитальному, с помощью административно-репрессивных методов оставленная Брежневым система не поддалась бы. В данном случае мы отступаем от своего правила и пытаемся прогнозировать прошлое именно потому, что после смерти Андропова людей его типа на роль лидеров уже не выдвигали – то ли по причине их отсутствия в высших эшелонах власти, то ли из-за нежелания правящего слоя видеть таких людей во главе страны.
Оставалось второе направление – реформационное, получившее политическое воплощение в деятельности Горбачева. Оно означало не ужесточение идеологической дисциплины на средневековый манер, а очищение самой идеологии от сталинского и послесталинского утилитаризма. Речь шла об отказе от фасадной имитационности, при которой отсутствие демократических прав и свобод и защищающей их законности камуфлировалось декларациями о подлинно народной природе «социалистической демократии», в отличие от демократии «буржуазной». То не было отречением от первой в пользу второй. То была установка на соединение неимитационной демократии с советским социализмом при убежденности в органичности такого соединения. «Больше демократии, больше социализма»[357]357
Горбачев М.С. Избранные статьи и речи: В 8 т. М., 1988. Т. 5. С. 219.
[Закрыть], – именно так понимал их взаимосвязь и взаимообусловленность инициатор перестройки и именно в соответствии с таким пониманием и действовал.
Это был самообман реформатора. Перестройка коммунистической системы, предпринятая им, на деле означала ее демонтаж. Потому что все возможные для нее перестройки она к тому времени уже осуществила. Мы говорим это как историки, а не как современники и в определенной степени участники событий тех лет. Самообман Горбачева какое-то время был созвучен самообману советского общества, в котором убежденные антикоммунисты составляли незначительное меньшинство и на ход перестройки первоначально влиять не могли. Изжить иллюзии относительно сочетаемости советского социализма и демократии можно было только при наличии исторического опыта, продемонстрировавшего их несочетаемость. Раньше такой опыт отсутствовал. Перестройка его создала.
Провозгласив приоритет «общечеловеческих» ценностей над классовыми, отменив цензуру, освободив политических заключенных и введя относительно свободные выборы в советы, Горбачев выводил страну из коммунистического средневековья во второе осевое время. Самоотрицание этого средневековья произошло раньше. Но выход за его пределы в качественно иное состояние начался только в годы перестройки. Однако это новое общественное состояние и, соответственно, новое историческое время в интерпретации реформатора по-прежнему претендовали на социалистическую, а в неопределенном будущем и коммунистическую особость.
Горбачев пытался вернуть социалистической идее идеальное измерение. Брежневский «развитой социализм» (он же «реальный») из нормы превращался в аномальное отклонение от нее, подлежащее преобразованию в соответствии с другой нормой, единственно подлинной. О том, что это означало, мы уже говорили. Уводя Советский Союз из изжившего себя политического средневековья во второе осевое время (в его социалистической версии), реформатор вынужден был, того не подозревая, искать социалистическую подлинность в древней вечевой традиции, т. е. во времени доосевом. Если же вспомнить, что Горбачев хотел не только передать власть советам, но и сохранить эту власть за коммунистической партией, которую возглавлял и от аппарата которой зависел, то понятнее будет, почему в его идеологических новациях соединялись содержательно несовместимые смыслы.
Идея «социалистического правового государства»[358]358
Горбачев М.С. Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР // Первый съезд народных депутатов СССР, 25 мая – 9 июня 1989 г.: Стенографический отчет: В 6 т. М., 1989. Т. 1. С. 456.
[Закрыть] лишь к концу горбачевского правления стала сочетаться с осторожными попытками законодательного регулирования деятельности КПСС, но так и не стала идеей превращения коммунистической партии из «авангардной» в партию парламентского типа, конкурирующую на равных с другими политическими организациями[359]359
Изменения, внесенные в 6 статью советской Конституции, означали, что КПСС отказывалась от претензий на единовластие и ограничивала свою роль лишь «участием», наряду с другими общественными организациями и массовыми движениями, в выработке политики и управлении государством через своих представителей, избранных в Советы. Но при этом КПСС сохраняла свою финансовую, информационную и административно-организационную монополию, посредством которой надеялась сохранить за собой в изменившихся условиях и монополию политическую. Закон «Об общественных объединениях» (1990) преподносился как шаг к многопартийности, но о партиях, условиях их деятельности и конкуренции в нем не говорилось вообще. Этот закон предоставлял гражданам возможность создавать общественные объединения с довольно широким кругом прав, вплоть до права иметь собственные средства массовой информации, но исключал государственное и зарубежное финансирование этих объединений и не предусматривал их доступа к государственным СМИ. Если учесть, что контролировавшая как их, так и финансовые ресурсы КПСС сохраняла партийные организации на предприятиях и в учреждениях, то станет понятно, каким политическим содержанием наполнялась формула «социалистического правового государства».
[Закрыть]. Не предполагало «социалистическое» толкование правового государства и легитимации частной собственности: ее право на существование Горбачев официально признал лишь в августе 1990 года, а на приватизацию так и не решился. Те же ограничители закладывались в понятия «социалистического самоуправления народа» и «социалистического рынка». При таком понимании демократизации она не могла не сопровождаться последствиями, на которые Горбачев не рассчитывал. Вопреки его замыслу, «больше демократии» и «больше социализма» в общественном сознании все дальше друг от друга отдалялись, превращаясь в непримиримых антагонистов.
Исторический закон, от имени которого, подобно своим предшественникам, действовал Горбачев, не сочетался с неимитационными правами и свободами граждан. Более того, их предоставление оборачивалось требованиями признать сам закон несостоятельным. Формула «социалистического плюрализма»[360]360
Горбачев М.С. Избранные статьи и речи. М., 1990. С. 246.
[Закрыть], призванная удержать эти права и свободы в первоначально намечавшихся идеологических и политических границах, с возложенной на нее ролью не справлялась.
«Социалистический плюрализм», по мысли Горбачева, должен был создать широкий простор для открытого обсуждения любых вопросов с единственным ограничением – противоборство позиций должно было оставаться в историческом пространстве «социалистического выбора» (народов СССР) и «коммунистической перспективы». Это была попытка соединить средневековый идеологический универсализм с универсализмом второго осевого времени, который с претензиями какой-либо идеологии на привилегированный статус несочетаем. Но даже при таком ограничении горбачевская формула лишала партийное руководство монополии на интерпретацию и политическую конкретизацию базовых идеологических абстракций. Допущение же на этом поле конкуренции, да еще при создании для нее институциональной основы в виде относительно свободно избранных советов обнаружило отсутствие у «социалистического плюрализма» фиксированных границ и строгих критериев, которые позволяли бы их установить.
Невозможно было, например, объяснить, почему «социалистический плюрализм» исключает право критики партии и ее лидера. Невозможно было объяснить, почему союзные республики, имевшие конституционное право выхода из СССР, не могут им воспользоваться. Невозможно было объяснить, почему к публичному диалогу не должны допускаться сторонники социалистической идеологии в ее западном социал-демократическом толковании, а если должны, то как избежать диалога с ними о частной собственности, которая этой идеологией не отрицается, и самом плюрализме, который ею не ограничивается. В доперестроечные времена то, что объяснению не поддавалось, объяснялось силой. Отказ от ее использования против инакомыслящих при допущении даже усеченного идеологического плюрализма неизбежно переводил систему из состояния кризиса в состояние распада. Потому что ограниченный плюрализм в условиях неимитационной свободы имеет свойство превращаться в неограниченный.
Демократизация поставила коммунистическую партию, а вскоре и возглавлявшего ее Горбачева под огонь критики. Это вызвало раскол самой партии по идеологическим и национальным линиям, сопровождавшийся все более массовым выходом из нее. Распад единственной в стране надконфессиональной и надэтнической идеологической структуры стал фактическим свидетельством исторической исчерпанности и социалистической идеи, и имперской государственности – не только советской, но и российской. Он показал, что социалистическая идентичность советских народов была ситуативной и преходящей, в культуре не укоренившейся. Он показал также, что державно-имперская идентичность, не подпитываемая внешними военными угрозами и победными войнами, свой консолидирующий ресурс утрачивает: подписанные в декабре 1991 года Беловежские соглашения, санкционировавшие ликвидацию СССР, были восприняты спокойно даже в Российской Федерации, не говоря о других советских республиках.
Распад коммунистической системы выявил несовместимость советского социализма и советской империи с демократией и правовым типом государственности. Однако он выявил и нечто другое: на большей части постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию, возникли новые, несоциалистические разновидности имитационно-демократических и имитационно-правовых государств. Почему так получилось – вопрос отдельный и самостоятельный, и мы вернемся к нему в главе о посткоммунистической России. Предваряя же его рассмотрение, еще раз отметим, что страны, народы и их элиты способны создать лишь то, к чему они подготовлены предшествующей историей. На смену исторически изжитым формам жизнеустройства может прийти лишь то, что нажито в процессе изживания.
Демократически-правовая государственность может утвердиться только при достаточно высокой развитости частных производительных интересов и культурной укорененности в сознании широких слоев населения идеи интереса общего. От этого зависит качество личностных ресурсов, которыми располагает страна, а от них, в свою очередь, зависит и тип ее государственности. Разумеется, зависимость эта обоюдная – то, что государством отторгается, существенно повлиять на него не может. Но и отторгать оно в состоянии лишь то, что в культуре еще не возобладало, что является в ней маргинальным.
Мы могли наблюдать, как частные интересы сочетались с интересом общим в досоветской России, как осуществлялась в ней мобилизация личностных ресурсов в разные сферы жизнедеятельности и как это сказалось на судьбе самодержавной государственности и событиях, последовавших за ее обвалом. Посмотрим теперь, как обстояло дело в Советском Союзе и что он оставил в данном отношении постсоветской России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.