Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
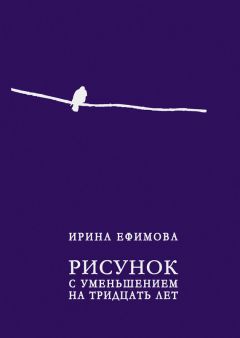
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Женщина или камень?
Юра Б. назначил Нине Г. свидание возле станции метро «Серпуховская». Нина согласилась неохотно, потому что давно и без надежд на какие-либо изменения в собственной душе не отвечала взаимностью Юре, который, напротив, давно и, вероятно, не без надежды (коли звонил), был в Нину влюблен. В жизни Нины проистекал период, когда все близкие подруги нянчились с малыми детьми, поклонники по той или иной причине, по ее или их инициативе удалились, и она, никогда не довольствовавшаяся на безрыбье раками, на этот раз решила проверить, не ошибается ли она, упорно, много лет отвергая упорное, многолетнее, ничем не подкрепленное с ее стороны чувство.
Они не виделись года три – после студенческой вечеринки на последнем курсе института, когда он спрятал ее пальто, а она рвала и метала, потому что хотела уйти; было очевидно, что вся гулянка, на которой присутствовали его друзья и, по ее настоянию, ее еще незамужние подруги, было организовано другом Юры, у которого и собрались, чтобы поставить точку над «i» в отношениях влюбленного юноши и его норовистой Беатриче. Все же девушке тогда удалось извлечь из кладовки пальто и выбежать на лестницу незнакомого дома, а потом добираться на такси, которое еще не так легко было в ночи добыть…
В назначенный час у метро «Серпуховская» Юры не было, Нина остановилась возле выхода, нисколько не стесняясь того, что пришла на свидание немного раньше (в других случаях выглядывала из-за угла: уже пришел – еще не пришел).
Он появился не из метро, а со стороны Садового кольца, она увидела его издали и поняла, что ничего в ней не изменилось и никогда не изменится, как бы ни сложилась жизнь. Грудь моментально стеснилась неприятием этого образа. Он шел немного подпрыгивая, задрав голову на крепкой спортивной шее и играя желваками, привычно придавая всей своей коренастой атлетической фигуре как можно больше весомости. Его «здравствуй» прозвучало тоже многозначительно, быть может, эта многозначительность была реакцией на ее пасмурное лицо.
– Куда мы пойдем? – спросила Нина, решив, что пройдет сегодня это испытание до логического конца, и грея себя мыслью, что сегодня же, и достаточно быстро, оно кончится.
– Тут недалеко.
– Куда же?
– Зайдем в гости к приятелю
– Я его знаю?
– Нет.
Они приблизились к большому дому, вошли в подъезд, затем в лифт, дверь которого Юра слишком громко – быть может, случайно – захлопнул. Совместный подъем неизвестно на какой этаж показался Нине вечностью. Юра смотрел на нее из-под полуопущенных век с длинными белесыми ресницами и напряженно улыбался. Наконец, лифт остановился и, немного подрожав, позволил открыть свою дверь.
Они вышли на просторную лестничную площадку с четырьмя дверьми в четыре квартиры. Повернули направо. Юра не стал звонить в звонок, возле которого висела рукотворная табличка с несколькими фамилиями, а достал из кармана связку ключей и отпер дверь. Они прошли по длинному пустому коридору мимо висящего на стене телефонного аппарата и нескольких закрытых дверей и остановились возле самой дальней. Юра выбрал из связки очередной ключ и отпер комнату, в которой… никого не оказалось. Комната была довольно просторная, вдоль левой стены громоздился большой буфет темного дерева, за стеклами которого без излишней тесноты расположились рюмки, чашки, стаканы и какие-то пакеты. Посреди комнаты стоял круглый стол с толстыми ногами, выглядывающими из-под не очень свежей льняной скатерти, на которой лежал один-единственный предмет – половник из нержавеющей стали. Тахта у окна, покрытая гобеленовым покрывалом, казалась давно не бывшей в употреблении, на противоположной стороне комнаты, ближе к двери, покоилось кресло, тоже покрытое гобеленом, но другого рисунка.
– А где же приятель? – спросила Нина
– Сейчас придет, – ответил Юра, как-то нехорошо усмехнувшись, убрал со стола половник, потом подошел к буфету и вынул две стопки. Заглянул в них, подул, вытер внутренности подолом скатерти и поставил на стол. Потом из нижней, глухой части буфета вынул бутылку портвейна и водрузил на стол рядом со стопками.
За большим окном с тюлевыми зависевшимися занавесками было темно, как положено в этот час начала февраля. Нине было неуютно, неинтересно, непонятно что делать и о чем разговаривать. Во всей обстановке была напряженность неясности. Приблизившись к какой-то разгадке, Нина спросила:
– Почему ты поставил только две стопки? А приятель с нами не выпьет?
Юра снова усмехнулся и сказал:
– Ну, когда придет, сам возьмет.
– Знаешь, Юра, я не смогу долго здесь быть, о чем тебя предупреждаю. Так что скажи, долго ли придется ждать приятеля, к которому мы пришли в гости?
– Сейчас я ему позвоню
Юра вышел из комнаты в коридор. Нина слышала его голос из дальнего конца коридора, но слов не разобрала. Она встала, подошла к окну, отвела в сторону занавеску, провела пальцем по широкому пыльному подоконнику, на котором стоял горшок со скукожившимся, видно, давно никем не поливаемым столетником, пепельница с тремя окурками и больничный поильник. За окном ездили троллейбусы, ходили парами люди, летали ленивые снежинки. Юра не возвращался. Она села на край тахты. Тахта была широкая, опереться не на что, принять расслабленную позу не представлялось возможным. Войдя в комнату, Юра спросил, не хочет ли Нина помыть руки. Она не хотела.
Юра откупорил бутылку с вином и налил густой кровавой жидкости в две стопки. Они выпили, стоя по разные стороны стола. Он подошел к буфету и достал вазочку, на которой лежало несколько клетчатых печений с надписями в центре каждого прямоугольника. Нина печенья не хотела. Выпили по второй. Она снова села на край тахты, обхватив руками обтянутые юбкой колени, и почувствовала, как что-то поплыло в голове, в подреберье, она оперла голову на руку, руку на колено. И не заметила, как Юра стремительно, с отчаянной решимостью, будто оттолкнувшись от противоположной стены, на всех парах приближался к ней. И, не готовая к отпору, не сумела не позволить ему отвести ее голову от ее руки, руку от колена, завалить навзничь на тахту без спинки и подушки. И не успела опомниться, как его губы оказались на ее губах. На губах, не любивших и категорически не желавших идти навстречу давнему, тяжелому, упорному чувству без взаимности.
Почувствовав смертельный холод, исходивший не от спящей, а скорей от мертвой царевны, Юра немного отпрянул, потом попытался еще раз разбудить мертвую горячим поцелуем, но все было напрасно. И тут из уст поднявшегося на ноги Юры прозвучала сакраментальная фраза настоящего, всегда уверенного в себе царя природы – мужчины:
– Кто передо мной – женщина или камень?
Нина села в прежнюю позу, снова положила на руку тяжелую голову. Перед ней, как в плохом спектакле, в стремительном полете пронесся желанный образ, нескончаемые, до потери времени и пространства, объятия и поцелуи, и ей захотелось плакать. Она поняла, что сейчас наступил последний акт испытания, надо взять себя в руки и уйти.
Она встала, молча надела висевшее на вешалке возле двери пальто, спросила:
– Ты уходишь или остаешься ждать приятеля?
Юра усмехнулся, на сей раз надменно и зло, с чувством превосходства нормального мужчины над женщиной-камнем:
– Я тебя провожу.
Они вышли на Большую Серпуховскую улицу, очень долго молча шли до метро, и тут расстались.
Через год Юра Б. позвонил Нине Г. и предложил ей выйти за него замуж, чтобы вместе отправиться на какую-то стройку коммунизма. В ответ Нина попросила передать привет приятелю с Серпуховки.
Бабки, где вы?
И вдруг ужаснула очевидность: огромный коллектив бабок, всегда живший у подъезда – и многоликий, и «на одно лицо», – за считанные годы исчез, растаял, как дым, рассеялся, как туман, заслонявший неотвратимое завтра И идущие вослед передвинулись на освободившиеся клетки, как пешки на шахматной доске. Хотя еще не встали к противно хлопающим дверям подъезда стражницами былой жизни…
Та, что была древней всех, – комочек, круглый год в теплой одежде и валенках, сросшихся с бестелесной плотью, – и уже не принимала участия в пересудах, а просто сидела на табуретке с толстыми ножками и молчала, как положено старейшине, глядя внутрь себя ослепшими глазами, давно растворилась, словно перистое облачко на ясном небе. Спохватились года через два – ведь уж давно не видно. А как давно, никто не знал…
В то же самое время другая, тоже маленькая, со следами былой интеллигентности, ибо всё уже стало былым, в «собраниях» не участвовала, а, держась двумя руками за пыльный цоколь огромного дома, «гуляла» – качалась и куталась в воротник; глаза слезились, и с божьего одуванчика зримо и поспешно облетали последние пушинки. Видно, давным-давно облетели, пропал отживший цветок…
Остальные, помоложе и покрепче, шумели, как густой бор, возле раздолбленной, исписанной двери подъезда – ветеранки коммуналок, блюстители нравственности, завсегдатаи очередей за дефицитом, давно похоронившие недолговечных мужей, выпустившие из гнезд неблагодарных птенцов. Как у поэтов и художников, у бабок не было отчеств – только имена.
Самой заметной была бабка Шура – представительница подъездного «дворянства». Низенькая, в пальто общесоюзного фасона из синего букле с общипанным каракулевым воротничком, она заразительно хохотала, открыв беззубый рот, не чуждалась крепкого словца, а когда стоять на одном месте надоедало, прогуливалась взад-вперед с амплитудой метров в тридцать, выставив внушительный бюст, разбрасывая в стороны приземистые ноги с крепкими российскими икрами, в ногу с подружкой, тоже Шурой, тоже в синем буклированном пальто, но с нахмуренными бровями и укоризненным! взглядом, отчего выглядела она скорей оппоненткой подруге, нежели единомышленницей. Если у первой Шуры из-под платка выбивались седые букли, у второй горела ярко-рыжая прядь. Когда Шуры прогуливались, все сообщество невольно переходило от статики к чуть заметной динамике: били ноги о ноги, если была зима – как бы приплясывали; или заново перевязывали косынки, обновляя состояние, если стояло лето.
Бытовало негласное правило: с бабками необязательно было прощаться, да такие ситуации почти никогда и не возникали, но здороваться надлежало всегда, сколько бы раз на дню ни проходили мимо. Отвечали они охотно, хором.
Бабки были совестью подъезда. Они шугали назойливых голубей, обругивали наглых владельцев автомобилей, оповещали сожителей по подъезду о прибытии фургона с хлебом или венгерскими курами, стыдили мини-юбки, хмыкали на макси-юбки, строго и бдительно следили за браками, разводами и новорождениями; как лазерная установка, насквозь пронизывали каждого входящего в подъезд и каждого из него выходящего.
Они никогда никуда не уезжали и не меняли дислокации – ни весенний шум свежей тополиной листвы в дворовом палисаднике, ни луч солнца, падающий в каждый определенный час на тот или иной, в зависимости от сезона, но всегда удаленный от подъезда пятачок двора, ни выхлопы фыркающих, огромных, как могильные склепы, фургонов не могли подвигнуть старожилок отлучиться от подъезда…
Примерно в час пополудни бабки расходились по своим каморкам – обедать. Может быть, отдыхали на аскетичных послевоенных лежанках – сия сиеста была семью печатями, впрочем, скорей за одним хлипким, вросшим в старую дверь «английским» замком. Если на дворе стояла светлая пора, бабки выходили еще раз, часов в пять-шесть вечера, сумерничали и удалялись на ночлег…
Вырубка «бора» началась неожиданно. Не хватиться предводительницы не представлялось возможным – уж больно шумная, заметная личность, живее всех живых. На вопрос, почему не видно веселой Шуры, бабка с ехидными карими глазами, многозначительно помолчав, сказала:
– Нет ее больше.
– Как нет?
– Померла.
– Как померла? Она же только что была жива!
– А вот так… – бабка поджала губы, как будто умершая нанесла ей своей смертью личное оскорбление, укоризненно затрясла головой.
– Не захотела больше жить. Напилась уксуса… Не откачали…
– А почему? Почему она так сделала? Она же такая веселая! – не хотелось говорить «была».
– Кто ж ее знает? Все последнее время говорила, что не хочет жить.
Это был удар под дых – ведь не растаявшее облачко, не божий одуванчик, а сама основательность, сама жизнь… Цитадель покачнулась. Подружка самоубивицы рыжая Шура стоял поодаль от всех, кисти рук заложила в противоположные рукава, зябко ежила плечи.
– Скучно без Шуры?
И, может быть, в последний раз оппонируя товарке, рыжая Шура досадливо дернула головой:
– Ну, что ж теперь делать, если ей так захотелось.
Потом было лето, пора праздничного разброда, облегченных, после зимы, шатаний, поездок туда-сюда, переизбытка зелени и свежего воздуха.
По осени не досчитались рыжей Шуры. Вчера не было, сегодня не стоит, сверкая огненной прядью.
– А где рыжая Шура? – и все внутри сжалось в предвиденье, предчувствии ответа, но еще в надежде на милость судьбы. Полная, одышистая, страдавшая избыточным любопытством Зина на мгновенье оттянула тяжелый момент.
– Какая рыжая Шура?
– Ну, подружка той Шуры.
– А-а-а, она тоже померла.
– Как? Когда?
– Еще летом.
– А что с ней случилось?
– Да болела…
Потом исчезла Зина, но прежде, чем наступил роковой исход, все знали, что Зина лежит в своей комнате, болеет, не встает. Некому было теперь любопытствовать у всех обо всем – никто, как Зина, не хотел знать всех подробностей всех жизней. Стало пустей, сумрачней. Ряды стремительно редели…
Пронесся слух: убили толстую Тоньку – бабку, которая, единственная из всех, пестовала маленького внука, все возле того же подъезда. У всех внуки, если и были, давно выросли и в бабках не нуждались, а этот, почему-то припозднившийся, с круглой молочной мордашкой, вечно прошивал ткань великовозрастного коллектива, точно штопальная игла. Слух так и остался непроверенным: кто, почему и за что убил – никто не знал. Внук тут же исчез из поля зрения, как будто вовсе не бывал…
И еще заметили брешь – где та высокая, несгибаемая, худая и строгая, с удлиненным желтоватым лицом и носом с благородной горбинкой? Которая, когда в магазине бились за подсолнечное масло, отставила в сторону клюку и отстояла право взять масло без очереди. Уж сколько времени масло без очереди… И спросить не у кого…
Так… А где же?.. Эта, последняя, тоже в синем пальто и еще не старая? Всегда любезно сообщавшая о продовольственных новинках? На краткий миг, между двумя «вырубками», заменившая рыжей Шуре Шуру-самоубийцу? Всегда в бурой мохеровой шапочке с длинными, будто насахаренными, ворсинками? Неужели и она?.. Бог мой…
Огромная туча старых женщин, аборигенов сталинских коммуналок, апологетов совестливой российской жизни, рассеялась, и чистое, пустое, незнакомое небо открылось над головой. Ни одной табуретки у подъезда, ни одного ящика. Святое место – не пусто: мальчишки, свободно разложив детали, чинят велосипеды. Лязг железа, ломкие подростковые голоса…
Одна-единственная зацепка, одна хиленькая надежда на тех, кого дети забрали в другие дома и районы, – о них всегда можно думать, что живы, что еще подпирают морщинистыми руками тонкую стену, отделяющую этот несовершенный мир от того, пре красного. Ехидная кареглазая бабка уехала к сыну и, говорят, день и ночь рыдает по своей коммуналке. И еще одна перебралась к внучке, а комнату продала – такие теперь порядки…
Гуляет ветер у северного подъезда, несет то поземку, то иностранные бумажки. Только жеваные жвачки не в силах поднять – прочно впечатались в тротуар, стены, двери, окантовку лифта.
Гуляет ветер, выветривает следы галош и широких, разбитых туфель, покинутых ревматическими ногами их владелиц. Сгорели в мусорных печах осиротевшие пожитки; лишь в памяти ненадолго пришедших на смену живы синие пальто, вытертые воротники, близорукие взгляды и, хором, всей тучей – «Воистину Воскреси» в Светлое, солнечное по другую сторону дома, Воскресенье.
Одному Богу известно насчет «воскреси», но воистину они были. Бабки, где вы?..
Воспоминания из детской кроватки
Мне четыре года. Может, чуть меньше. Я лежу в кроватке с высоким перильцем, на которое накинуто байковое одеяло. А может, это не кроватка с перильцем – для подобной «люльки» я уже великовата, – а приставленные к обычной детской кровати стулья с накинутым на их спинки одеялом, отгораживающим ребенка от взрослого веселья.
У них, взрослых, какой-то праздник, и комната – единственная в трехкомнатной квартире наша – наполнена духами, шуршанием нарядных материй, смехом, шипением патефона, музыкой, какой-то подозрительной свободой. А я лежу в своем загоне, глаза слипаются, но уснуть не могу. А может, гости на время притихали, и я уже спала, а потом они решили, что малое дитя крепко спит и теперь не обязательно заботиться с соблюдении маломальской тишины… И проснулась я скорей всего оттого, что захотела писать (перед сном мы с папой гуляли, и он повел меня в соседний гастроном, где из большого прозрачного конуса мне налили стакан моего любимого яблочного сока). И я пребываю в ужасе, в холодном поту оттого, что невозможно при гостях заявить о моей нужде, ведь это значило бы осведомить о ней всех присутствующих. А проблема становится все острей, и я уже придерживаю руками то место, откуда может излиться мой позор, и у меня рези внизу живота.
Я начинаю тихо плакать, потом, по-видимому, рыданья превышают некий звуковой порог, и надо мной склоняется папа, лицо у него огорченное и даже встревоженное. «Что, что с тобой, моя маленькая?» И, уже не в силах приглушить рыданья, но стараясь как можно тише, я бормочу о своей беде, а оттого, что папа поспешно вынимает меня из загона и куда-то несет при всех, немного обескураженных, гостях, я ору что есть мочи и брыкаюсь, отказываясь сесть на горшок, хотя он установлен за шкафом, откуда моя позиция гостям не очень-то видима.
В конце концов, преодолев сопротивление ласковыми уговорами, папа меня усаживает, и мне ничего не остается как облегчиться. Успокаиваясь, понимаю, что учиненный мною скандал вызвал некоторый переполох среди гостей, звук патефона скатывается до расплывающегося баса, его подкручивают, и он снова становится писклявым… Кто-то из тетей говорит, что уже поздно и пора домой, кто-то нехорошо смеется – мне кажется, что надо мной. После акции на горшке мне становится легче, но настроение – из рук вон…
Больше ничего не помню: предполагаю, что облегченная и утомленная собственной истерикой, я уснула раньше, чем была доставлена обратно в кровать…
Эта гипертрофированная стеснительность, нежелание признать нестыдным то, что естественно, сопровождали меня, можно сказать, всю жизнь и часто не на шутку осложняли ситуации…
В нечеловеческой обстановке трюма грузовой баржи, которая под летящими с немецких самолетов бомбами везла охваченных паникой людей в эвакуацию, я создавала дополнительные трудности взрослым, требуя сооружать шатер из чемоданов и одеял, в центре которого устанавливался горшок. При этом, прежде чем расслабиться, я производила тщательную проверку – не осталось ли маленькой щели меж чемоданами и складками одеяла, в которую какой-нибудь любопытствующий мальчик (или девочка – не имело значения) мог бы меня увидеть и догадаться о цели моего пребывания внутри шатра…
Когда настала пора прогулок и посиделок с мужскими персонажами, я со страхом ожидала рокового момента, а потому он, по неоспоримому закону подлости, неминуемо наступал быстрее и чаще, чем в спокойной обстановке одинокого пребывания, и даже являлся иногда причиной нежелательного преобразования отношений. Глупость? Но она действительно имела место – среди других многочисленных глупостей…
Конечно, постепенно, с течением десятилетий, рассосалось – когда основные проблемы существования так или иначе решены и преобразовывать уже нечего…
Заодно еще одно воспоминание из той самой кроватки, больше не будет, потому что больше их – этих, из кроватки – нет (разве что выдумать ради красного словца)…
Итак, я лежу в кроватке, на боку, тишина; в ногах, за кроваткой, огромный платяной шкаф, в головах – стена, за спиной тоже – эта отделяет нашу комнату от соседской. Я не сплю и вожу пальцем по узору, белому на розовом, что на одеяльце, которое отгораживает меня от мира взрослых. На одеяльце цветы, лепестки и листья, а также какие-то птички или бабочки. Вдруг чувствую за спиной, точнее за затылком, какое-то едва заметное шевеление. Я замираю. Шевеление повторяется. Я привстаю на локте, поворачиваю голову и вижу, как из узкой щели между кроватью и стеной, с трудом пролезая, появляется маленькая собачка. Я пугаюсь, но не самой собачки – она невелика и очень мила, – а нежданности-негаданности ее появления, и быстро отворачиваюсь, снова замерев и затаив дыхание. В следующий момент чувствую, как незваная пришелица ласково и совсем не больно, но все-таки ощутимо прикусывает зубками мою не прикрытую одеялом шею. Не крича и не призывая никого на помощь, не поворачиваясь к стене, я, изловчившись, захватываю рукой край одеяла и быстро подтыкаю его под шею и затылок…
Думается мне, что никому из взрослых о ночном визите странной собачки я не сообщила, но помню, что долго, все детство, носила в себе это воспоминание как всамделишное происшествие. И только изрядно повзрослев, сообразила, что все-таки это был сон, потому что никаких собачек у нас в доме отродясь не водилось.
Однако, начиная с той ночи, всю длинную жизнь – почти всегда, за редким исключением – я сплю с подоткнутым под шею и затылок одеялом, какой бы сезон ни стоял на дворе. То есть, если совсем тепло, могу иногда оставить шею незащищенной, но, честно говоря, лучше все-таки подоткнуть… Как-то уютней. И спокойней. Мало ли что…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































