Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
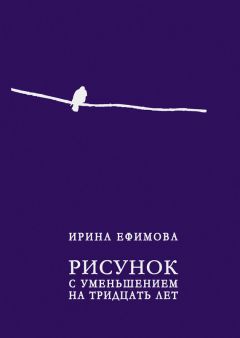
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Переводы
Райнер Мария Рильке
Сонеты к Орфею
как надгробие для Веры Оукама-Кнооп
(перевод с немецкого)
Часть первая
I
Там дерево росло. О возвышенье!
Орфей поет! О дерево звучит!
Молчало все. Но в молчаливом бденье
был знак начал и перемен сокрыт.
И пробирались звери из прозрачной дали
лесной, очнувшись от блаженных грез;
к молчанью не предвестие угроз,
не хитрость и не страх их побуждали,
а только слух. И сердцем каждый знал,
что вой и крик – ничто. Там, где природа
дика и хижину найдешь едва ли,
где темные инстинкты обитали,
храм со столбами, что дрожат у входа,
из высших звуков ты для них создал.
II
И, девочка почти, она была
слияньем песни и счастливой лиры,
весеннего покрова переливом,
и в ухе у меня постель свила.
Спала во мне. Все было сном ее —
деревья, что красою изумляли,
и осязаемость лугов, и дали,
и удивленье каждое мое.
Сон вечности. То – чудо на пути,
поющий Бог: Ничто ее не будит.
Воскреснув, спит; проснуться жажды нет.
Где смерть ее? И сколько быстрых лет
мотив звучать, не иссякая, будет?
Уйдет ли из меня?.. О девочка почти…
III
Бог всемогущ. Но сможет человек
приблизиться чрез лиру к Божьей сути?
В сомненье он всегда – на перепутье,
где храма Аполлона нет вовек.
Ведь песня та – так учишь ты всегда, —
не дар, не долг, не новое свершенье;
есть жизнь она, Господнее творенье.
А где же мы? И повернуть когда
решит Всевышний землю к нам и звезды?
Се не свершится, юноша, коль пенье
вдруг вылетит из уст, как пар сквозь ноздри, —
то не запел ты. Как дыханье та
свободна песня – правды дуновенье,
дыханье Бога. Ветра маята.
IV
О вы, нежные, следует тщиться
вам неземное дыханье познать,
пусть оно по щекам раздвоится
и, дрожа, сольется опять.
О вы, блаженные, о вы, счастливцы,
вы – зарожденье союза сердец.
Всюду стрелы витают, как птицы,
плач – вашей яркой улыбки близнец.
Не избегайте страдания, сможет
только земля вашу тяжесть принять;
горы – тяжелые, море – тоже.
Даже деревья, что в детстве сажали,
стали тяжелыми; вам не поднять.
Но дуновение ветра… но дали…
V
Не возводи надгробья. Только розе
позволь цвести в его, Орфея, честь,
поскольку он – Орфей. Метаморфозы —
его удел. Не интересна весть
нам о других. Но важно имя только
Орфея. А когда цветок падет
и лягут лепестки покровом тонким,
певец его судьбу переживет?
Но как поверить, что закон таков:
и он исчезнет, хоть в исчезновенье
свое не верит. Но звучанье слов,
когда рука певца оставит лиру
в неведомое нам пока мгновенье,
останется навек усладой миру.
VI
Здешний ли он? Нет, натура двусложна —
два мира оставили метку на ней.
Вербную ветку согнуть возможно,
если постигнуть природу корней.
Не оставляйте ночной порою
мертвым хлеб с молоком на столе.
Он же своим заклинаньем сокроет
их появленье в тишайшей мгле,
спрячет под кроткими веками смуту;
и чародейство дымянки-руты
познано им до самых глубин.
Ничто не испортит ему момента.
Будь то из гроба, из апартаментов,
славит он пряжку, кольцо и кувшин.
VII
Да, прославленье! Заказчик всесильный
бронзой встает из молчанья камней.
Сердце его неустанной давильней
гонит вино благодати своей.
Голос ему не откажет из тлена —
льет своему божеству фимиам.
Реки вина из забвения плена
мчат, полноводны, по южным горам.
Не короли из могил погребенья
славу приносят, не ложь прославленья
и не божественной тени полет.
Вестник, один из последней когорты,
он пред воротами царства мертвых
кожу с плодов прославленья несет.
VIII
Лишь в пространстве Славы быть Стенанью —
роднику чистейших слез наяд,
что омоет скалы мирозданья,
где врата и алтари стоят, —
чистое божественное ложе.
Видишь, хрупких плеч коснулся флёр
ощущенья, что оно моложе
всех духовных братьев и сестер.
Знает Торжество, Тоска винится,
лишь Стенанье учится и тщится
ночью сосчитать былые беды.
Но однажды звездный наш мотив
так неловко вдруг доставит к свету,
чистоты небес не замутив.
IX
Тот лишь, кто лиру поднял
рядом с тенями,
сонм безмерных похвал
воздаст стихами.
Тот лишь, кто с мертвым познал
маковой неги,
тихого звука накал
хранит навеки.
Коль отразит водоем
образ нечетким,
знай наперед:
только в мире двойном
голосом кротким
вечность поет.
Х
Вам, вечным чувством к которым объят,
привет мой, античные саркофаги,
что римских дней веселую влагу,
как песню бродячую, тихо струят.
Иль каждый из них открывается оком
поутру проснувшегося пастушонка, —
приют тишины, пчелиного сока,
бабочки радостной хрупкой душонки.
Всем, кто от сомнений былых далек,
привет мой; устам, что заговорили,
отринув молчанье в положенный срок.
Что ведаем мы, что не знаем порой?
Все важно в большом человеческом мире,
в медлительном времени жизни людской.
XI
Видишь в небе звездную картину —
«Всадника» причудливых высот?
Гордый конь земли подставил спину,
первый нудит, а второй несет.
В этом не упругой ли природы
суть понять наглядно нам дано?
Плен, погоня, дали, повороты,
двое как единое одно.
Где ж они? Или наскучил, тесен
мир, что вместе выбрали они?
Их столы, луга – по разным весям.
Это мимолетный был фантом.
Небо хоть обманщику сродни,
дарит миг. Спасибо и на том.
XII
Слава духу – может сочетать
только он фигуры жизни мудро.
Тихие шаги часов под утро
нашим дням медлительным под стать.
Мы себе не очертили круга,
и ошибкам нашим нет числа.
Ведь антенны чувствуют друг друга,
и пустая даль несла…
Напряженье! О музыки сила!
То не ты ль помехи устранила,
чистый звук направила: внемли?
Ведь когда работника заботы
летом принесут младые всходы,
то – подарок матери-земли.
XIII
Полон мир крыжовника, бананов,
груш и яблок… Каждого удел —
жизнь и смерть во рту… Восторг бывает
на лице ребенка. Он успел
насладиться – тем, издалека
прилетевшим безымянным чудом,
вместо слов из сочного приюта
вытекает сладкая река.
Кто рискнул бы яблоком назвать
эту сладость, что, себя неволя,
в лакомство преобразилось вскоре,
чтобы ясной и прозрачной стать,
двуединой, солнечной, природной:
о веселье, опыт – превосходно!
XIV
Мы знаем фрукты, виноград, цветы.
Они не только выходцы сезона.
Из тьмы встает пестреющее лоно
и, может, в блеске этой красоты
есть ревность мертвых; силу умножают
земли они. Как удается им?
И давним, древним способом своим
свободно всюду почву ублажают.
А рады ли своим трудам?..
Плод вверх теснить (рабу не хватит силы),
как стиснутый кулак, к их господам?
Иль господа – что у корней почили
и дарят нам, щедротами балуя,
гибрид безмолвной силы с поцелуем?
XV
Ждет… Это вкусно… сейчас убежит…
Музыки мало… Топот… Напевы…
Теплая девушка, тихая дева
в танце знакомого вкуса дрожит.
Танец того апельсина. Забвенью
он не подвластен. Плод выпит до дна.
Вы обладали им с упоеньем,
сладость отвергнута, вера дана.
Танец того апельсина. Ландшафт
родины манит его лучистой —
в воздухе жарком цветы раскрывать,
благоухая. На брудершафт
чашу отринутой кожицы чистой
сладкого соку за счастье поднять.
XVI
Ты, мой друг, потому одинок…
Мы своими словами и жестами пальцев
мир в свои загоняем пяльцы —
именно в тот, что предельно жесток.
Кто укажет перстами на запах ветров?
Сил, что нам угрожают, когорты
чуешь ты за версту… Знаешь мертвых,
но ты боишься заклятия слов.
Нам предстоит совместная мука —
собрать воедино раздробленность толков.
Трудно помочь тебе. Ты меня только
в сердце не взращивай. Будет целей.
Я направлю Господа нашего руку
и скажу: здесь Исав в шкуре своей.
XVII
В памяти стариков —
путаницы обители —
святость корней, родников,
которых они не видели.
Каска, охотничий рог,
разные притчи складные,
мужчина – отмщения бог,
женщины – лютни сладкие.
Ветка с веткой сплелись,
тесно в их мире…
Одна! О восстань… поднимись…
Но ломаются вновь они.
Лишь верхняя нижет дни,
пригнувшись к лире.
XVIII
Слышишь, мой господин,
дрожь, громыханье?
Это – новых годин
вестник охальный.
Грохот такой не вхож
в тайны творенья.
Хочет машина все ж
слов одобренья.
Машина. Смотри-ка:
мстителен громкий глас,
она искажает нас.
А силу у нас взяла б,
она бы, как вечный раб,
служила, безлика.
XIX
Изменчива, словно лик облаков,
мира природа.
Падают в бездну веков
быстрые годы.
Сквозь круговорот
бурного мира
Песня Твоя живет,
Бог с лирой.
Не изучили любовь
и не успели страдать,
а смерти не терпится дать
знанье о вечной разлуке.
Только слышатся вновь
песни святые звуки.
XX
Что ж сказать тебе в твою честь, Господин,
звуком в тварях возжегший огонь?
Не забыть мне день весенний один.
Поздний вечер. Россия. Конь…
Белый конь из деревни в луга забрел, —
он свободу в ночи добыл:
на передних ногах волочился кол,
колокольчик о гриву бил
вдохновенно, в такт и задором звеня.
И хоть путы стесняли галоп,
как взыграла кровь в сосудах коня!
Как он чувствовал дали – еще б!
Он слушал и пел. В твои саги вплетен
тот образ.
Тебе посвящается он.
XXI
Снова весна. И земля – как ребенок,
знающий множество разных стихов;
много, о много… Мир светел и звонок —
вознаграждение зимних трудов.
Старый учитель седобородый
строг был. Когда ж обновились поля,
все голубой и зеленой породы
знает: всему научилась земля.
Рада свободе, она в догонялки
с юным азартом с детьми разыгралась —
там развеселому повезет.
Как пригодилась ученья закалка!
Все, что в корнях и стволах наливалось,
песню о счастье поет и поет.
XXII
Мы – бегущие,
но знают времени шаг,
этот бездельный пустяк,
лишь отстающие.
Всё спешившее
мимо прошло тотчас,
только пребывшее
свято для нас.
Юноша, смелость твоя,
знай, не в поспешности,
не в штурме большой высоты.
Все спокойно: заря,
мрак безутешности,
опусы и цветы.
XXIII
О, только если полет
не целью земной тщеславен,
а просто сам себе равен,
достигнув горних высот,
и, профилем неба касаясь,
кружиться вечно готов,
играя и изгибаясь,
любимец быстрых ветров,
и только если КУДА
юную спесь отодвинет,
гордость творца усмирит,
высота позовет тогда
того, кто пользу отринет, —
он в небо один воспарит.
XXIV
Древнюю дружбу отвергнуть, великие Боги,
cвободы дарители, лишь потому, что всюду
твердая сталь, закаленная нами строго,
или на карте искать ее будем, как чудо?
Эти друзья могучие наших мертвых,
не прикоснувшись к колесам, у нас отнимают.
Их посланец медлительный не успевает —
мы далеко пируем на наших курортах,
опережая посланца. Теперь друг на друга
мрачно киваем, друг друга совсем не зная.
Больше не вьются тропинки прекрасным лугом —
лишь напрямую. Котлы паровые пылают,
молоты бьют, свою мощь удесятеряя.
Мы ж, как пловцы утомленные, силы теряем.
XXV
Я тебя вспоминаю, Тебя, чтобы вновь встрепенулся
тот цветок, у которого имени нет в миру.
Вспомню еще раз. А вам, кто теперь отвернулся,
я актрисы отчаянья представлю игру.
Только танцовщица. Вдруг тело замедлило танец,
замерло, будто юность отлили в медь.
Грусть и раздумье… Тут неба высокий посланец
музыкой сердце наполнил, что призвано петь.
Подкрался недуг. Обступили незваные тени.
Кровь потемнела. Минутной надежды плетенье
звуком весны безмятежной сказало: не верь.
Снова и снова, сквозь тьму и ночные провалы,
блестела, земная. Но сердце ее достучало,
открылась пред нею скорбная дверь
XXVI
О Божество, до последнего вздоха поющий,
ты, пораженный толпой разъяренных менад,
смог пересилить их вопли гармонией сущей,
из хаоса льется твой высочайший лад.
Ни головы, ни лиры твоей им не разбить.
Зря торжествуют победу, а острые камни —
те, что в сердце бросали, будут веками
преображенными в нежность и музыку жить.
Местью вконец затравлен, замучен, убит.
Песню твою слушали звери и скалы,
птицы, деревья. Там и поныне звучит.
О Бог поверженный! Неотменимый полет!
Тебя сгубило враждебности злобное жало,
но мы тебя слышим, природа тобой поет.
Часть вторая
I
Дыши, мой стих, порожденье небес!
И постоянно приемли
чистый, изменчивый мир. Ты – противовес,
что меня выравнивает и колеблет.
Я из волны света
морем стал наяву.
То – бережливейшее из морей планеты, —
пространства не надо ему.
Сколько же весей вселенной бывало уже
во мне. И многие ветры
стали сынами душе.
Узнаешь ли ты меня, воздух давнего крова?
Исполненные заветы —
форма и сущность слова.
II
Как подвернувшийся образ поэту
истинным кажется, маску надев,
так зеркала порою согреты,
присвоив святые улыбки дев;
когда они видят себя по утрам,
в зеркале чистом играет сиянье,
и образ прекрасный через дыханье
лишь отраженьем вернется к нам.
Что же в камине, в этой метели
коптящего пламени видится с мукой? —
Отблеск жизни ушедшей, тризна.
Ах, земля, кто знает потери?
Тот, у кого ликующим звуком
сердце поет благодарность жизни.
III
Вы – зеркала: ваша сущность сокрыта,
в мире не ведают вовсе о ней.
Как чрез отверстия звонкого сита,
вы заполняете краткость дней.
Залов пустых расточители, моты,
в сумраке дальше лесов и полей…
Люстра таранит ваши пустоты
блеском шестнадцати пышных ветвей.
Вы весьма живописны подчас.
Кто-то, казалось, вошел в вас лихо,
робко другой прошмыгнул мимо вас.
Лучшие же пребудут, доколь
там, в зазеркалье, на сдержанных ликах
белый Нарцисс исполняет роль.
IV
О зверь, которого в природе нет.
Не ведая о том, его красе,
походке, стати, шее с давних лет
и свету взора поклонялись все,
хоть нет его. Но от любви он стал
БЫТЬ, чистый зверь. Ему пространство дали
В пространстве ясном, где пробел зиял,
он голову легко поднял; едва ли
он жаждал быть. Без корма жить он мог,
призыв лишь страстный «будь!» его кормил.
И зверь настолько сделался сильней,
что рог на лбу его вознесся. Рог.
Зверь к юной деве белым подходил —
был в зеркале серебряном и в ней.
V
Мускул, что соцветью анемоны
дарит утра медленный накал
в час, когда на луговое лоно
многоцветный спектр еще не пал,
и, в звезде соцветья напряженный,
мускул, что всегда принять готов
каждый миг и день новорожденный,
так переполняется трудов,
что едва успеет след заката
отразиться в контуре листочка:
ты, всесильная миров громада!
Мы, насильники, бытуем дольше.
Но когда, в какой вселенской точке
будем восприимчивей и тоньше?
VI
Роза, царица, была ты в древности дальней
чашей с каймою для простаков.
Мы ж зачарованы неразгаданной тайной
твоих бесчисленных лепестков.
Богатство твое – облаченье на облаченье
вкруг тела из глянцевой пустоты;
но каждый твой лепесток несет отреченье
от всех одежд, нарядов тщеты.
Издавна твой аромат манит,
очень сладки его названья;
вдруг, как слава, в пространстве парит.
Мы, увы, не знаем имен – мы гадаем…
Но вмиг пробуждаются воспоминанья,
к которым мы взывали годами.
VII
Вас, цветы, деловые руки собрали —
герои (девичьи руки всегда и сейчас),
и на садовом столе, от края до края,
горою раненые лежали, в последний раз
томно воды ожидая, которая рада
жизнь ненадолго продлить, чтоб потом
снова поднялись соцветья их от заряда
пальцев чувствительных; и перстом
чудо творится; вам облегчат состоянье,
как только в вазу поставят с водой,
хладность ее и жар покаянья
дев, что просят у вас грехов отпущенья,
словно на исповеди, – все не бедой
вмиг обернется, а общим роскошным цветеньем.
VIII
Мало осталось друзей далекого детства —
их разбросало по города разным концам:
тех, с кем мирились и ссорились по малолетству
и, как вещает словесной полоской овца,
молча могли разговаривать. Нашу радость
не замечали. Да кто ж поймет?
В бурных людских потоках мы растворялись,
долгим, тревожным казался год.
Мимо катились чуждые нам экипажи,
плотно дома обступали; что правда, что лживо,
вовсе не знали. Что ж истинный мир являл?
Просто ничто. Лишь мячи. Их полетов пассажи.
Даже не дети…Но иногда – ах, как живо
прошлое – кто-то под мяч летящий ступал.
(памяти Эгона фон Рильке)
IX
Судьи, хвала вам – ненужные пытки избыли
и отменили тяжесть железных оков.
То не душевный порыв, а конвульсии были,
вашей жестокосердности мягкий покров.
Щедрый подарок – забросили эшафот,
как возвращает игрушки дитя, что не новы, —
с прошлого праздника. Глупое, чистое, ждет
сердце открытое Бога теперь другого —
истинной кротости. Явится некто могучий,
свет излучающий, как Божество,
больше, чем ветер для корабля и тучи.
Но и не меньше, чем тихая тайна наитья —
приобретенье души, что вошло в существо,
как драгоценный плод нескончаемого соитья.
X
Всем достиженьям машина грозит, покуда
спесью возносится вместо повиновенья она.
Рук щегольство отринув, движений медлительных чудо,
режет твердые камни, решительности полна.
Нет от нее покоя; надо, чтобы однажды,
cмазанная, услышала грохот свой в тихом цеху,
Мнит, что она есть жизнь и все одинаково важно —
творит ли она, созидает иль превращает в труху.
Но волшебству в жизни есть еще место; вмещает
сотни примет первозданья, игры сил непорочных,
что, далеки от машины, мир чистотой восхищают.
Слов несказанных полет в нежности тихой убранстве…
Музыка, вечно нова, из камня дрожащего прочный
Строит божественный дом свой
в невыносимом пространстве.
XI
Смерть порою – итог законных мира порядков
с тех пор, как ты, человек, несешь охотничий стяг;
больше, чем сеть и капкан, парусов обманные тряпки
я вспоминаю – в пещерных карстовых полостях.
Тихо вешали их, будто бы символ тайный
мира и праздника; после бились о кнехта край.
Ночь бросала из тьмы голубей дрожащую стайку,
слабых, бесцветных – к свету…
Это по праву, считай.
Всякий намек состраданья ты от себя не отторгни.
Охотник – при исполненье, и перья летят, и пух
вдали от видящих глаз.
Убийство – наглядный образ
нашей бродячей скорби.
Истина – светлый дух,
витающий подле нас.
XII
Жди и желай перемен – то источник огня вдохновенья,
если в душе твоей дара преображенья нет;
дух, одолевший земное в их непрестанном боренье,
любит в полете фигуры лишь поворота момент.
Ведь остановка в пути – это оцепененье.
Счастлив ли тот, кто поборник невзрачности серой?
Жди, жесточайшее шлет жестокому уведомленье.
Молот, увы, занесен над верой.
Чистым будь родником. То – познанья порука;
льются творенья восторженно и благодарно,
часто начало – в конце, а конец – начало начал.
Каждый счастливый дом – дитя или внук разлуки,
все с удивленьем проходят сквозь это. И новая Дафна,
лавром себя ощутив, желает, чтоб ветром ты стал.
XIII
Будь впереди разлук – так, будто прощанье
в прошлом уже, как зима, что минует вот-вот.
Ведь среди зим бесконечное есть зимованье,
и, претерпев его, все твое сердце снесет.
Будь в Эвридике умершим, – поднявшись над тенью,
пой, прославляя романтику вечных разлук.
Здесь, среди исчезающих будь, в царстве видений,
будь разбитым стеклом, превратившимся в чистый звук.
Будь – но и знай также небытия законы,
слушай души колеблемой вечные стоны,
в миг озаренья исполнишь все и поймешь.
К миром утраченному, к запасам, что долгие годы
неисчерпаемы в недрах безмолвной природы,
себя, ликуя, причисли и число уничтожь.
XIV
Видишь цветы, эти преданные созданья,
что нам вручают судьбы своей краткие дни, —
кто ж это знает? А вечная грусть увяданья —
это каются в чем-то они.
Мир воспарил бы. Но мы его обременяем,
давим на все, восхищенные весом своим.
О, для чего наставленья вещам учиняем?
Вечное детство – счастье, врученное им.
Если бы с ними уснуть и в бездонных глубинах
вместе побыть, может статься, совсем другим
ты возвратишься из общих тех снов голубиных.
Или остаться, быть может, в родных объятьях
славимым и обращенным, равным своим —
тем, ветрами лугов овеваемым братьям.
XV
О ты, фонтана устье, ты – уста,
что вечно о высоком говорят.
Ты, мраморная маска, – маскарад
воды журчащей. Акведук с моста
к тебе подходит, он издалека,
мимо могил, пред склоном Апеннин
несет немолчный говор твой, пока
по мшистой застарелости седин
он в чашу не падет, затихнув там,
где ухо спящее, неведомое нам,
труба из мрамора – журчанья вечный ход.
Земли большое ухо. Лишь с собой
беседу признает. Сосуд любой,
что зачерпнет воды, ее прервет.
XVI
Постоянно нами разрываем,
Бог – пространство, что врачует нас.
Мы остры и мним, что много знаем.
Он же, ясный, всюду всякий час.
Жертвы – только те, что святы, чисты, —
он берет как верности обет,
с горней высоты своей лучистой
нас хранит от крайних бед.
Только мертвый пьет
из источников, что рядом, у околиц;
Молча Бог им знак дает, —
им, мертвым.
Нам же только шум предложен, гордым.
А ягненок просит колокольца —
кротости инстинкт его ведет.
XVII
Где, в каких орошенных, блаженных садах, на которых
древах, из коих безлистных, нежных чашечек спорых
зреют диковинные плоды утешения? Эти
лакомые, что, быть может, найдешь на рассвете
ты на лугу примятом твоей нищеты. Постоянно
будешь дивиться величию этих плодов,
силе целебной их, мягкой кожурке странной,
и не мешает тебе ветреность птиц, примириться готов
с червем. А есть ли деревья, что, ангелами любимы,
тайно взращенные странным садовником неторопливым,
не принадлежа нам, возносят нас к свету?
Сможем когда-нибудь мы, ходячие схемы и тени,
нашей незрелостью, вялых поступков плетеньем
невозмутимость нарушить спокойного лета?
XVIII
Танцовщица: о превращенье
исчезнувшего в движенье: дар от твоих щедрот.
А вихрь в конце, это дерево из круженья,
не взял ли себе в обладанье свершившийся год?
Цвести неспешно, чтоб мошки над ветвью роились,
вкруг тишины верхушки? Не ты ли над ней
солнцем была и летом – теплом струилась,
безмерным теплом твоих жертвенных дней?
Но плодоносило, плодоносило древо экстаза.
То не его ли простые плоды: кувшин
в полоне колец и совершенная ваза?
А вот и образ: то ли изображенье
осталось, что брови твоей темный клин
быстро черкнул на круче собственного крученья?
XIX
Где-то золото в благотворящем банке живет,
тайно тысячам благотворит. Но каждый
нищий, слепой для медной монеты даже —
место пустое, угол под шкафом, где пыльный налет.
В торговых рядах у денег житье домашнее,
переоделись для виду в шелк, гвоздику и мех.
Он, молчаливый, замер пред ними, важными:
у них передышка, бдящих и спящих, – у всех.
О, как желает закрыться в ночи эта открытая вечно рука.
Завтра судьба вернет и протянет неспешно
ту, что светла, бесконечно ранима, убога.
Чтоб хоть один соглядатай могущество их на века,
дивясь, постигал и славил. Выразит лишь воспевший.
Внятно лишь Богу.
XX
Там, среди звезд. Далеко. И все же дальше настолько
те, что здесь, на земле.
Первый, к примеру, ребенок… и следующий… Горько —
все далеки, как во мгле.
Мерит судьба нас Сущего пядью, быть может, —
это ее секрет.
Сколько же пядей от девы к мужчине положит,
если любит иль нет?
Всё далеко, и нигде не смыкается круг.
Там же, где трапезой ломится стол извечный,
в рыбьи глаза взгляни.
Рыба нема… решили однажды. А вдруг
где-то есть место, где рыбы гуторят на рыбьем наречье,
хоть всем известно – безмолвны они?
XXI
Пой о садах неведомых, сердце; будто в стекло
вплавленных тех садах, прозрачных, недостижимых.
Розы и воды, Шираз, Исфахан, их тепло
благостно ты воспевай, восхваляй несравнимых.
Сердце, яви, что без них нет жизни грустней,
что лишь тебе предназначены спелые смоквы.
Что к дуновенья лицу – прошептало и смолкло —
ты прислонишься среди цветущих ветвей.
Избегни ошибки – не думай, что ждут лишенья
за принятое решенье, именно: быть!
Ты, шелковидная нить, внедрилась в плетенье.
Какой бы образ ни волновал тебя втайне
(даже если это момент страданье испить),
чувствуй, что целый ковер достоин вниманья.
XXII
О судьбе вопреки: изобилия великолепье
плещет в парках и льется по жизни рекой.
У высоких порталов атланты стоят раболепно,
подпирают балконы и мудрый хранят покой.
О, медных колоколов языки – упрямо,
против серости будней восстав, звучат.
Лишь одна колонна Карнакского храма
дожила, поседев, до позднейших дат.
Ныне свергают излишества – это не ново,
в спешке стремятся из солнечного, золотого
дня в ослепленную светом ночь их загнать.
Буйство утихнет и не оставит следу,
та же кривая и те, кого вывезла к свету,
небесполезными были. Впрочем, как знать.
XXIII
Позови меня, ведь час удачи
не дается в руки с давних пор;
близок и молящ, как взор собачий,
удирает он во весь опор
в миг, когда ты мнишь – свершилось, схвачен.
Так лишен ты многого в пути.
Мы свободны. Там отказ назначен,
где радушье чаяли найти.
Требуем поддержки боязливо,
слишком юны для тоски слезливой,
слишком стары для никчемных грез.
Праведно же восхваленья слово,
ах, мы – хрупкость ветки, мощь оковы,
сладость приближающихся гроз.
XXIV
О вечно новая радость, зыбучая, как пески!
Не поощрял издревле никто дерзанья.
Все ж на заливах ликующих выросли зданья,
кружки водой и маслом наполнились – вопреки.
Боги, мы Вас планируем в смелых проектах,
вечных крушителях мрачной нашей судьбы.
Вы же бессмертны. А мы, безымянные некто,
внемлем тому, кто слышит наши мольбы.
Мы, матери и отцы, потомки тысячелетий,
будущим поколеньем чреваты всегда,
нас потрясают в мир пришедшие дети.
Бесконечно рисковые, мы – явленье на час!
И ведает только смерть, что мы такое, когда
молча у этого света заимствует нас.
XXV
Чу, уже первых граблей работа
слышится четко; прокрался такт
в тишь затаенную сильной, бодрой
вешней поры. Грядущего факт
вовсе не скучен. И всякий раз
это отнюдь не повторенье,
а новизна. Не покинет нас,
не обойдет стороной вдохновенье.
Кроны дубов перезимовавших
видятся ночью будущим тленьем;
чуть шевелят листвой неопавшей.
Черны кусты. Вороха перегноя
чернью густой залегли в углубленьях.
Час, уходя, молодеет немного.
XXVI
Как нас трогает птичий крик…
Крик, что звучит, слабеет и тает.
Дети же, что на воле играют,
воплем кричат, что ужасен и дик
Вопли случайны. В малое зданье
мира Вселенной (в который вплывают
крики пернатых, как люди в мечтанья)
клинья из визга они вбивают.
Где ж мы? Летим все свободней, игривей
змеем бумажным, сорвавшим помеху,
полу-высоко, с каймою из смеха,
порваны ветром. Внуши крикливым,
Боже поющий! Чтоб тихим эхом
журча струились мысли и лира.
XXVII
Вправду ль бывает время крушащее?
Крепость на спящей горе когда разрушит оно?
Сердце, Богам извечно принадлежащее,
скоро ль распять демиургу дано?
Вправду ли мы болезно-трусливые,
и это судьбы коварной вина?
В детстве даем надежду, пытливые,
бойкие на корню, потом – тишина?
Ах, как призрачно прошлое,
сквозь впечатлений крошево
дымом уходит в забвенье.
Все ж нас таких – гонителей
будущего вершители
Божьим сочтут твореньем.
XXVIII
О, двигайся. Почти дитя, дополни
фигурой танца на единый миг
ты звездную картину танцев вольных
и оживи глухой природы лик,
на время превзойдя ее. Поскольку
все движется, когда поет Орфей.
Тебе еще тогда бывало горько,
ты изумлялась дереву – быстрей
не постаралось слух свой обострить.
Еще ты знала, где звучала лира,
возвысившись; неслыханное бденье…
Вершила ты прекрасные движенья,
надеясь к торжеству и счастью мира
свое лицо и поступь обратить.
XXIX
Тихий друг необозримых далей,
как твое дыханье множит мир!
В звоннице, средь сумрачных реалий
ты звони. Озвученный эфир
дарит силы и крепит, как обод.
Превращений – больше с каждым днем.
Что тебе дает страданья опыт?
Если горько пьется, стань вином.
Будь же в эту ночь волшебных сил
на распутье чувств твоих, ликуя,
странной встрече отдавая честь.
Если мир тебя уже забыл,
медленной земле скажи: теку я,
быстрым водам говори: я есть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































