Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
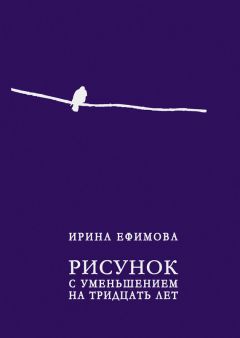
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Малыш и бинокль
Визави, на двухместном сиденье троллейбуса № 87, сидела замороченная жизнью и детьми мамаша в странной, похожей на перевернутый котелок шапке. На руках у нее канючил недогодовалый малыш, а рядом сидел другой сынок – мальчик лет четырех. Не собиравшийся спокойно сидеть старшенький заявил, что голоден, в ответ получил краюху белого хлеба, от которой был оторван кусочек хрустящей корочки для младшего.
Рядом же со мной, тоже на двухместном сиденье, но против движения, развалился толстый увалень с румяными щеками лет десяти от роду, как бы сошедший с экрана «Ералаша»; вся леность его натуры была налицо: и то, как он, почти лёжа, сидел, и как прикрывал глаза, сдвинув на них ушанку, и неслабая упитанность тела – все изобличало его приоритеты в этой жизни.
Четырехлетний сынок замученной мамаши долго и не случайно смотрел на моего краснощекого соседа слева, словно выпестывая какую-то мысль, на которую его навел случайный попутчик. Потом, видимо, оформив вопрос, спросил:
– Ты чего спишь? Здесь нельзя спать.
– Почему? – слабо возразила его мамаша. – Можно.
Тогда малыш решил по-другому поставить вопрос:
– А почему ты спишь? Ты устал?
Я взглянула на соседа-крепыша. Он еще немного сполз телом с сиденья – видно, от смущения, еще больше надвинул на глаза шапку, улыбнулся и ничего не ответил.
Я с любопытством смотрела на смышленого мальчика-с-пальчика, осмелившегося в таком тоне вести беседу в транспорте со случайным попутчиком. Тогда малыш перевел свой неоднозначный взор на меня и, как и следовало ожидать, обратил свой вопрос ко мне:
– А тебе чего надо?
Я приготовилась ответить, хотя, честно говоря, ничего остроумного не придумала, но в это время к нему наклонилась его мать и что-то тихо сказала, очевидно, сделала замечание. Но это его не угомонило, а лишь раззадорило, и он с новым напором, оттолкнувшись от спинки сиденья и оказавшись таким образом в большей готовности вести диалог, повторил вопрос:
– Тебе чего надо?
Я ответила:
– Не скажу.
Этот ответ озадачил его на какую-то секунду, но не более того, и он продолжил свою линию:
– Я тебе вот сейчас покажу…
Но мать наступила на горло его вдохновенной песне, дернув за рукав, и он, все еще бормоча какие-то угрозы в мой адрес, немного приглушил свою речь, но не прервал ее. Я же, поскольку мне надо было готовиться к выходу, встала и уже не расслышала, какие санкции он мне готовил.
Перед выходом из троллейбуса я еще раз взглянула на прообраз героя «Ералаша», он смотрел в окно, явно стараясь игнорировать маленького борца с людскими недостатками. Этот же, теперь ко мне спиной, все еще распинался вопреки замечаниям бессильной мамочки; видно, с кем-то не доборолся в детском саду. Последняя мысль в связи с этим соседствованием в общественном транспорте была: таких детей надо снимать в кино – никакими камерами их не смутишь…
Вечером по телевизору показывали очень тяжелый, очень талантливый, очень весомый каждым словом и каждым кадром фильм. Из тех, которые нельзя не смотреть и невозможно смотреть.
Я расстелила постель, проделала все предночные манипуляции, установила вертикально подушку, полулегла на нее, накрылась одеялом и включила телевизор. Притемненные кадры, тяжелые булыжники, каждый из которых играл важную роль, бесконечная, многозначительно журчащая вода, потерявшие жизненную ориентацию персонажи. Глухая, почти невнятная речь…
Кровать от телевизора далеко, доступное для просмотра кресло неудобно, удобное кресло недоступно для перемещения. А может, ближе и не надо?… Но кое-что хотелось получше разглядеть и расслышать.
На экране, на берегу водного потока появился ребенок. Он безмолвствовал, просто стоял и смотрел то на воду, то на мрачного главного персонажа. Почему-то захотелось рассмотреть мальчика – наверное, потому, что люблю детей и небезразлична к их образу мыслей. Встать и пересесть в неудобное кресло? Выдвинуть на удобную позицию удобное?
И вдруг – блестящая идея! Я достала из ящика комода бинокли, да не один, а два – один черный, другой белый, два замечательных бинокля! Ах, как хорошо, просто отменно хорошо видно! Черный удобно ложится в руку, в белый чуть яснее видны детали.
Полулежа на подушке, меняя то черный бинокль на белый, то белый на черный, я смотрела фильм в собственной постели, довольная своей находчивостью.
На экране снова появился ребенок, я наставила на него белый бинокль и… узнала мальчика из троллейбуса, который угрожал сделать со мной что-то нехорошее, но не успел. Тот же абсолютно несмущающийся, с вызовом взгляд, та же готовность заговорить с первым встречным, если позволит сценарий, те же карие глазенки-буравчики, снабженные детсадовской агрессивностью. Я сменила белый бинокль на черный и, несмотря на чуть меньшую четкость (однако чуть более удобное расположение в руке), удостоверилась, что маленький персонаж – мой сегодняшний мелкий попутчик.
Предпоследней мыслью прошедшего дня было: я могла бы работать ассистентом режиссера по подбору актеров, если б таковых, успешных и с не менее точным видением, не было в кинематографе пруд-пруди.
Последней мыслью было: ведь фильм снимался лет десять назад, значит, тот ребенок, который в нем играл, давно вырос…
После чего я отправила в ящик комода бинокли – до следующего фильма – и приступила к решению проблемы засыпания.
С чего мы живы?
Вот уж дней десять как вернулась из деревни, которую впервые наблюдала в конце марта – всегда только летом. А теперь апрель катится в бесконечность – миг назад состоялся «день веселья», а сегодня уже восьмой, обычный, городской…
Но все вспоминается вафельный след от ботинка в нетронутом снегу с черствым настом поутру, который в течение дня размягчается, – эдакий бассейн в виде маленькой восьмерки, тут же заполняющийся талой водой. И вот таких бассейников все больше и больше – я иду по полю выворотно, как балерина, – и в каждом отражается солнце.
Небо без единого облачка – целую неделю. Голу бой и золотой, наполненный теплом и спокойствием, не очень-то и толстый слой воздуха между небом и снежным полем; слепящие лучи низкого солнца не успевают растратить по дороге свой жар. Есть уже совсем сухие проталины, и если на таковой усесться, прислонившись к голенькой, будто пером разрисованной березе, можно прогреться до костей, а заодно набраться энергии от милого деревца. Правда, когда, наконец, заставишь себя встать, вдавив стопами мягкую прель, охватывает состояние полного бессилия, опьянения – глаза закрываются. И вот иду назад той же дорогой, а точнее, тем же бездорожьем, стараясь не попадать в свои наполненные водой следы.
Вороны на белом просторе удивительно спокойны, почти не каркают. Никто их не раздражает, гнезда вить рано. Вот мимо прошмыгнула парочка красавиц-сорок, кружевных, в изумительной комбинации черного с белым. Взметнулись в небо, а посмотреть куда – невозможно: голубое, белое и золотое слепит глаза.
Деревня спит, как сама природа. Все кажется на много меньше, компактней, чем летом, потому что лишено летних подробностей: огороды под снегом, парники пусты и прозрачны, заполненный снегом овраг мелок, засыпанный сугробами пруд вообще не существует, о пышных кронах даже помыслить невозможно.
Дымы из пяти (всего-то!) труб вертикальны, флюгеры молчат. Добродушного пса, захлебывавшегося от радости при встречах, растерзали злые собаки. Извечная, маленькая, кудлатенькая сучка виляет хвостом, ни на что не претендуя.
Когда получается хорошо вздохнуть, пробив завалы дыхательных путей, в так называемой душе трепещут, спеша и захлебываясь, сонмы ассоциаций и воспоминаний. Но все очень быстро кончается, и непосильное волненье снова уступает место умозрительным восторгам.
Опершись на перильце крыльца и щурясь, стоит веселая бабка Маня (есть еще грустная бабка Маня, которой, кстати, не видно). На веселой Мане кофта и безрукавка, полученная в результате аккуратного отрыва рукавов от суконного пальто; на голове васильковый платок. Она вглядывается в меня. Подхожу ближе:
– Здравствуйте. Узнаете?
– Теперь узнаю. Здравствуйте.
Лицо у веселой Мани в крупную сетку – будто вдавили вуаль грубого плетения, потом «форму» убрали, а борозды остались. Рот совершенно полый, если не считать двух чудом сохранившихся желтых зубов – слева, рядом. Внезапно посещает мысль, что, оказывается, суету сует можно снизить до минимума – например, не ходить к зубному врачу, подчинившись естественному ходу событий…
У веселой Мани трое детей – два сына и дочь. Никому она не обуза, ни от кого ничего не требует, обо всех говорит только хорошее. Что касается грустной Мани, то она, напротив, обидчива, всегда жалуется на сына, невестку и внучку, по желтым бороздкам текут необильные старческие слезы. Мани между собой не дружат, хотя кукуют в одиночестве (дети-то не каждый день приезжают) из зимы в зиму, затерявшись в огромном белом просторе.
Все же спрашиваю у веселой о той, грустной, – жива ли.
– Да, жива…А вредная, б. дь, прости меня господи (крестится), все чего-то на меня говорит – «ты это сказала, ты то сказала»… А я зла не держу. Вижу, она воду еле тащит, подскочу и возьму ведро. Она – «зачем, зачем?» а я – «да ты ж еле тащишь, я ж вижу»… Танька, дочка, злится, что я плохо слышу. Ну, не разберу, чего сказала. Спрашиваю – «чего?» А она рукой махнет – «ну тебя, мать, глухая».
– Нехорошо говорит.
– Да ну, я молчу. Она и так нервная, буду я еще ее расстраивать. Тут у меня восемнадцатого был день рождения, восемьдесят два стукнуло. Я и говорю сыну: «Генка, отвези меня в город помыться, а то какое мытье в тазу». А у них в городе тесно: вот тут (показывает) кухня, а вот тут (показывает) уборная. Я как захочу совсем, а они там сидят, обедают, а я вдруг п. ну, можа п. ну, а можа нет. Так и сижу, жду, пока они кончат обедать, трясусь вся…
– Зимой не скучно?
– Скучно. Бывает, увижу в окно, что Вера вышла (Вера – соседка, одна из немногих, что еще живут в деревне), так скорей натягиваю пальто и бегу на скамейку…Ну что…Читаю…Пока читаю, все понимаю, а закрыла – ничего не помню. Сколько прочитала, а ничего не помню…
Я машу веселой Мане рукой, а она желает мне здоровья, потому что, говорит, если здоровье будет, то и все будет…
…Сумерки. Короткая и изменчивая ипостась су ток. Плавный и быстрый переход от золотого к синему, от светлого к темному, от ясного к таинственному, от радости к печали, от ликования к тревоге, а раньше, давно – от потерь и приобретений дня к заветной ночной мечте о завтрашней манне небесной. Теперь вся манна съедена, мучивший душу голод утихает, а утихший превратился в хроническую принадлежность новой ипостаси…
Когда спускается ночь и на деревню с ее глухонемыми окрестностями надвигается усыпанный звездами черный колпак, у дома веселой Мани зажигается яркий фонарь; как театральный прожектор, он выхватывает из тьмы кусок ночного сюжета.
Пытаюсь заглянуть в вынесенный на снег телескоп, смотреть надо почему-то не вверх, на звезды, а вниз, что я и выполняю, при этом вижу одну-единственную звезду – не знаю, какую и отчего именно эту. Ку да как интересней смотреть непосредственно в небо, кажущееся зимой особенно близким…
Занимается новый день, снова безоблачный, на полненный дробью множества капель. На горе, над пру дом, о существовании которого можно сейчас лишь догадываться, гуляют куры, гуси, кошки. Три молоденьких петушка, выпятив груди, время от времени пытаются кукарекать, но неустановившиеся голоса срываются, и пока не удается юнцам выглядеть солидными отца ми семейства.
Ближе к вечеру встречаю еще одну постоянную жительницу деревни, с коромыслом и пустыми ведрами. У нее гладкое, твердое лицо, волосы забраны под платок; она недовольна мужем, с которым вынуждена коротать последнюю жизнь, все время ссорясь. Я выслушиваю ее сетования, спина у меня вконец промерзает – легко оделась; потом собеседница скрывается за склоном, а я, чтобы согреться, иду быстрыми шагами, хрупая тоненьким льдом, спешно образовавшимся, как только лучи покинули лужи.
И все же, немного согревшись, сажусь на выщербленную ветрами и временем лавочку, дабы не упустить спектакля, называемого закатом. Солнце, становясь все больше и красней, опускается за лес. Зависает над прозрачным лесом, заводит нижний край за деревья; в следующий момент огромный красный диск, исчерченный дальними стволами и ветками, лежит на линии горизонта, затем со скоростью и плавностью минут ной стрелки, а может, чуть быстрей и резче, погружается в какую-то плотную стихию. Ровно половина… Меньше половины… последний сегмент – как спина гигантского красного кита… Тоненький краешек:.. Тонюсенький… Все. Утонуло. Утонуло, но горизонт жарко пылает; взгляд скользит по дуге, снизу верх, впиваясь в кажущиеся другими, чем вчера, а может, действительно каждый раз новые, но всегда завораживающие переходы цвета…
Причудливый абрис недостроенного замка на фоне ночного неба притягивает, приближает звездный шатер. Кажется, что он, потеряв подпорки, может опасть, как брезентовая палатка, на круглую, ничем не увенчанную башню, ссыпав звезды внутрь кирпичного цилиндра…
Говорят, если долго смотреть на звезды, тоненькие струйки света, достигнув души и тела, вливают в них космическую энергию. Похоже, так оно и есть. Иначе с чего мы еще живы?..
Апрель 1998
День защиты животных
Между полем, что лежало по правую руку, и лесом, что стоял по левую, шли две горожанки, не уставая удивляться, каким свежим и жарким выдался конец нынешнего августа, и проводя художественное сравнение его с хорошо сохранившейся до преклонных лет женщиной, хотя вряд ли окружающая красота нуждалась в столь принижающей ее метафоре.
И действительно, утрами небо стойко держалось голубей голубого, во второй же половине каждого дня наплывали пышные, открыточные облака; они двигались степенно, сохраняя дистанцию, к вечеру же, оттанцевав медленный танец, освобождали небесный подиум для закатного дефиле.
Утоптанная дорога, как водится, состояла из двух тропинок, между которыми (между колесами редких автомобилей), как волосы на мужской груди, росла жухлая трава. Зато поле – тут же, в двух шагах, – являло редкостное пособие для глупого городского человека: желтые с коричневым, как изъеденные зубы, цветы зверобоя; буклированные, источающие сладкий аромат пуговицы пижм; резко выделяющийся темной ржавчиной конский щавель; какой-то нескромный сорняк, вываливший из своего нутра белую вату, как лен или хлопок (ни льна, ни хлопка, ни их плантаций горожанки, естественно, никогда не видели); длинная гладкая трава, зачесанная ветром набок; коричневые стручочки мышиного горошка, заменившие еще недавно радовавшие глаз сиреневые висюльки. Набегавший ветерок сдувал с хлопкообразного сорняка пушинки, и они витали в воздухе, напоминая безвозвратно ушедшие дни тополиных и одуванчиковых метелей.
В стороне остались бесконечные ряды никому не нужной черноплодной рябины с тронутыми краснотой листьями и кистями набухших черных ягод; поле несобранной красной смородины – наследие эпохи колхозного строя; огромный яблоневый сад, каждое дерево которого зазывало, манило наливными плодами, а потом, наверное, беззвучно хохотало над раззадоренным путником, в досаде бросившим надкусанный обманный плод в зеленую траву, – видно, бывшие колхозники оставили своей заботой ничейное добро.
Итак, дамы шли между полем и лесом, вертя головами вправо и влево и восторгаясь всем, до чего дотягивался взгляд. Сегодня они назначили себе купанье не в том пруду, что был частью деревни, в которой проводили лето наши героини, а в озере, располагавшемся в полутора-двух километрах от нее. От дороги отделилась тропинка, и дамы вошли в березовую рощу, простиравшуюся до самого озера. Вольный ветерок гулял по желтеющим кронам первыми поддавшихся увяданию берез…
Какой изумительный, такой необходимый отрыв от города, напичканного дарами безумной, утомительной, будоражащей жизни; телефонными трезвонами – предвестниками огорчительных событий; человеческими толпами, сквозь которые все время приходится продираться; духотой, головной болью; праздниками и сенсациями…
Чистая, светлая полоса озера приближалась. Неожиданно для тихого, буднего, предполагаемого безлюдным дня показались две недвижные машины – красная и серая. Вокруг них бродили люди – мужчины, женщины, дети. На предназначенном для купания месте сидели две молодые женщины; над головой одной из них вздымался пирамидальный пучок из светлых волос. Несколько разочарованные в своих ожиданиях дамы двинулись вдоль берега вытянутого озера, чтобы найти другое место для привала и купанья. Проходя мимо красной машины, они боковым зрением заметили мирно лежавшую возле нее собаку и только поэтому повернули головы, так как на людей старались не смотреть – их не смущать и не нарушать собственную автономность. Зрение, переключившись с бокового на «фронтальное», с удивлением обнаружило, что в траве, подложив лапки под коричневое, цвета горького шоколада руно, мирно и кротко, как ей и положено по статусу, дремала… овечка! Почувствовав взгляд, она повернула миловидную девичью мордочку к двум уставившимся на нее теткам; смотрела спокойно, доверчиво, никого не боясь и никого не пугая. Тетки же посюсюкали и пошли дальше своей дорогой, а обернувшись еще раз, снова встретили милый взгляд…
Тропинка шла по откосу. Озеро узкой полосой удалялось в осоку и камыши. Далеко идти не стали, как только компания вместе со своей причудой скрылась из поля зрении, уселись на траву. Сидели и рассматривали бережок, решая, где лучше войти в воду. Однако знали нравы туристов, бросающих в воду разбитые бутылки и зазубренные консервные банки. А тут еще большая водяная крыса медленно вышла из воды, погрелась на солнышке и так же размеренно ушла обратно в воду. Посему, подозревая не лучший брод, решили в воду не соваться, а, отдохнув, пойти купаться на отведенное для этого место, не обращая внимания на пришельцев.
Солнечные лучи горящими клинками втыкались в озеро, высекая из его поверхности сиянья, которые, как резвящиеся существа, выпрыгивали из воды. Оторачивающие водоем кроны ив, еще не тронутые осенью, ласково, прощально шумели.
Сидеть на пригорке под лучами августовского, пока еще отнюдь не бессильного солнца было довольно жарко, тем более, что жажда освежающей процедуры осталась неудовлетворенной. Дамы поднялись, обобрали с одежды прилипшие колючки и пустились в обратный путь, намереваясь искупаться прилюдно.
Машины и люди вскоре снова показались. На сей раз компания сгруппировалась в круг, только один маленький мальчик прыгал поодаль то на одной, то на другой ноге в такт музыке, что лилась из серой машины и рождала зрительный образ плохо знаемого, но думается, хорошо чувствуемого Востока: желтые лица, пиалы на собранных в кучку пальцах, палящее солнце, мужики в полосатых халатах и тюбетейках, со скрещенными ногами, медитирующие на деревянных конструкциях, похожих на манежи для грудных детей.
– Музыка-то какая, – сказала одна из дам.
– Восточная, – ответила другая.
И в этот момент, поравнявшись со стоящими в кружок людьми…нет, не сразу, на доли секунды позже…а сначала все перевернулось, как будто происходящее видится из положения вниз головой…потом за стоявшими в ритуальной торжественности людьми взгляд различил…подвешенную к дереву вниз головой тушу животного, с которой уже свисала аккуратно вырезанная рукой искусного умельца, отвернутая на зрителей изнаночной стороной шкура, а эта самая опытная рука производила внутри бело-розовой прямоугольной ниши дальнейшие, быстрые и четкие действия…Мука первого момента, которую испытали проходящие мимо женщины, облегчилась одной спасительной мыслью – животному уже не больно…
Все было схвачено двумя помрачившимися взорами в течение двух секунд, после чего глаза больше в ту сторону не смотрели. Где-то потрескивал костерок. Мальчик допрыгал до двух быстро удалявшихся фигур; одна из дам, выйдя из удушливого спазма, произнесла:
– Они убили эту овцу.
И маленький мальчик, перестав прыгать, сказал:
– А теперь мы будем ее жарить
– А тебе не жалко овцу? – еще на что-то надеясь, спросила другая дама.
Мальчик посмотрел на непонятных теток отсутствующим взглядом и снова запрыгал. В стороне, в траве, возился еще один ребенок, помладше.
Быть может, он разделывал к обеду кузнечика. Почти бегом припустились горожанки мимо берез, залитых теплой желтизной склонявшегося к горизонту солнца, совсем забыв о намерении искупаться.
Они убавили шаг только тогда, когда звуки азиатской музыки перестали быть слышны. Ступая по двум параллельным колеям проселочной дороги, ошарашенные дамы решали вечный вопрос: кто прав? Эти, откровенно исполняющие древний обряд, или те, что сладострастно вгрызаются в шашлык, окорок или куриное крылышко и льют слезы при упоминании о скотобойнях? И так как ответов, как всегда, не было, решили: правильно сделали, что там не стали купаться.
Солнце, сильно покрасневшее, горело сквозь деревья оттуда, где умелые руки, наверное, уже закончили привычное дело, а созванные на пир вкушали первые куски парного мясца, забыв, как звали доверчивое создание с милой мордочкой, полчаса назад не подозревавшее о том, что его душа скоро будет отослана на небо, а тело разорвано зубами взыскательных гурманов. А скорей всего его никак не звали, и эта безымянная жертва останется лишь в памяти двух случайных свидетельниц ритуальной расправы…
Так как ветер дул к горизонту, жареным не пахло. Деревенский пруд присыпало опавшими с ольх и ив листьями – как ни хорошо сохранилось лето, а листья нет-нет да и падали. Куда-то исчезли вечные спутники купающихся – водомерки; видно, кончился их сезон. Облака медленно уплывали вслед закатившемуся солнцу.
Неподалеку от мостика плавал одинокий гусенок, еще не сбросивший желтоватый младенческий пушок. Очевидно, отстал от «гуська». Других гусей на пруду не было, и заблудившееся дитя почему-то плавало по замкнутому кругу, не догадываясь, что таким образом никогда не достигнет цели. Порассуждав о законах природы, предписывающих слабым особям смерть, дамы все же решили, что на сегодня одной смерти достаточно и гусенка надо спасать. Что и сделали – вытащили сиротку на берег. Зажатый в милосердных ладонях гусенок вытянул шею, заверещал, забил немощными крыльями, потом обреченно замолк.
Спасительницы отнесли найденыша в деревенский дом, где было видимо-невидимо живности. Хозяин, хотя и не признал гусенка своим, все же, в знак благодарности, открыл дамам ворота своего обширного хозяйства. Кого там только не было! Сотня кроликов, крольчих и крольчат сновала по клеткам и вольерам; огромные степенные гуси, белые с беж, неодобрительно шипели на непрошенных гостей; куры во главе с петухом сказочной красоты клевали рассыпанное по земле нечто; козы норовили подцепить милых женщин на рога, но хозяин ласково их (коз) урезонивал. Где-то в сарае хрюкали и хлюпали свиньи.
И было совершенно ясно, что все это – большая фабрика по переработке живности на много видов и подвидов пищи, пуха-пера, рогов-копыт, кожи-шкур, яиц-бульонов, пирогов-холодцов. Правда, того существа, чья овчинка и все прочее иногда стоит выделки, в хозяйстве не оказалось…
Вот такой выдался день…
Утром из окна, заставленного горшками с цветущей геранью, ласковый животновод сообщил идущим к утреннему купанью женщинам, что хозяин гусенка нашелся и что, кстати, гусенок-то, оказывается, подслеповат…
Однако с чувством удовлетворения оттого, что жизнь гусенка благодаря им продлится хотя бы до ближайшего Рождества, а если еще не его черед, то и до следующего, две прекрасные дамы прошествовали к деревенскому пруду – освежиться после ночного сна, – где уже никто, кроме них, не купался: Илья-пророк давно наложил запрет на эту процедуру, в полях выкопали картошку, низко склонили тяжелые головы подсолнухи, развесили паутины пауки, сгустило голубой цвет небо, готовясь к осеннему ненастью…
Близился учебный год. Даже для тех, кто давным-давно выучился…
1997
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































