Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
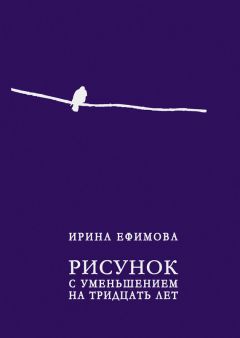
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Я это твердо знаю…
Пусть осень у дверей, я это твердо знаю…
Я это твердо знала три дня назад, а сегодня, когда третьи сутки бесснежную, безлистную, колючую осень покрывает нескончаемый снегопад, я твердо знаю, что в дверь вошла зима…
Почему-то этими ноябрьскими, готовыми с самого утра наступить сумерками вспоминается миниатюрный первокурсник – однокурсник, одногруппник, в общем-то никакой роли в моей жизни не сыгравший, ну разве одну небольшую… Впрочем…
…Я – накануне восемнадцатилетия, он – девятнадцатилетия. Начало первого курса. И хоть не в ту степь занесла судьба, всё, кроме учебы, интересно. Мы, выпускники раздельных мужских и женских школ, жадно, но стараясь не очень заметно, присматриваемся друг к другу. Однако замечаю, что некто он, как сказали бы теперь, положил глаз. Я, последние школьные годы горевшая великой платонической любовью, в ответ состроила свои глазки и позволила проводить меня до дома, испытывая страшную неловкость от прикосновения его пальцев к моим, хоть и спрятанным в нитяные перчатки.
Потом на больших переменах мы совместно уплетали пирожки с повидлом по пять копеек, на лекциях многозначительно переглядывались, – рядом не садились, так казалось интересней. И он, очень гордый в своем миниатюрном образе, стройный, с четко и красиво вырезанными губами, блондинистым чубчиком, горделивым выражением лица позволял однако себе позволять мне некоторую фамильярность и даже простил непростительную записку, которую я направила ему на лекции через ряды сокурсников и в которой содержался весьма бестактный экспромт: «Миленький, хорошенький маленький Сереженька, сердца только нет. Перестань упрямиться, если хочешь нравиться, то пойдем в буфет.»… Глупая детская записка, – сердце у Сереженьки было, и он не упрямился и ходил со мной в буфет есть пирожки, а слово «маленький» наверняка резануло его самолюбие. Просто я немного зашлась в непривычном для меня кокетстве, потому что в течение долгих (для щенячьего возраста) лет привыкла придумывать любимого, находясь в своем «прекрасном далеке» от него, а потому он и впрямь был примерно таким, каким я хотела его любить…
Итак, приближались отношения, к коим я в прежней жизни относилась с большим сомнением, ибо считала, что непререкаемым достоинством девушки является непорочность, при этом имея весьма смутное представление о порочности.
В день рождения Сережи мы просто отправились гулять вдвоем. Было начало декабря, морозно, почему-то на Москва-реке, в районе Котельнической высотки, уже плавали пласты и куски льда. Мы спустились по гранитной лестнице к воде, и я, в кокетливом раже, со словами «а что если мне уплыть на этой льдине», протянула ногу и уже поставила было ее на ненадежную субстанцию, но мой спутник сильно дернул меня за руку, а потом прочувствованно, по-отечески, по-родственному, по-любовному отругал за легкомыслие, за преступное непредвидение того, что могло бы случиться, если бы не его мгновенная реакция… и т. д.
Я так и не узнала, в каких выражениях рассказывал он нашим согруппникам о моей дурацкой, но вовсе не настолько значимой, чтобы о ней повествовать, выходке, только несколько человек на следующий день подошли ко мне со словами «ты что, с ума сошла?» – мы были еще дружными, заботливыми, наивными, не знающими жизни первокурсниками, и даже самый мелкий факт нашего бытия был чрезвычайно важен…
Это «событие» однако заметно сблизило меня и Сережу, и на следующий день мы долго сидели в моей комнате – делали задания, читали
конспекты, которые я вела прилежно, а он не очень, что-то ели-пили; потом ему пора было идти домой, я проводила его до двери, он вышел на лестничную площадку и вдруг таким же решительным жестом, каким спас от утопления в холодной реке, дернул меня за руку, вытащив на площадку, и… поцеловал в губы. Я поспешно попятилась в квартиру и закрыла дверь…
Далее, по-видимому, шла борьба разума и плоти. Ум говорил: «ты пала», плоти было интересно. Весь декабрь мы были утвержденной общественностью парой – вместе ходили по институтскому коридору, вместе после занятий выходили из института на набережную замерзшего канала, где находился наш институт, иногда расставались на несколько часов, чтобы позже встретиться для прогулки (а без расставаний ведь не было б встреч, ах ведь не было б встреч… Никогда-а), и целовались, целовались, целовались в темных уголках зимней, слабо освещенной старой (новая еще не появилась) Москвы – тогда не было принято целоваться у всех на виду.
Потом наступил Новый Год, мама с папой ушли, и вся группа дружно, без единого исключения, явилась ко мне в две небольшие комнаты коммуналки, накрыли стол. Быть может, для большинства – для меня определенно – это было первое празднование Нового Года, в котором не участвовали родители. Праздновали дружно, вдохновенно, с огромным интересом друг к другу, всех ко всем.
Когда веселье отшумело и все ушли, уже забрезжило снежное утро первого январского дня, каким оно и должно быть и каким всегда было в далекой юности, а Пушкинское «снег выпал только в январе» представлялось художественным вымыслом.
Так вот, когда все ушли, и я, смертельно уставшая, наплевав на грязную посуду и весь кавардак, оставшиеся после трех десятков гостей, направилась в постель, вдруг обнаружилось, что Сережа не ушел и обнимает-целует меня, полуспящую, распластанную на кровати прямо в нарядном платье и не способную ответить на его ласки. Как ни старался он своими прекрасными губами и настойчивыми руками разбудить мою чувственность, я не позволила прекрасному юноше заметить, что ему это удалось, потому что она, немного разбуженная, твердо стояла на том, что будет пока бодрствовать вдали от разбудившего. А когда Сережа принялся меня уверять, что мы (в случае чего) обязательно поженимся, я собрала последние силы и выпроводила его из квартиры.
Потом была сессия, и после одного из экзаменов, в единственные полдня отдыха перед очередной зубрежкой к следующему, Сережа повел меня к себе, чтобы представить маме (папы у него, как у многих моих сверстников, не было).
Я сидела чинной девочкой и не могла расслабиться за вкусным обедом и натянутым разговором. Думаю, что я действительно понравилась его маме, как об этом заявил Сережа, но мои ощущения, развивавшиеся до этого визита по восходящей, стали почему-то нисходить. Все чаще вспоминались годы пронзительного безответного чувства, сладость страданий, слова никогда и невстреча как символы моей уникальной судьбы, и воля как счастье неразделенной любви.
Потом были зимние каникулы, и на вечере в каком-то заводском клубе я, в синем костюме с плиссированной юбкой и брошью на груди из маленьких золотых колокольчиков, взялась приглашать на «белые танцы» чужих, приглянувшихся мне юношей, оставляя Сережу с сомкнутым ртом и непроницаемым выражением лица. И вдруг заметила, что с его юных щек еще не сошли подростковые прыщи, что ему не хватает роста, что вообще его образ несколько мелковат…
… Дальше я отправилась по жизни без него, и, признаться, никогда об этом не пожалела. Но почему-то иногда вспоминаю давние дни и мальчика, которому дала – по-видимому, без любви – первый невинный поцелуй. Может быть, потому, что это одно из немногих безгорестных воспоминаний…
Он не простил. До пятого курса – не разговаривал. На единственной встрече группы спустя двадцать пять лет – не поздоровался. «Миленький, хорошенький»… Но потом-то простил, Сережа? Давно наступило время прощать…
В дверь вошла зима. Я это твердо знаю…
«Дай поцеловать…»
Лицо сидящего напротив старика было – как говорили в детстве, считая, что это очень остроумно, – серо-буро-малиновым; но именно таковым оно и было, точнее не скажешь. Честно признаться, очень хотелось пересесть – я как-то сразу, когда вошла, обрадовалась, что есть свободное, одиночное, впередсмотрящее место, и бухнулась на него, но ведь никогда при выборе места в общественном транспорте не приходит в голову оценить ближайших соседей. Акт бегства в другой конец троллейбуса представлялся неудобоваримым – слишком явной была бы его причина. Даже зажатие носа представлялось бестактным, а потому запретным жестом, а так хотелось спастись от исходившего от старика жуткого зловония. Почему-то явилась мысль: ведь когда старик выйдет из троллейбуса – а ведь он когда-нибудь выйдет, – кто-то вошедший, ничего не знающий о сидевшем на этом месте до него, обрадуется одноместному седалищу и быстренько займет его, не подозревая, что на него со всех сторон движутся полчища всевозможных паразитов и микробов.
Тут же подумалось и о себе: может, и я в данный момент сижу на месте, которое только что освободил какой-то несчастный, лишенный места жительства, а стало быть, возможности помыться, почистить зубы и постирать одежду.
Смирившись со своим местоположением и избегая своего случайного взгляда на визави, я смотрела в окно, но уголок моего глаза видел его набрякший сизый нос, полузакрытые глаза, синие руки, одна из которых сжимала ручки стоящего на полу и чем-то набитого полиэтиленового пакета, а другая лежала на колене. Надо лбом пропахшего бездомной жизнью человека торжественно возвышалась белоснежная вязаная шапка – видимо, свежий трофей с какой-то фешенебельной помойки.
Ехать, к сожалению, предстояло долго; в данном случае моя нелюбовь к метрополитену и стремление при любой возможности передвигаться наземным транспортом сделали меня заложницей ситуации.
Народу в троллейбусе было мало, – непопулярный маршрут. Я смотрела в окно, немного прикрывшись от соседа рукой и даже, задумавшись, на какое-то время забыла о нем, как вдруг он сделал какое-то движение – то ли вздрогнул, очнувшись от одолевавшей дремы, то ли поменял положение рук; я невольно посмотрела на него в упор, а он – на меня. Из рытвин окологлазных отеков на меня смотрели очень темные, почти черные глаза, к тому же горевшие каким-то маниакальным блеском, к тому же выдававшие не столь почтенный возраст, как это могло показаться с первого взгляда. Отчетливо понимая, что даже для отъявленных маньяков я уже не представляю никакого интереса и что вообще у этого субъекта сейчас совсем другие заботы, я все же как-то внутренне сжалась под этим взглядом, но и теперь своего места не покинула…
Иногда, когда приходится долго ехать в общественном транспорте, я, если не читаю, придумываю себе такое развлечение: выбираю из публики какой-то персонаж, и если он (он или она) молод, я пытаюсь представить, каким он станет через несколько десятков лет, благо, мне хорошо известно, что именно добавляют годы. То же самое, но в обратном направлении, проделываю с пожилыми персонами, соскребая с их лиц напластования времени и получая таким образом их молодые лики…
Снова быстро взглянув на попутчика, я убедилась, что он все еще буравит меня взглядом, и, отвернувшись к окну, попыталась вообразить его облик многолетней давности и наскоро сочинить хотя бы одну историю, в результате которой он дошел до жизни такой. Боковым зрением я все еще видела его пронзительные черные глаза, которые мне вдруг что-то напомнили…что-то очень давнее…неприятное…Что это, что это, что?.. Рождается сюжет?..
…Кажется, была ранняя весна. Я вышла из квартиры, на бегу по лестницам четырех этажей подвернула ногу, подосадовала, похромала, но это не изменило намерения добраться до районной библиотеки и взять что-нибудь почитать. Что именно – предстояло решить по месту. Хотелось выйти из дому, но не просто так, а с благородной целью.
Немного хромая, я пересекла двор, в бессолнечных углах которого еще лежали исхудавшие, присыпанные грязью лепешки снега, вышла за ворота и остановилась на трамвайной остановке. Трамвая не было довольно долго, потом два неповоротливых вагона, сцепленные скрежещущей конструкцией, додребезжали до остановки, и я вошла в первый вагон. Народу было немного, но все сидячие места были заняты. Я купила у кондуктора билетик, по привычке тех лет проверила, счастливый ли он (редко выпадало и счастливых событий за собой не влекло), схватилась за эбонитовый поручень и стала смотреть в окно.
Будто что-то заставило мою голову повернуться, и я увидела странного юношу примерно моих лет, который пронзительным, не будет преувеличением – испепеляющим взглядом очень черных глаз смотрел на меня и ничуть не смутился, когда наши взгляды встретились – на один миг, ибо я тут же отвернулась и больше ни разу не повернулась, хотя все время затылком ощущала озадачивший меня горящий взор.
Через минуту я все же отвлеклась на графическую картину голых веток бульвара и, как всегда, размечталась, что вот-вот, очень скоро, они опушатся новорожденной зеленью, чем ознаменуют приход самого прекрасного сезона, и даже, забежав вперед, всей силой воображения ощутила запах сирени; эти приятные мысли вытеснили из головы сумасшедшего попутчика. Могло ведь статься, что его уже и вовсе в трамвае не было.
Однако, когда трамвай остановился на нужной мне остановке, я, выходя (кажется, у этих милых драндулетов двери еще не были автоматическими), увидела боковым зрением (которое всегда всё видит, как заметил один замечательный писатель), что голова с горящими глазами повернулась вслед мне. Я вышла и, не оглядываясь, быстро зашагала хорошо знакомым маршрутом, более приятным в последние годы, чем в те долгие семь лет, когда я хаживала им в музыкалку, скрепя свое юное сердце и не признаваясь самой себе, что не так беззаветно, как следует, люблю эти занятия.
Итак, теперь уже пешком, я двигалась по направлению к библиотеке мимо череды старинных двухэтажных домиков, многонаселенных детьми и старушками дворов, металлических, давнего плетения оград, обшарпанных подъездов, жилых подвалов, молочного магазина, булочной, киоска «справочное бюро» и т. д., и т. п., и моя душа ежеминутно пополнялась новыми ожиданиями в связи с наступающей весной (собственно, в ту пору она пополнялась ими в любой сезон).
В библиотеке стояла очередь человек в десять, и пока она продвигалась, я перебрала книги, лежавшие на стойке перед строгой, в очках и белом воротничке, библиотекаршей, немного сникла от духоты и скучного стояния в медленной очереди, так что остановилась на Илье Эренбурге, которого до этого не читала.
Таким образом, когда подошла моя очередь, я просто протянула строгому культурному работнику выбранную книгу, и ему, то есть ей оставалось только зафиксировать мой выбор в читательском билете.
Далее я должна была повторить весь путь в обратном порядке. Снова побрела мимо подвальных приямков, наполненных гвалтом дворов, бурлящих скандальными очередями магазинов; вспомнила, что сегодня у папы получка, а стало быть, он придет с работы с гостинцами, это тоже дополняло радужные впечатления от жизни. Скоро должно было темнеть, но это происходило теперь гораздо позже, чем, скажем, месяц-полтора назад, что тоже шло в копилку предвесенних радостей.
Вот и трамвайная остановка. Трамвая видно не было, и я решила пройтись пешком, благо это оттягивало момент появления дома, где я должна была срочно приниматься за выполнение скучных первокурсных заданий.
Я шла бульваром, пока еще не очень оживленным, не очень просохшим, но с участками живой земли, которая уже была не в силах скрыть своего первородного запаха. Скамейки стояли свободные и грязные, именно возле них особенно глубоководными были лужи, так что присесть не представлялось возможным.
А вот и промежуток в металлической ограде, через которую я должна выйти с бульвара в свой переулок.
Во дворе царило какое-то возбуждение. Скопившиеся в углу мужики все как один смотрели в небо, при этом отчаянно свистели и орали. Подняв голову, я увидела паникующую голубиную стаю и затесавшуюся в нее ворону, которая, по-видимому, и была причиной паники; похоже, птицы не поделили небо.
Я вошла в свой подъезд и стала было не спеша подниматься по лестнице, как вдруг… с высоты уже второго этажа… увидела того самого сумасшедшего, который прожигал меня взглядом в трамвае и про которого я уже давным-давно забыла. Перепрыгивая через ступеньки, он быстро бежал вверх, стремясь сократить расстояние между нами. Я тоже побежала, с ужасом сознавая, что не успею достигнуть своей квартиры раньше, чем он настигнет меня.
На последнем марше, на расстоянии в пять ступенек до моей двери, он схватил меня за руку и, задыхаясь, клокочущим от бега и болезненной страсти голосом выпалил: «ДАЙ ПОЦЕЛОВАТЬ!» И я, всегда до того (и всегда после) цепеневшая, немевшая от страха, не способная к активным действиям и вскрикам, не своим голосом – нe в переносном, в прямом смысле не своим – крикнула «МАМА!!!» Он резко отпустил мою руку и с досадливым «ДУРА» бросился вниз, перескакивая через несколько ступенек…
Я ввалилась в квартиру и упала на диван прямо в пальто.
Соседка сказала: «Я слышала, как ты орала, и я сказала матери «твоя орет», а мать сказала «да нет, не может быть, это не ее голос». Конечно, голос был не мой…
Долго еще я ходила по двору и по району, озираясь. И на той ступени, где сумасшедший меня нагнал, смотрела вниз и спешила добежать до звонка… И всё недоумевала – чем возбудила я, скромная первокурсница, больного человека, почему он так долго ходил за мной в тот предвесенний день, – туда, обратно, ожидал у библиотеки; почему непременно хотел поцеловать… кто его знает…
… Это рассказывать долго, а все воспоминание промчалось за секунду, и я уже почти поверила в то, что сидящий напротив меня старик не старей меня, что и у него с того дня, когда одолевшая его весенняя лихорадка так напугала меня, протекла целая жизнь и что она так же исчерпана, как моя.
Но этот испепеляющий взгляд…Сидит, смотрит; и я сижу, не в силах встать и выйти из троллейбуса. Единственная надежда, что он меня не узнал… И что поцеловать уже не захочет…
А может, просто захотелось состроить сюжет… Что я худо-бедно и сделала…
Кошка на трамвайной остановке
В миг случайно выпавшего хрупкого отдохновенья, когда под благовидным предлогом удалось, заставилось выбраться из дома, в час между собакой и волком, в половине версты от многолюдной, многотранспортной, бурлящей серой межсезонной жижей улицы, я, уже на обратном пути не спеша, остановилась у трамвайной остановки и перевела дух. И вдруг, как путник в пустыне, истомленный жаждой и не верящий в спасенье, с изумлением заметила, что нахожусь в оазисе. Улочка была почти пуста. Трамвайные пути метрах в пятидесяти от остановки поворачивали вправо, скрываясь за изысканным зданием начала того века, в конце которого я теперь жила. Это напоминало театральную декорацию – в спектакле удобней не продлевать рельсы в бесконечность, а имитировать их естественный, в то же время таинственный поворот куда-то. Верхний абрис томного декадентского дома кокетливо изгибался на фоне только что потемневшего декабрьского неба. В длинных узких окнах стройного эркера горел теплый, гипнотизирующий свет; в окне третьего этажа чья-то загадочная рука взметнулась и задернула штору. За ромбами иллюминаторов лестничной клетки виднелась голубоватая стихия – пустынный, просторный, не доступный простым смертным мир. Темные металлические балконы с отороченными снежной каймой кружевными оградами погружались в сон…
Мелкие хаотичные снежинки, сопровождавшие мой спешный путь туда, превратились теперь в хороший, мерный снегопад. Снег падал и волшебным образом преображал суетную, неприглядную, изобилующую нечистотами жизнь большого города. Я взглянула туда, где ожидание увидеть нечто прекрасное никогда не бывает обмануто: мелко дрожащий фонарь освещал стремительно соскальзывающие по невидимым нитям (истинно «как по нитке скользя») тысячи снежинок; некоторые из них срывались с нитей и, как шальные, сновали взад-вперед, вниз-вверх, делая классическую картину веселой и беспечной; но все в конце концов пропадали во тьме…
На планчатой лавочке, навек скрепленной неразрывными узами с металлической фермой остановки – а то ее, лавочку, наверняка давно бы умыкнули, – в блестках свежих алмазов сидела кошка, пушистая, как шар. Сидела спокойно, с достоинством, вобрав в гигантский одуванчик все конечности, прищурив глаза, подобрав хвост и не проявляя никакого интереса к горстке ожидавших трамвая людей. Только когда из меня вырвалось громкое «ой, какая ты красавица», она чуть-чуть приподняла голову и приоткрыла зеленые глаза.
«Она всегда тут сидит, – с готовностью сообщила мне женщина, завсегдатай остановки, закончившая, очевидно, смену на находящейся неподалеку фабрике, – люди идут с работы или на работу и кормят ее». «Да как же никто не взял такую красавицу?» «Она вряд ли к кому-то пойдет» (??) «Как же она не попала до сих пор под трамвай? А она мальчик или девочка?» – у меня роились вопросы.
Красавица почувствовала, что говорят о ней, встала во весь свой рост, подняв кверху не очень длинный, но отменно пушистый хвост. Все новые и новые снежинки приходили на смену растаявшим и, усаживаясь на шерсть, блестели и переливались. Я засунула руку в глубь меха, достигнув отнюдь не хрупкой плоти. Красавица подалась всем телом навстречу, приветствуя и поощряя мой жест, выражая готовность принять ласку, уж если я явилась без мяса и рыбы. «У меня ничего нет», – винилась я и по ее чудным глазам понимала, что она меня прощает. Я гладила голову между ушей и за ними, мокрую спину, упиралась рукой то в один кошачий бок, то в другой. Кошка изгибалась так и сяк, стараясь соответствовать движениям моих пальцев и ладони. «Она и поласкаться рада», – приговаривала женщина-абориген, любовно глядя на кошечку, а я все гладила и гладила красавицу, пока она не решила, что пора поставить на место эту, потерявшую чувство меры: вдруг злобно сверкнула глазами и подняла переднюю лапу – замахнулась. Может быть, я надавила на больное место или просто наскучила гордому животному своими пустыми ласками. Я срочно отдернула руку, чуть огорченная внезапной переменой настроения свободолюбивого зверя.
Дав мне отпор, кошечка решила было отмыться и энергично лизнула свое плечо, но, видимо, тающие бриллианты пришлись ей не по вкусу. Она замотала головой и сделала движение пастью, будто хотела освободиться от попавших в нее волос, после чего вновь подогнула все четыре лапы и опустила на лавку великолепный меховой шар.
Я же стояла в раздумье, примеривая прекрасный экземпляр фауны к своему дому: домочадцам, их характерам, режиму жизни, высокому этажу и т. д. Играла сама с собой в возможность невозможного, – полезная игра, ибо иногда, если не вообразить, что невозможное возможно, можно умереть…
За поворотом, еще не видимый, загрохотал трамвай. Подумалось: «конечно, когда спешила туда, долго не являлся, а теперь, когда…»
Из-за поворота показалась морда трамвая, его тело на миг изогнулось, как тело гибкого зверя, и он остановил свой бег, чтобы принять пассажиров. «Ну вот, сейчас новые люди придут, будут ласкать, может, кто покормит», – финальная фраза словоохотливой женщины прозвучала упреком. Я устремилась к распахнутой двери, последней взошла на ступеньку и, прежде чем дверь за мной закрылась, взглянула на покидаемое животное. Кошка сидела в первоначальной позе, но смотрела на меня широко открытыми глазами – удивленно, вопросительно?! («вряд ли к кому-то пойдет»?!) «Господи, неужели она не привыкла к быстрым расставаньям?» – подумала я.
Половинки двери сомкнулись, пассажиры, покачнувшись, ухватились за перекладины. Кошкина знакомая сразу встретила своего знакомого, у них завязался громкий разговор. До самого метро они на весь трамвай обсуждали, куда надо ехать за хорошим и дешевым репчатым луком.
1993
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































