Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
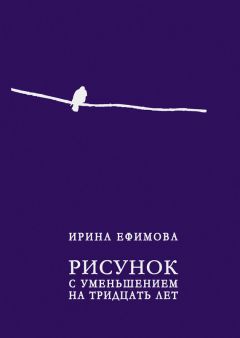
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Собака в Елизаветинском дворце
Вот-вот наступит полнолуние, осталось два-три дня, луна пока еще неполным кругом назойливо вторгается в окно спальни – именно в этой будоражащей фазе она во все сезоны, как раз ко сну, останавливается перед окном и стоит здесь почти всю ночь, будто не двигаясь, и только плотная темная занавеска спасает городского жителя от панической атаки и даже иной раз позволяет не заметить этой роковой дамы небесного предела.
Удивительно, что иногда в огромном городе, начиненном всеми мыслимыми и немыслимыми передвигающимися, шумящими, стучащими, скрежещущими, визжащими, горящими, гудящими субъектами и объектами, среди ночи на какое-то время наступает почти абсолютная тишина. Неужели такое возможно? – вопрошает не спящий человек – неужели возможно, чтобы абсолютно всё затихло? Оказывается, возможно – затихло…
И вдруг в этой подозрительной (уж не конец ли света?) тишине, резко раздирая ее, раздается истерический лай собачьей своры, – не проверено, не подсчитано, но по многоголосью можно догадаться, что собак не менее семи-восьми, что они разных размеров, пола и темперамента и что их объединяет какая-то общая цель. И вот сама цель вступает со своей партией в этот хор – громким, протяжным, протянутым ввысь, вширь, вглубь тоскливым соло, пронзающим внутренности неспящих, изматывающим их беспредельной тоской.
Многозначительная перекличка ночных персонажей, ее слуховой образ отчетливо трансформируется в зрительный, и нет надобности высовываться в окно, чтобы его удостоверить: собака из конуры, что давно сколочена на территории старинного дворца, несущего среди безличья современных зданий свой нездешний облик, взошла – для мнимой высоты положения – на двускатную крышу своей будки, задрала голову и, подолгу не прерывая звука, воет на неполную луну, на неистовый лай своих некормленых, но свободных сородичей, явившихся в этот мир в какой-то городской подворотне и не знающих бряцанья цепи, которая навсегда приковала воющую бедолагу к неуместной, несвоевременной красоте.
Напряженная, неслучайная, подчиненная какой-то непонятной логике перекличка длится еще какое-то время, хористы захлебываются, солист достигает апогея всеохватной тоски, откуда, кажется, нет возврата, и вдруг… так же внезапно, как началось… все обрывается. Снова тишина, кажущаяся еще более, уже совсем тревожной… Но вот где-то заголосила сигнализация, и мысль отвлекается от непостижимости тишины, собачьей паники и беспокоится сиюминутным беспокойством: кто же прервет сей неприятный звук, хозяин-то автомобиля, поди, спит богатырским сном; но это уже приметы сегодняшней жизни, конец света в очередной раз откладывается…
Потом долго (или не долго – как это оценить?) ничего подобного не происходит, хотя сонмы других тревог вершат в бессонной ночи броуновское движение, также наводя на мысли о вселенской катастрофе. Но однажды снова, нежданно-негаданно, как тайфун, как несчастный случай, на тишину налетает оглушительная собачья свара – рваный, разноголосый хор бродячей своры, ненавидящей взобравшуюся на будку-трибуну лизоблюдку, и протянутая до облаков, пронизывающая не слишком темную городскую ночь нечеловеческая человеческая тоска…
Почему-то именно в тот промежуток времени, когда собачьи страсти не взрывают ночную тишину, но иногда не очень-то добрым словом вспоминаются, является предположение – а не связано ли это нервическое явление с фазой луны: ведь если это не происходит часто или ежедневно, то, быть может, имеется какая-то логика? Ведь нелогичным может быть и бывает только человек…
Редко, но иногда удается отвести мысль подальше от текущего момента, от бесконечно длящейся без сна ночи – чем дальше отведешь, тем легче…
Например, решительно мобилизовав спасительное воображение, убираем из местной городской среды все, что в ней накопилось за последние три столетия. Железную дорогу, кирпичные, блочные и панельные здания с их многообразным имуществом в виде столбов, электропроводов и прочих коммуникаций и даже, для чистоты решения, имеющие место и весьма приятные дома столетней давности; соскребаем с дорог и тротуаров асфальт, снимаем добавленный временем слой земли вырубаем за ненадобностью изможденные испорченной атмосферой деревца и деревья. Оставляем только: Елизаветинский дворец красного кирпича со снежно-белыми наличниками окон, еще сохранивший некоторые первоначальные черты, Церковь Покрова, что в селе Рубцове, и реку Яузу, спустив ее грязные воды и наполнив чистой речной водой не без помощи мысленно возрожденной речки Рыбинки, что когда-то текла по району и впадала в Яузу.
Короче, ураганом воображения сметаем почти все до основанья… А затем…
А затем очищенное пространство наполняем лесами, огородами, псарнями с борзыми и гончими; конюшнями с отменными рысаками и карликовыми лошадками; прудами с садками для рыб; пасеками, трактирами и пивоварнями; качелями и каруселями; и многим, многим другим, чего и представить не можем.
Тут-то и выступает в предназначенной ему воображеньем роли построенный первым Романовым загородный дворец, который последующие представители династии почему-то не будут жаловать. Но одной вельможной особе приходит в голову привести его в порядок, и тогда, оторвавшись от большого проекта далекого Зимнего дворца, приходит на помощь зодчий Растрелли и преобразовывает милый Яузский дворец, дополняя его новыми этажами и всеми излишествами роскоши, на какую только было способно время…
Ночное воображение продолжает свое доброе дело, и вот в ночь 21 века вторгается веселый хоровод нарядных девиц и молодиц, особенно хороша одна, в атласном сарафане и кокошнике, с алыми ярославскими лентами в косах, молоденькая, остроглазая, она несется в самозабвенной пляске – юная прекрасная княжна Елизавета. Наскучило плясать и – вскакивает на качели, дюжие парни раскачивают бесстрашную до неба. И того мало – еще пересядет на карусель, раскрутится до потери сознания. Наконец, устанет, и потянется весь хоровод за ней в трактир – отдохнуть за напитками и шоколадом.
Жизнь кипит, жажда веселья ежеминутно утоляется. Цесаревна, высокая голубоглазая красавица – неутомимая участница псовых и соколиных охот, на которые она обычно выезжает после обеденного кушанья, чтобы вернуться к вечернему, в мужском платье, верхом; бешено мчится на отменном скакуне рядом с преданным поклонником – юным Петром II, под присмотром бдительного поручика (ведь еще дети)… Как будто в сутках сто двадцать часов, а в душе и теле – силы ста двадцати гвардейцев…
А то особый повод и особый выезд царского поезда по специальному дощатому настилу – шестерка лошадей, гайдуки в гусарских одеждах…
Насколько хороша, настолько талантлива цесаревна – и плясунья, и певунья, и пряха, и ткачиха, и сочинительница частушек, и завлекательница мужчин. Фавориты очень стараются, чтобы дворец радовал обворожительную Елизавету. Вдали от столицы, от двора куда как веселей…
… Вон он, под окном (под сотнями окон многоквартирного дома) – тот самый (тот самый!) дворец, не раз перестроенный и переделанный, радует в зимних сумерках чувствительный глаз фигурными белокаменными наличниками и прочими выпуклостями фасада, как будто на огромный праздничный торт неведомым современности способом выпростали белоснежные валики крема. Крытые крыльца с фигурными колоннами, светящиеся теплым светом арочные окна… Вечно интригует – нет при входе надписи, разъясняющей, кто, кем, над чем работает в исторических стенах. Некто пишет историю? Реставрирует фрески? Охраняет покои?..
Быть может, ночной завывала, этот навечно прикованный цепью к будке беспородный песик, противопоставляющий себя истерическим собачьим бомжам, как никто ощущает дух прежних эпох, сочащийся из незапечатанной гудроном земли примыкающего к замку палисадника и древних стен дворца, бесцеремонно зажатого последующими эпохами между железнодорожной сциллой и асфальтовой харибдой. Быть может, душа этого медиума, обреченного сутками и годами проводить время перед пластмассовой миской с нехитрым собачьим кормом, разрывается между навороченной современностью и чистым пространством былых времен, ощутить которые выпало именно на его, только на первый взгляд незавидную, собачью долю?..
И снова однажды – или не однажды – в ответ на брехню бродячих брехунов раздастся протяжный, душераздирающий вой; он потянет за жилы не спящих на берегу безнадежно загрязненной Яузы потомков царских особ, а скорей – их челяди. И бродячие истерики, еще раз выразив походя свою ненависть к этой высокомерной твари, якобы стерегущей бывший дворец, ныне здание непонятного назначения, стиснутое в объятьях технического прогресса сомнительного свойства, снова замолкнут – до следующей встречи. А когда она состоится, неизвестно – у бродячих много дел, они вечно куда-то спешат…
Какой все-таки красивый дом… Настолько, что почти неуместный…
Вот ужо луна округлится полностью. Ждем-с…
Кланя
В крайнем душевом отсеке моется Кланя. Вернее, не моется, а просто стоит лицом к стене, спиной к «салону» гулкой душевой, замерев, отдавшись теплой струе. Это ее труба гневно дрожит всем своим существом, от крана до лебединого изгиба, которому положено заканчиваться душевой сеткой; сетка давно утрачена, а труба делает отвратительное тра-та-та-та. В то время как все дамы, обращенные, в отличие от Клани, лицом к пространству и друг к другу и рьяно натирающие свои тела мыльными мочалкам, нервничают и пытаются распознать, откуда раздается канонада, Кланя на эти поэтусторонние звуки ни малейшего внимания не обращает, хотя кажется, что труба, наконец, оторвется и полетит; не обращает, потому что Кланя находится по ту сторону…
Со спины Кланя кажется более или менее молодой женщиной – на теле ни складок, ни морщин. Стареют или обвислостями, или морщинами, и только в глубокой старости эти, казалось бы, взаимоисключающие формы спокойно и безрадостно сосуществуют. У Клани – ни того, ни другого. Бывает же такое, что тело до старости сохраняется в лучшем виде, да еще когда его владелице совершенно безразлично, как она или оно выглядит. На голове у Клани розовая резиновая шапочка. Сосредоточенная струя падает на шейный позвонок, а дальше, разветвляясь, стекает по узкой фигуре, косолапо поставленным ногам, кое-где инкрустированным синими, не слишком вздутыми венами.
Все заканчивают омовение и закрывают краны, что умиротворяет вздорное Кланино ответвление, и оно перестает издавать нервирующие звуки. Обмениваясь полезными советами, дамы натягивают на себя купальники, потом осторожно, дабы не поскользнуться на мыльной метлахской плитке, дружной гурьбой движутся к водяному туннелю, в конце которого не только свет, но и приятная голубая водная стихия. Кланя же все обливается, так ни разу и не повернув головы.
Сегодня на улице солнечно, несмотря на +2. Раньше январское солнце было прерогативой морозного дня – мороз и солнце. Оттепель же обязательно связывалась с многослойной серостью над головой. Теперь же…Впрочем, это не самая худшая из перемен. Если перевернуться на спину и погрузить в воду голову вместе с лицом и глазами, к которым плотно присосались плавательные очки, поверхность воды кажется изнутри непрозрачным волнистым стеклом, за которым безошибочно угадывается ясная погода. А столбики мелких пузырей, поднимающихся из глубины к «стеклу», напоминают рои мошек, вьющихся в воздухе в теплый летний вечер.
Наверное, одетому в большую доху с капюшоном и несущему свою вахту на бортике тренеру прямоугольник бассейна видится сверху огромными, погруженными в воду бухгалтерскими счетами, где спицы натянуты вдоль, а не поперек, а между нанизанными на спицы костяшками, иногда хватаясь за них руками, с различными скоростями снуют взад-вперед желающие оздоровиться клиенты. Время от времени по дну чаши черной змеей извивается шланг грязесоса – некий аквалангист, инкогнито, в плавках и скафандре, методично водит по дну гудящей щеткой, собирая прах времен…
Двенадцать лет назад, когда я была намного, а именно на двенадцать лет моложе, во время сеансов оздоровительного плавания в бассейне под открытым небом я стала замечать настойчивый, направленный на меня взгляд плавающего неподалеку деда с длинной лопатообразной бородой. Улегшись на спину и прижав к груди подбородок, он располагался передо мной, распластав по воде полуседую, полурыжую бороду. Его небольшие, в рамках морщин глазки горели искорками, а уста грозили заговорить. Я терпеть не могу вести в воде беседы, плаваю истово, шумно выдыхаю в воду, мои очки всегда мутны от запотелости, уши залиты водой, я ничего не вижу – не слышу, видеть-слышать – не хочу. Но дед явно не собирался лишать меня своего внимания, и когда я в очередной раз протирала очки, он всегда оказывался рядом – широко закидывающий назад руки, улыбающийся веселыми глазами.
Разумеется, вскоре он заговорил. Улучив момент, когда я на секунду остановилась у бортика, дед сделал комплимент моему брассу, впрочем, тут же принялся давать указания, как более рационально расходовать силы, а именно – вытягиваться в струнку, добиваясь длинного скольжения, чтобы пятидесятиметровую дистанцию преодолевать, скажем, в двадцать гребков вместо сорока. В конце концов, я вынуждена была ответить радетелю, что для того и хожу в бассейн, чтобы делать усилия, а иначе – зачем? На что он обиженно протянул: «А-а-а, тогда другое дело», а я, сильно оттолкнувшись от стенки, ускользнула от собеседника с помощью длинного скольжения.
На дворе стояла отроческая весна, когда растущие возле бассейна чистые, четкие, аккуратно постриженные кусты, еще недавно забросанные клочьями снега, в один прекрасный день оказываются усеянными сладко-зелеными, чуть приоткрывшимися почками, от которых невозможно отвести завороженного взгляда, а улица, на которой уютно разместился водный комплекс, лежит ясная, подметенная, начавшая новую жизнь. Я шла по ней, разложив по плечам мокрые волосы – так приятно, что с уходом зимы отпадает суета, связанная с необходимостью утепляться, сушить волосы и пр.
На пути к троллейбусу я обогнала двух людей, его и ее, в нем без труда узнав деда, хотя часто соплаватели, будучи сухими и в вертикальном положении, долго остаются неопознанными; на этот раз единственная в своем роде борода не оставляла сомнений. В двух шагах от него, немного сзади, так что не вполне понятно, с ним или само по себе, частыми шажками, косолапя, шло существо женского пола в синей вязаной кофточке, с уложенными друг на друга на затылке полуседыми косичками. Я уже обогнала парочку, радуясь тому, что дед не один и что, не имея столь характерного признака как борода, не буду им узнана. Но вдруг я вспомнила, что обещала ребенку купить в бассейновском буфете пирожных «картошка», которые в этой точке общепита были особенно вкусными. Немного посомневавшись, но не считая возможным обмануть ожидания ребенка, я все же повернула обратно. Дед с бабкой теперь шли мне навстречу. Отвернувшись в сторону, я боковым зрением увидела, что дед остановился и провожает меня взглядом, и тут же услышала: «Любезная мадам, подождите». Я оглянулась, не прекращая движения. «Почему возвращаетесь? Что-нибудь забыли?» Пришлось из вежливости притормозить и ответить: «Да, я забыла зайти в буфет». Бабуля переминалась с ноги на ногу, не глядя ни на него, ни на меня. И вдруг произошло то, чего меньше всего в этой ситуации можно было ожидать: тоном, каким строгие родители говорят с детьми, дед приказал бабке: «Кланя, иди домой, а я зайду в буфет», после чего – мне: «Пойдемте вместе». Я видела, как Кланя, тихо пошевелив губами и поморгав глазами, медленно продолжила путь, а дед, приосанившись и помахивая длинной бородой, нагнал меня и пошел рядом. Он оказался невысок ростом, поджар, светлоглаз, с морщинистым подвижным лицом.
Не успели мы ступить на территорию буфета, как он галантно вопросил, чего именно я желаю. Я поблагодарила, объяснив, что собираюсь лишь сделать покупку для дома.
Взяв пакет с «картошками», я снова вышла на весеннюю улицу, на сей раз в сопровождении светского льва. Дед шел нарочито медленно, а когда хотел донести до меня что-то особо важное, и вовсе останавливался. Клани на горизонте не было, что лишало меня надежды в скором времени освободиться от незваного попутчика. Между тем каждый шаг знаменовался новым сведением, и когда мы дошли до троллейбусной остановки, сведения сложились в весьма подробное, к счастью, односторонне знакомство: мне стало известно, что Ивану Спиридонычу 72 года, что он – йог и член шахматного клуба, что главный администратор Большого театра – его лучший друг и что в самое ближайшее время он непременно сводит меня на спектакль. Моими данными он пока не интересовался. Когда мы входили в троллейбус, он поддержал меня под локоток, а когда мне настала пора выходить, а ему ехать дальше, – поцеловал мне руку.
Отныне помимо той задачи, которую я обычно решала в бассейне – хорошо и с должной нагрузкой поплавать, – передо мной встала проблема надежно разминуться с поклонником. Пришлось со второй дорожки, которую я по ряду причин предпочитала другим, уйти на третью, если же я замечала, что идет усиленный розыск, то шарахалась на четвертую. Когда я догадалась сменить купальник и шапочку, скрываться стало проще и даже появилась надежда, что вскоре буду забыта.
Конечно, совсем никогда не столкнуться было невозможно. Я ослабила бдительность и как-то после сеанса, задумавшись, не заметила, что дед меня увидел и поджидает возле регистратуры. «Куда же вы пропали?» – с сим возгласом он на сей раз направил Кланю в буфет, а сам устремился за мной на улицу. На мой вопрос, почему бы ему не подождать жену, он ответил: «Кланю-то? Сама доедет». И снова мы вместе ехали, и опять он интересовался, предпочитаю ли я балет опере и хочу ли сходить вместе с ним в Большой театр, где его близкий друг работает администратором. Я кивала головой в знак согласия, уже уразумев, что его любезность дальше беседы вряд ли распространится.
Зато я стала с любопытством присматриваться к Клане. Как занесло это рассеянное, окающее, природное существо в наш большой город? Как удалось судьбе соединить ее с йогом Спиридонычем? Может, я бы и получила ответы на эти и другие вопросы, если б вела себя общительней, прислушивалась к разговорам в раздевалке и душевой. Мои соплавательницы наверняка знали многое, потому что я не раз наблюдала, как Кланя тихим голосом произносит монолог, стоя или перед гардеробщицей, или перед дежурной по раздевалке, или перед дамой, рядом с которой раздевается, – говорит, говорит, моргая и вяло жестикулируя. Из уловленных мною крох я поняла, что дед ее терроризирует, не разрешает съездить в родную деревню, не позволяет есть мясо, заставляет плавать, словом – деспот и самодур.
Мои старания скрыться с дедовых глаз долой не пропали даром – вскоре дед перестал меня искать, а года через два и узнавать…
Сколько же лет прошло с того момента, когда я свела знакомство с Иваном Спиридонычем, до того, которое хочу остановить, не имея оснований назвать его прекрасным? Наверное, пять-шесть.
Как-то выйдя из бассейна, с более раннего сеанса, чем был тот, во время которого я играла с дедом в незатейливые прятки, я не поверила собственным глазам: навстречу, тесно прижавшись друг к другу и оживленно беседуя, шли Иван Спиридоныч собственной персоной и… какая-то приземистая рыжая особа с широкими, уверенными бедрами, откровенно безвкусно одетая, крепко и хватко держа деда под руку. Я пришла в смятение – а где же Кланя? Я так давно ее не видела, не случилось ли что…
Вскоре многие из посетителей прежних, дневных, не очень удобных сеансов, разбивавших день на две неполноценные половины, стали перебираться на вновь введенные утренние. Перебралась и новоиспеченная парочка. Я по-прежнему ни с кем не делилась своими наблюдениями, но видела, что стоит молодым подойти к зданию, охраняемому металлическим богом источников и рек, как все взоры с насмешкой и любопытством устремляются в их сторону.
Прошло еще какое-то время. Так и не узнав никаких подробностей, я вдруг однажды увидела…Кланю! Она стояла у гардероба – гардеробщица аж перевесилась через стойку, чтоб лучше слышать негромкий Кланин голос, – и говорила, ни к кому конкретно не обращаясь: «Женился на молодой. Ей шестьдесят пять, мне скоро семьдесят». Тут гардеробщице пришлось отвлечься, чтобы повесить мое пальто. Кланя помолчала и – снова: «Женился на молодой»…
А вскоре я встретила их троих, всех вместе. Рыжая также твердо вела деда под руку, Кланя же, по своему обыкновению, плелась на три шага сзади. Парочка время от времени оглядывалась, – проверяла, тут ли Кланя. В раздевалке обе женщины раздевались рядом – и старая, и молодая. Все с ехидством следили за рыжей, она же, не страдавшая по всей видимости никакими сомнениями, никого в упор не видела. Кланя все время что-то тихо приговаривала, ни на чем не останавливая взора…
Хмурый день. В малометражной кухне горит лампочка. Немолодая женщина, стоя на низкой скамеечке, энергично протирает кафель над газовой плитой и недовольно ворчит: «Загваздали все, черти окаянные, что я им – домработница, что ли? На черта связалась с этими придурками?» Грузно спустившись со скамейки, она отшвыривает мокрую тряпку в сторону мойки, но промахивается, и тряпка залетает в пространство между нижней и верхней частями старого буфета, где перед узким зеркалом выстроилась дюжина фаянсовых слонов. Угодив в первого, самого большого, отяжелевшая от воды и грязи тряпка опрокидывает его набок и…полхобота как не бывало, а на оставшейся половине – зиянье свежего белого скола. «Ядренть, развели мещанство». Она находит отлетевший кусок хобота, пытается приставить его, потом решительно бросает в помойное ведро. «Хватит, больно жирно». Усаживается на табуретку к кухонному столу и раскладывает клубки веревок, вырезки из газет и журналов, снимает с полки «Самоучитель макраме».
В дальней из двух небольших смежных комнат сидит на сундуке маленькая старушка. Впрочем, слово «старушка» не очень подходит, скорей старенькая девушка. Ноги в шерстяных носках не достают до пола. Взгляд устремлен куда-то в угол. На стене напротив висит фотопортрет, на котором изображены двое: красивый молодой человек со светлыми лукавыми глазами и кокетливо подставившая под подбородок сплетенные пальцы красавица. Старенькая девушка время от времени вздыхает, тихо причитая: «О-хо-хо». На подстолье старой швейной машины, покрытом кружевной салфеткой, стоит глубокая тарелка с озерцом подсолнечного масла на дне. Ломоть черного хлеба сполз с синего края тарелки и ткнулся в озерцо. Изредка старушка протягивает руку, берет хлеб, макает его в масло, затем, подставив чашечкой ладонь другой руки, подносит хлеб ко рту, после чего возвращает кусок на прежнее место.
Вот старушка закашливается, брызгая хлебными крошками, закрывает рот рукой и докашливает в таком положении. Потом не спеша собирает крошки с застегнутой на все пуговицы кофты. По спине скользит шпилька и падает на сундук. Старушка вынимает из прически все шпильки, кладет их в рот; не переплетая кос, укладывает их заново, одну на другую, закрепляет шпильками, по одной вынимая изо рта.
– Кланя, иди лук порежь. Слышишь, где ты там, малахольная?
Кланя втыкает последнюю шпильку, соскальзывает с сундука и косолапо, в носках, семенит в кухню.
– С вами тут не успеваешь ничего своего сделать. Давай, достань лук, режь, сделаем винегрет, а то старый придет, есть нечего. Что смотришь? Забыла, где лук лежит? Ох, и бестолковая же ты, Кланя…
И, тряхнув огненной прядкой, рыжая принимается плести узор.
Кланя снимает со стены доску, вышелушивает луковицу и режет ее колечками, как когда-то делала мама в деревне. Когда в левой руке остается скользкая луковая горбушка, нож соскальзывает, ударяя по указательному пальцу левой руки, горбушка увертывается и укатывается под плиту.
– Ну, я же говорю, что ты малахольная. Лук не можешь порезать. Нет, пора со всем этим кончать.
Кланя стоит растерянная, из пальца капает кровь. По пути в ванную образуется кровавый след (точечная линия в оглавлении от названия «пора кончать» к номеру страницы – цифре ноль. Нет такой страницы – ноль)…
Дед возвращается из шахматного клуба. Стол в кухне завален веревками – у рыжей сегодня не клеится, она распускает образцы и бросает обрывки в свалку. Нажевалась хлеба и стол освобождать не собирается.
Кланя, снова занявшая свое место на сундуке, прислушивается к разговору на кухне. Палец обернут газетным обрывком.
– Не трогай ее, пусть сидит.
– Уйду от вас сегодня же, надоели хуже горькой редьки.
– Ну что ты, Лялечка, не надо…Ой, что ты такое красивое плетешь?
– Отстань.
– А я сегодня одновременку на пяти досках сыграл.
– Надоели вы мне. И твоя Кланя придурочная, и шахматы, и бассейн. Сегодня же ухожу, уроды, йоги недоделанные.
Голосов больше не слышно, но Кланя знает, что дед сейчас целует Лялечку в затылок.
– Бери винегрет и иди к ней в комнату.
Кланя ковыляет в кухню. Дед, положив руку на Лялечкино плечо, всматривается в ее хитросплетенье.
– Какая же ты у меня умница. Ну, не злись, не злись. Мы будем тебя слушаться. Правда, Кланя?
– Конечно, конечно, – с поклоном отвечает Кланя, уходит в комнату, кладет на кружевную салфетку газету, потом приносит миску с винегретом и две вилки. Они садятся – Кланя на сундук, дед на табуретку – и едят из общей миски. «Ну вот, как прежде», – говорит Кланя тихо-тихо, скорей всего, самой себе.
После обеда, когда дед со свистом дремлет на диване, рыжая лютует. Она сматывает веревки, швыряет журналы, гремит посудой, что-то выхватывает из шкафа, срывает с полок. Потом с грохотом выдвигает ящики комода, который стоит у ног спящего деда, и выкладывает в полиэтиленовый пакет трико, комбинации, лифчики, чулки, косынки.
Кланя, сидя на сундуке, борется со сном, время от времени роняет голову на грудь. Создаваемый рыжей шум воспринимается Кланей без особой остроты. Вдруг на ее колени прилетает запущенный от двери халат. Этот халат подарила Лялечке благодарная Кланя, когда, вернувшись из деревни, получила разрешение «молодых» жить с ними вместе, под одной крышей. Как она тогда летела в Москву – после того как однажды в деревне, лежа на печке, вспомнила: дед наверняка постесняется сказать молодой жене, что ему прописаны регулярные процедуры. Тогда-то, приехав, и выпросила у продавщицы в магазине для беременных этот красивый халат…
Кланя откладывает халат в сторону и идет в комнату, где на диване спит йог. Лялечка зажигает большой свет, хотя в комнате не так уж темно. Дед перестает свистеть, но не просыпается.
Лялечка надевает в передней пальто. Кланя, присев на валик дивана, молча смотрит на Лялечкины сумки. «Целых пять…Как она все унесет?» Лялечка надвигает на лоб норковую шапку, открывает дверь, выставляет сумки на лестницу. Возвращается и, ни на кого не глядя, рявкает: «счастливо оставаться». После чего так хлопает дверью, что стены долго дрожат.
Кланя смотрит на деда. Он спит, лежа на спине, скрестив руки под бородой. Старушка бредет на кухню, наливает воду из графина, пьет – после винегрета пить хочется. Затем замечает свежий скол на хоботе самого первого, самого большого слона, трет пальцем шершавую поверхность, потом усеченным хоботом утыкает первого слона во второго. «Так меньше заметно, а то расстроится». Вспоминает рассказ деда, как первая жена, покойница, подарила ему на пятидесятилетие этих слонов, которые очень дорого стоили. Потом мысль ее снова возвращается к Лялечке. «Куды ж она пошла? К сыну? А говорила, что со снохой все время ругается»…
Кланя прибирает все по местам, выбрасывает обрывки веревок, отмывает посуду от свекольных разводов.
Когда дед выходит в кухню, за окном уже сгустились синие сумерки. В полукруглых окнах противостоящего дома зажигается желтый свет…
Мало ли, долго ли они жили и плавали втроем, сказать затрудняюсь, только прошло какое-то количество быстрых лет, и как-то, сложив свои неподробные и немногочисленные наблюдения, я поняла, что из всей троицы изредка вижу одну Кланю. Она ослабела, перестала произносить монологи и уже никогда и ни на чем не останавливала взгляда, даже когда, закончив оздоровительное мероприятие, кланялась и говорила: «До свиданьица…Доброго всем здоровьица, а больше нам ничего не надобно…» При этом она так выделяла букву о, что только и слышалось до…до…до… Ее косички поседели, пробор расширился, подбородок заострился. Она тихо надевала старенькое черное пальто с котиковым воротником (ибо мои наблюдения чаще всего относились к зимнему периоду), заправляла внутрь серый вытертый платок и, часто шаркая надетыми на валенки галошами, растворялась во времени и пространстве… Немудреные эскизы, нарисованные моим воображением, соединились в предположительно-печальную картину: деда больше нет, Кланя осталась одна, рыжая пошла дальше по жизни, не с Кланей же ей оставаться…
Каково же было мое удивление, когда очередной прекрасной, но трудной весной (…чувства, ум тоскою стеснены), на этой самой улочке, которая волею судьбы стала неотъемлемой частью существования, я повстречала Кланю и не сразу поняла, что рядом с ней, опираясь на палку и заплетаясь ногами, идет худой и гладко выбритый…дед! Иван Спиридонович! Но какой же Руслан отсек ему бороду, в которой некогда таилась сила чародейства моего поклонника? Иссохший, в стареньких одеяниях, в сизом берете, он внимательно разглядывал очередную пядь земли, которую ему предстояло преодолеть. Так вот оно что… Значит, преждевременно оплакивая Спиридоныча, я просто-напросто его без бороды не узнавала. Жив, курилка! Может, сбрил бороду, чтобы выглядеть моложе? Вряд ли. Скорей для того, чтобы не мешала смотреть под ноги, которые перестали слушаться…
…Если с дальней полосы, по которой я теперь плаваю, взглянуть на подводное царство первой дорожки, покажется, что оно наполнено бледными, оторвавшимися от дна водорослями или корневищами водных растений, надводные части которых как бы отсечены горизонтальной поверхностью воды и потому подводному взору недоступны: все ноги, перемещающиеся по первой дорожке, расположены вертикально или почти вертикально. Руки работают с черепашьей медлительностью, организмы передвигаются с едва заметной скоростью. В общем, создается картина эдакого аквариума с невидимыми ключами, заставляющими все сущее немного колебаться и покачиваться.
Среди леса пошевеливающихся корневищ я без труда различаю худые ноги деда. Он теперь никогда не лежит на воде – плавает стоя. На бурых плавках, края которых мерно покачиваются, как рыбьи плавники, поблескивает кокетливый металлический якорек, он прочно прикреплен к ткани и падать на дно не собирается – дед пока еще в плавании. Сколько ему уже? Семьдесят два плюс…? Чтобы даже про себя не произносить итоговую цифру, резко переворачиваюсь на спину и смотрю на солнце – сквозь муть очков и стоящее над открытым бассейном марево вижу желтый диск без лучей. Кажется даже, что солнце немного пригревает. По обращенной к солнцу стене водоема снуют, пританцовывая, пушистые солнечные зайчики. Весной и летом они резвятся на дне, теперь же не могут туда спуститься, потому что зимнее светило не в состоянии подняться на должную для этого высоту.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































