Читать книгу "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
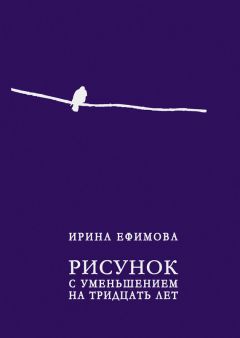
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Между тем всполошились мои родители: пропадаю невесть где, невесть с кем; связалась с «уличными» девчонками, «уличными» мальчишками. Не притон ли какой… Стали вводить репрессии. За приход домой после девяти вечера назначался домашний арест (дозволялся, естественно, выход в школу, одну и другую, но больше никуда). Правда, с правом посещений «арестантки», посему от посетительниц отбоя не было: многим хотелось лишний раз посмаковать подробности моей «истории». Приговор действовал трое суток, независимо от тяжести «преступления».
Поползли слухи. Вот уже на уроке литературы Анна Ивановна не преминула раздражённо заметить: «Занята не тем, чем надо». Одна очень положительная одноклассница, отличница, не переросшая привычку влюбляться в учительниц и, видимо, только такую любовь считавшая правомерной, презрительно бросила в мой адрес: «мальчишница».
Самыми вдохновенными моментами жизни были совместные с мужской школой вечера – «балы» с концертами самодеятельности, «почтой», танцами, переглядками. Незадолго до одного из таких вечеров Тонька изобрела очередную интрижку: объявила, что я должна подарить Валентину мою фотографию; убеждала, что очень, мол, хочет он иметь её у себя, но стесняется попросить. Несмотря на всю свою феноменальную слепоту, я немного посомневалась, но так хотелось верить! И в конце концов я вручила посреднице маленькое фото – такое же, как было вклеено в комсомольский билет…
Я ждала каждого вечера, как Наташа Ростова первого бала (собственно, в моём случае только ожидание и стоило чего-то). И вот на февральском вечере, не прерывая танца – разумеется, не со мной, – Валентин протянул мне нечто едва заметное, а сам продолжал танцевать как ни в чём не бывало (как он двигался! – в детстве занимался балетом). Сердце оборвалось раньше, чем я поняла, что это мой глупый «подарок» – маленькая фотография. А когда поняла, вспыхнула, заметалась, забилась, как птица о стекло, стараясь, разумеется, не подавать виду; стала лихорадочно искать оружия («оружия ищет рука») для немедленного отмщения – увы, я была абсолютно безоружна. Разве что посреди зала влепить пощёчину, но как, как решиться?..
В школе меня задёргали вопросами, намёками, усмешками – на всех переменах, все, кому не лень, доброжелательницы всех четырёх параллельных классов – «А», «Б», «В», «Г». Я не слыла безответной, умела дерзить и нередко делала это, но какова была цена, было известно только мне.
Я ломала голову, как выйти из этого чёрного ужаса, в котором оказалась по собственной глупости, однако менее всего была готова отказаться от своего великого чувства, от этой пагубной страсти, заведшей в тупик.
Ничего умнее не придумав, я написала герою письмо, длинное и беспомощное, полное упреков и подробных трактовок раздутых до «слонов» фактов, которые незаметными «мухами» давно пролетели мимо адресата. В частности, с гневом упомянула о возвращенной фотографии. А закончила ещё «умнее» – торжественными уверениями, что никаких чувств уже к нему не питаю (у Гейне: «письмо, написанное мелко страниц в двенадцать – не безделка. Когда хотят отставку дать, не станут длинно так писать». Впрочем, какая отставка, когда никто не приставал...) В субботу на первом же уроке письмо было передано моей поверенной Марине.
Марину все любили. Она жила с мамой и братом в отдельной квартире – какая это была в то время редкость! Я обмирала от просторного коридора, единоличной кухни, где не бесновались злые соседки, персональной ванны – у нас и общественной не имелось. Но главное было не в этом – и Марина, и её мама были гостеприимными, простодушными людьми, в их доме все встречались со всеми.
Марина согласилась быть «чайкой», которая передаст «милому привет», а также доставит ответ, если таковой последует. Хотелось получить его незамедлительно, как только он выйдет из-под пера. Но дело осложнялось домашним арестом – воскресный выход из дома с нечётко обозначенной целью воспрещался. Так как ждать до понедельника было подобно смерти, организовали цепочку связи, последним звеном которой попросили быть нейтрально настроенную к склокам и сплетням, жившую в моём дворе одноклассницу.
Ранним воскресным утром я проснулась с бешено колотящимся сердцем, через силу позавтракала (о блаженные времена, когда переживания отбивали аппетит), после чего вызвалась сходить в «серый» магазин за покупками, слава богу (да, вот так мы тогда говорили – всуе и с маленькой буквы), не вызвав подозрений. В первую очередь зашла к «связной» в трёхэтажный корпус, получила конверт, на котором была старательно выведена моя фамилия в дательном падеже, и в нетерпении, прямо в чужом подъезде вскрыла («ну-ка, чайка, отвечай-ка»)…
В конверте лежало письмо, предъявленное читателю в начале главы. Написанное нарочито красивым, с завитушками, почерком, дабы побольней уязвить…
Со мной может кто-нибудь не согласиться, но и теперь, спустя десятилетия, письмо это кажется мне блестящим образцом эпистолярного жанра, особенно если учесть тот факт, что писал его воспитываемый улицей отрок пятнадцати лет от роду…
Я и тогда почувствовала, как посрамил он мою глупость. Но, вероятно, не всё поняла, если тут же села строчить следующее посланье, глупее прежнего. Очень плохо я писала. Хотя Анне Ивановне нравилось: почти каждое моё сочинение она носила по классам и зачитывала вслух.
Вряд ли что-либо в этом очередном моём произведении могло всерьёз задеть развлекающегося мальчика, но был дан коварному повод, которым он незамедлительно воспользовался, тут же создав шедевр под названием «открытое письмо». Документ был рассчитан на широкую аудиторию. Один экземпляр распространялся среди «слушателей» мужской школы, второй кто-то из параллельного класса передал мне в руки, третий разносила по всем классам женской школы сама Тонька, открыто перешедшая с этого момента в стан моих недругов: я позволила себе в своём письме неодобрительно отозваться об «уличной» компании, к которой причислила и её. Она собирала на переменах вокруг себя вольнослушателей, от которых не было отбоя, и с выражением зачитывала гневный, вдохновенный пасквиль, созданный несомненным талантом моего возлюбленного и размноженный моей бывшей подругой – интриганкой Тонькой.
«Открытое письмо» для чемоданчика не сохранилось. Одна копия была отобрана у очередного собрания возмущённой Анной Ивановной, другая осталась в анналах мужской школы. Третья, моя личная, то есть подлинник, была предъявлена папе по его требованию и к адресату не возвратилась. Так что не могу воспроизвести в точных выражениях тот яд, который излил на мою бедную голову роковой герой. Помню только, что «памфлет» был дьявольски красив…
Анна Ивановна, посчитав факт публичного унижения любимой ученицы возмутительным и недопустимым, решила требовать сатисфакции: ходатайствовать о возбуждении в мужской школе вопроса об исключении обидчика из ВЛКСМ. К чести (или глупости?) эпохи, те вполне невинные, хотя не без ехидства, выпады в мой адрес, которые позволил себе в открытом послании герой, квалифицировались как оскорбление и могли явиться основанием для такого тяжкого наказания как исключение из комсомола. Мы так рвались туда, в этот комсомол, зубрили устав, дрожали на ковре райкома, гордились принадлежностью союзу. Я горько рыдала, не попав в первый «призыв» очередного года, потому что ещё не соответствовала возрастному цензу…
Сложившаяся ситуация предоставила мне уникальную возможность принести жертву на алтарь любви, я заклала свое самолюбие и позвонила возлюбленному, чтобы предупредить о возможных санкциях. Артистичный юноша говорил со мной тепло и благодарно и даже сделал вид, что перспектива вылететь из союза молодежи его весьма удручает. А может, так и было на самом деле – вряд ли отрок той эпохи мог быть отъявленным циником…
Потом было классное собрание. Анна Ивановна сразу объявила меня обиженной, а Тоньку и Валентина – обидчиками, которые должны понести наказание. Класс шумел, щеки пылали, глаза горели, расходиться не спешили – ещё бы, такое развлечение среди скуки школьных будней. Кто-то меня защищал, кто-то в чём-то обвинял, мне же хотелось одного – чтобы поскорей эта пытка кончилась…
Много в жизни тяжёлых минут, и кажутся они неизбывными. Но даже самые тяжёлые сердечные раны затягиваются, блекнут, становятся сначала вчерашним, затем позавчерашним, потом далёким-далёким днём. Иногда рубцы так и не рассасываются…
В тот момент я даже, как тогда формулировали, снизила успеваемость. Признаться, я любила пятёрки, но не как самоцель, а как капитал, обеспечивающий некоторую вольность поведения, свободу действий. Только позже стало ясно, что возможны варианты; например, пользоваться этой свободой, ничем её не обеспечивая, или вкладывать «капитал» в другое, не столь эфемерное «предприятие»; да и о какой такой свободе я мнила? – трудно представить себе более несвободного (если так можно сказать) человека…
Под первое мая всем одновременно пришло на ум сбежать с уроков – весна, шальное состояние, солнце пьянит! Первым уроком была физкультура, и мы, молодые кобылицы, глупо и громко хохоча, забрасывали мяч в баскетбольную корзину на открытой спортивной площадке в конце школьного двора; потом быстро забежали в класс, схватили манатки – и были таковы. Все, кроме старосты и её ближайшей подруги…
Бессменной старостой была Валя Овсова. Вплоть до десятого класса она сидела за партой, заложив руки за спину (естественно, если они не требовались для учебного процесса), как это было предписано в начальной школе, и не сводя глаз с учителя. Ни разу в жизни она не ослушалась, ни разу не воспротивилась школьному распорядку, словом или взглядом осуждала тех, кто на это решался. И позже, когда приспело время дружить с мальчиками, её платоническим другом и соратником стал комсомольский вожак из соседней мужской школы. Валины волосы были всегда разделены белым прямым пробором, тонкие косички сложены в баранки и закреплены коричневыми бантами. Недаром однажды появившаяся в школе киногруппа выбрала для съёмки школьного эпизода именно Валю, а вовсе не кого-то из самонадеянных примадонн: индивидуальности для лакированной кинохроники не годились (справедливости ради надо отметить, что Валя не была лишена миловидности; видимо, и это сыграло не последнюю роль)…
Итак, мы убежали с уроков, и, видит бог, я была в этом виновата не больше других. Но надо было найти зачинщиков, а когда не нашли – их просто назвали. Относительно меня было сказано: не могла не быть.
Началась «проработка». Комитет комсомола пригрозил пятерым назначенным главарям исключением из школы (спасибо, не виселицей).
Я стояла в школьном коридоре и плакала – невозможно было объявить родителям об очередной неприятности. Анна Ивановна, проходя мимо, процедила сквозь зубы, чтобы никто не слышал: «Не реви, ничего не сделают». В конце концов объявили выговор с занесением в личное дело – был такой серьёзный, но не безнадёжный приговор. После этого обстановка несколько разрядилась, однако ненадолго.
Одновременно с восьмым классом общеобразовательной школы я заканчивала седьмой, последний – музыкальной. И вдруг – ч.п.: меня засыпают на экзамене по музлитературе, то есть ставят… тройку! А дело было в следующем. Однажды, ещё зимой, сверхнежная дама, преподававшая нам музлитературу, на уроке громко чихнула. Я – признаюсь, не очень-то вежливо, фамильярно – возьми да и скажи: «Будьте здоровы, растите большая». Боже мой, что тут началось! Педсовет, родители, извинения… кто воспитал такую невежу… по какому праву… Постепенно затянулось, но её постоянная холодность ко мне на уроках второго полугодия вызывала какую-то смутную тревогу…
И вот через полгода, на выпускном экзамене, она обрушивает на меня град трудных вопросов, на которые, быть может, и сама не знает ответов. Я, естественно, теряюсь и так обижаюсь на тенденциозность происходящего, что уже и на простые вопросы плохо отвечаю (не забудьте, мне только пятнадцать лет). И ставят тройку – мне, у которой по всем предметам, не менее важным в музыкальном образовании, пятёрки! Потом пересдала. Но в аттестате единственная четвёрка среди пятёрок – по музлитературе…
Как бесконечно близки мне те бесконечно далёкие дни. Читаю свои дневники, в них плохо и мало написано, но каждая запись как цветной флажок регулировщика – взмахнул, и выскочили из завалов памяти сюжеты, запахи, цвета – те, не похожие на эти. Какая тогда, в восьмом классе, бушевала весна! Какими значительными, протяжёнными были дни радости, тоски, горя, счастья – радости, тоски, горя, счастья чистой воды, еще не замутнённые въевшейся потом в плоть и кровь тщетой. Неистово шелестели бульвары, пылали газоны, вечером сводил с ума запах табака – кто помнит, как летним вечером благоухает табак? Их величество Чистые Пруды (пруд-то на самом деле один) из замарашки грязного сезона превращались в лебединое озеро; правда, тогда в нём вместо лебедей плавали лодки. «Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви». Хотелось. Очень. И не было сомненья, что только такая бывает (о плохой и маленькой ещё ничего не знали). Так должно быть. Так будет. Гудели машины, звенели трамваи; рассекая лёгкий воздух, летали в «трёшках» и «десяточках» резиновые мячи…
В лужах нашего неасфальтированного двора, не просыхавших до середины лета, ослепительно сияло солнце. Мама недавно отменила свой указ не выходить на улицу без галош, пока не просохнет последняя лужа (вскоре и сами галоши были отменены цивилизацией). Но и во времена действия указа это обстоятельство нисколько не умаляло весеннего состояния, тем более что чаще всего галоши ждали моего возвращения в подвале у моей подруги Лены, чтобы потом сыграть свою короткую роль при вступлении в квартиру.
Школьные экзамены, вершившиеся в школьном переулке, куда я шла в белом наглаженном фартуке, белых тапочках, белых носках, дико и замечательно волнуясь, были неотъемлемой частью этого праздника. (Белые тапочки… Какую радость и уверенность в себе дарили они нам. Как мы ухаживали за ними – мыли, мазали разведённым в воде зубным порошком, потом топали ногами, поднимая облако белой пыли). Казалось, в голове полная мешанина из полсотни выученных билетов, разобраться в которой нет никакой возможности. Но вот билет в руке, хороший или плохой, но – единственный, на нём надо сосредоточиться, а всё остальное можно выбросить из головы – на время или навсегда. Праздник продолжается!..
И снова огорчение, просто урожай неприятностей! Должна была ехать в лагерь от маминой работы – три близких подруги, друзья, общие воспоминания, знакомые пейзажи, скорей бы!.. Не тут-то было…
Предыдущим летом, во время лагерной спартакиады, меня угораздило в разговоре с приятелем назвать физрука, самодура и глупца, дураком; при этом я не подозревала, что «дурак» стоит за моей спиной. Услышав это, он, как ему и положено по статусу, поднял истерику, кричал, что он контуженный, а какая-то сопливая девчонка… и т. д. (хотя я пыталась соврать, что это не к нему относилось, но он-таки не поверил). Меня торжественно вывели из состава совета дружины, грозили отослать к родителям. Не отослали.
Казалось бы, всё кануло в Лету (в прошлое лето) – ан нет! Спустя год, просматривая списки отправляющихся в лагерь пионеров и наткнувшись на мою фамилию, этот «умник» заявил: «Или я, или она». Выбрали почему-то его. Получив от мамы новый нагоняй за старый проступок, я уехала в чужой лагерь. Так постепенно я приобретала жизненный опыт: дураку нельзя говорить, что он дурак, а также не следует ему желать «расти большим», когда он уже окончательно сформировался. И что, в конце концов, не могут же все быть умниками, надо относиться к дураку терпимо… Да и на самом деле, какое я, сопливая девчонка, имею право… и т. д.
Таким образом, в июне состоялась последняя – как вскоре оказалось – в моей жизни смена в пионерском лагере – чужом. Собственно, я уже была не пионеркой, а комсомолкой и безмерно гордилась тем, что вправе иногда выйти на вечернюю линейку без пионерского галстука. Все те же радости были и в этом лагере – подъёмы и спуски флага, «почта» в дождливые дни, спортивные соревнования, «монтажи» и «пирамиды», сборы, пионерские костры. Когда я перед расположившимися на полянке зрителями читала отрывок из поэмы Алигер «Зоя», сидевшая в первом ряду начальница лагеря вытирала слёзы. Я была благодарная дочь своего времени, глаза мои в праздники и будни горели пафосом великого созидания…
Хотя я всю смену скучала по старому лагерю, это не помешало мне и в новом приобрести друзей, и, уезжая на пересменку домой, я настроилась на вторую смену, ни с кем толком не попрощавшись. Но оказалось, что у родителей другие планы. Финал моей многолетней летней жизни был досадно скомкан. Так – толчком в грудь – я познала неожиданное расставанье…
Теперь мне надлежало ехать с мамой к жившим за городом родственникам; сами они были в отъезде, за исключением двоюродного брата, моего ровесника. Началось всё весело, так что я вскоре перестала переживать невстречу с лагерными друзьями. С утра до вечера мы играли в волейбол через сетку с одноклассниками моего кузена. Сам же кузен, познакомив меня с ними, через несколько дней отбыл, как водилось, в пионерский лагерь. С одним из волейболистов мы замечательно сыгрались: я, стоя на третьем номере, навешивала ему высококачественные пасы – чем лучше получался предыдущий, тем вдохновенней был следующий, – а он, подпрыгнув со второго или четвёртого номера, рубил «мертвяка» на площадку противника.
Но в одно неудачное утро вселенная погрузилась во мрак и зарядил ни на минуту не прекращавшийся в течение многих дней и воздвигнувший непроходимую стену между мною и моими новыми друзьями ливень. Не то что поиграть в волейбол – носа нельзя было высунуть на улицу, а дружба ещё не окрепла настолько, чтобы продолжиться в таких условиях. Мы оказались отрезанными друг от друга, как соседние сёла при наводнении. Небо круглыми сутками было безнадёжно серым и низким, почерневшие сосны со стоном раскачивались, сбрасывая со своих набрякших шапок ушаты воды, которая, в дополнение к вечному ливню, обрушивалась на капюшон прорезиненного плаща, в котором приходилось выскакивать «на двор» – в доме удобств, разумеется, не было.
В первые три дня непогоды я одолевала толстый «Обрыв», много часов подряд не спуская затёкших ног с дивана. Но вот уже и книга была закончена, сюжет оплакан, а дождь всё лил и лил. Былые волейбольные игры казались закатившимся счастьем…
Наконец, однажды, ближе к ужину, мрак, висевший над землей столько дней, рассеялся, тучи свалило на восток, и, заливая непривычным, каким-то яростным светом верхушки сосен, засияло клонившееся к закату солнце. Мгновенно образовались сухие, испаряющие великий запах сырой земли островки, в мутных лужах нагрелась вода, лаская босые ноги исстрадавшихся землян.
Я уселась на разбухший душистый забор, держа в руке волейбольный мяч, и почувствовала, что мой организм возвращается к прежней жизни, как после тяжёлой болезни. Зорко вглядывалась я в ту сторону дачного квартала, где обитали мои волейболисты. Они не заставили себя долго ждать, видно, тоже истомились по солнцу и голубому небу. Первым показался сам «предмет». Когда расстояние между забором, на котором я сидела, и движущейся фигурой достигло расчётной величины, мяч «выскользнул» из моих рук и покатился по лужам. Расчёт был точен. Мяч был поднят тем, о котором я за дни всемирного потопа успела размечтаться. Мы смущённо поздоровались…
Кончился июль, наступил август. Как-то мы с «предметом» решили разнообразить нашу жизнь и отправились навестить брата Владика в его пионерском лагере. При входе в электричку я тяжёлой, тогда ещё не автоматической дверью сильно прищемила два пальца левой руки. Задохнулась от боли, но зажалась и терпела, ничего не сказав Борису (таково было имя «предмета»), держа наливавшуюся каким-то ужасом руку за спиной (мы стояли в тамбуре). Сжавшись внутренне от боли, обдумывала, как выйти из этого кошмарного положения. Хотя было ясно, что предстоит провести вместе несколько часов и скрыть случившееся не удастся. Когда вскоре вышли на платформу, со словами «посмотри, что со мной случилось» я протянула Борису раненую руку и сама впервые увидела её – распухшие, сине-багровые суставы с густо запёкшейся кровью. Его огорчению не было предела. Пришлось мне его утешать, а он прикладывал к моим ранам листья подорожника, предварительно обтерев их чистым носовым платком, который положила ему в карман заботливая мама. В лагере мы сначала нашли медпункт, где мне обработали и перевязали руку, а уж потом отыскали нашего дорогого Владика. Мы сидели в беседке за маленьким столиком, на котором, среди других надписей, было нацарапано «Аня+Владик»…
Лето закруглялось. Солнечный свет уже гораздо раньше соскальзывал с верхушек мачтовых сосен, по стволам которых ловко, как кошка, взбирался вернувшийся из лагеря Владик. Иногда наступали дни вселенского шелеста, когда сосны отчаянно раскачивались, прочие деревья и травы шелестели – всё это ревело, как океан, и заставляло на время забыть мелкие подробности существования. Склонялись шапки золотых шаров – маленьких бесплодных подсолнухов…
Ещё не вполне зажившими пальцами я сыграла свою программу на вступительных экзаменах в музыкальное училище и поступила-таки в него. Зачем? Кто его знает…
Конец августа совпал с окончанием первого тома дневника. На последней странице красным карандашом было написано: «Конец!!!» с тремя восклицательными знаками. Как же живуч этот красный грифель, нисколечко не поблёк за столько лет! И через сто лет не изменит своего цвета? Нет, дневники сожгу, а пепел развею по бульвару…









































