Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
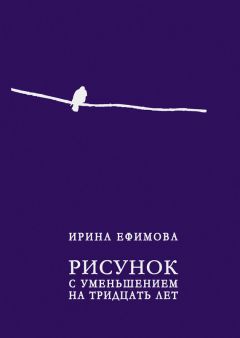
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Лена, если вы сейчас не спешите (обычно после каждой трапезы она стремглав убегала), я на прощанье поведаю вам одну историю; быть может, вам будет интересно.
– Да, конечно, с удовольствием послушаю…
– Ну так вот. Это было давно. Я была студенткой четвертого курса, так что можете себе представить, как давно это было…
– Ну, не давней, чем я…
– Не знаю… Итак… Мой однокурсник с другого факультета пригласил меня на встречу Нового года. Я была удивлена, потому что мы были едва знакомы, никогда всерьез не общались, лишь здоровались и улыбались друг другу. Парень он был симпатичный чрезвычайно, других интересных предложений у меня в тот момент не было, и я согласилась. Если быть абсолютно откровенной, чувствовала себя даже немного польщенной неожиданным вниманием со стороны приятного, заметного в институте – пока не скажу, почему – человека (я намеревалась оставить разгадку для финала, а потому в своем рассказе избегала при мет, по которым персонажи могли быть узнанными раньше времени)…
Лена слушала довольно рассеянно – смотрела по сторонам, кого-то приветствовала кивком, провожала взглядом. Я старалась быть предельно краткой, но и выделять те моменты, ради которых все было затеяно. Неожиданно, поскольку новелла впервые проговаривалась вслух, наметился крен в сторону самоиронии: я потешалась над своей тогдашней неуверенностью в себе, больной гордыней, ортодоксальностью мысли и поведения. И как теряет подробности, но становится концентратом идеи сфотографированный с большим уменьшением рисунок, так краткое мое повествование о неправдоподобно далеком миге свелось к простой и ясной мысли: я позавидовала лучезарной девушке – ее артистизму, успеху у мужчин, уверенности, что только так и может быть; наконец, ее узкой юбке с высоким разрезом, какую мне иметь не позволили. Моменты зависти и ревности – вечные осколки внутри затянувшихся душевных ран…
Лена ждала продолжения и вежливо улыбалась; в какой-то момент мне показалось, что с некоторым «сдвигом по фазе» она все же стала вникать в сюжет и немного напряглась, как бы пытаясь понять – а зачем я все это ей рассказываю. Я замолчала.
– Ну, и…?
– Этой девушкой были вы, Лена…
Она заморгала, сморщила лоб, задумалась – вероятно, прокручивала назад мой рассказ, но лента обрывалась – слушала не вполне внимательно. Потом отодвинулась вместе со стулом от стола, поло жила ногу на ногу, подперла подбородок поставленной на колено рукой, опустила глаза. Я следила за работой ее памяти. Мы обе долго молчали. Потом, так и не подняв глаз и как-то отрешившись, Лена стала медленно и печально качать головой. Я решила уточнить:
– Вы помните тот Новый год?
– Да… помню… – как-то нетвердо ответила героиня моего рассказа, вопросительно и без улыбки посмотрев мне в глаза. И тут я, во время рассказа ни разу не назвавшая, для интриги, ни одного имени, решила, что теперь все карты раскрыты, а потому спросила:
– А вы знали, что Славик…
Она осмотрелась вокруг с таким выражением лица, как будто искала защиты; в опустевшей столовой пригасили огни, официантки ужинали, собравшись за одним длинным столом. Потом, взглянув на меня потемневшими глазами, Лена быстро и сухо ответила:
– Да… – и встала. – Мы, наверное, задерживаем… Надо идти…
Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.
Я вышла на улицу. У фонарей кружился снег, асфальт блестел, как зеркало. Ноги разъезжались. Мне было не по себе. Мысль тянулась к прояснению, как в темной комнате тянется к выключателю рука не доросшего до него ребенка; дитя становится на «цыпочки», тоненькая ручка опирается на стену и ползет вверх; ползет, ползет, и вот средний, самый длинный пальчик касается вожделенной выпуклости, но тут же срывается, не совершив никакого действа; снова карабкается, пальцы ног почти оторвались от пола – правая-то точно висит в воздухе, помогая приблизиться к цели, и… наконец… щелчок. Комната озаряется светом. Но боже, что в ней…
Голову заливает жаром, глаза закрыты, ладонь зажимает рот, не веля ему выдыхать набранный воздух…
Потом я лежала одетая на покрывале, глядя в потолок. За окном через равные промежутки времени с сосулек срывалась капель.
Я восстановила лицо сына и разглядывала его. Усы и борода маскируют лицо… И все же, все же… Очень похож… Такое же гладкое, немного скуластое, чистое лицо; рамка волос около лба – абсолютно такая же по форме; я даже вспомнила, казалось, безвозвратно утерянные Славиковы черты – небольшую асимметричность овала, линию бровей, раскрытие рта при улыбке, покатый лоб… Глаза, правда, серые – материнские. И ростом повыше… И обаяния поменьше…
Завтрак мне уже не полагался. Выпив в комнате собственного кофе и собрав сумку, я подошла к столовой. Лена стояла в холле с тем самым господином, который однажды явился причиной ее чудесного преображения; они беседовали.
Увидев меня, собранную к отъезду, Лена, согласно ритуалу, прощально улыбнулась, а потом, спохватившись, предложила:
– Мы решили повторить вчерашнюю прогулку. Не хотите с нами?
– Спасибо, я поеду. Желаю всего хорошего, рада была познакомиться…
– Оказывается, мы давно знакомы… – сказала она задумчиво, – я тоже желаю вам всего хорошего. Надеюсь, что еще встретимся.
– Конечно…
Я пошла по дороге, ведущей к рейсовому автобусу. В лесу отчаянно галдели вороны. По дну оврага шумно мчались талые воды. Ветер касался лица влажным, плотным, телесным воздухом… Снова город, суета… Принадлежность сезону, зависимость от дат… Как тридцать лет назад, покорность тщете… Через тридцать лет, бог даст, снова посмеюсь над собой…
1991
Встреча
Анфилада из двух арок: арка в арке, за второй – не голубое небо, не райский сад, не свет вечности, а всегда – из года в год, из десятилетия в десятилетие, из полувека в полувек – сменяющие друг друга и лишь немного отличающиеся привносимыми очередной эпохой цветом, формой и очертания ми помойные контейнеры.
В очередной раз вхожу с улицы, носящей на звание бульвара, в первую арку. Она длинная, тянется вдоль всей толщи старого дома. Навстречу, уже под сводом этой самой первой арки, на фоне второй и, соответственно, мусорного контейнера но вой эры, идет невысокий щуплый старик с втянутыми внутрь лица губами, с блеклыми глазами, в берете и шарфе вокруг шеи поверх пальто. Я, бегло скользнув по нему взглядом, прохожу мимо и тут же оказываюсь на просторе небольшого двора, что испокон века являет собой прямоугольный колодец, образованный примыкающими друг к другу домами. Когда-то в нем не было ни кустика, ни травинки; под ногами тех людей, что давно растворились в вечности, лежала свободная от асфальта, утоптанная ногами жителей перенаселенных коммуналок земля. Теперь из заключенной в несвободу троту ара почвы выросли и вознеслись в поднебесное устье колодца длинные астенические деревья, по саженные по программе озеленения столицы лет тридцать назад и до неузнаваемости изменившие облик хорошо знакомого, отдельно взятого местечка белого света.
Впрочем, нельзя сказать, что сегодня я вижу все это свежим, скакнувшим через полвека взглядом, – регулярно посещаю милый сердцу уголок, и его перемены – исчезновение подвальных приямков, появление асфальта и быстро растущих саженцев, замена живой многолюдности таинствен ной тишью, молчаливое стойбище автомобилей, о которых прежняя непросвещенная эпоха ничего не знала, – наблюдались мною постепенно и, признаться, принимались без восторга: хотелось, чтобы все застыло в мемориальной неизменности и подвалы, как прежде, исторгали из глубины нищенского быта запахи сырости, угля, бедности, звуки живого, приспособившегося к немыслимым условиям жизни бытия. Только помойные контейнеры в рамке второй арки до сих пор радуют глаз, и чем больше мусора навалено вокруг них, чем больше тощих кошек, в голодном усердии поворачивающих из стороны в сторону морды, пожирают смрадные объедки, тем милей и любезней мне эта до боли, до помолодения, до веры в вечную жизнь картинка…
Повернув голову налево, я привычным, почти хозяйским взглядом обвожу интересующий меня угол прямоугольника – там давно нет того подвала, где полвека назад я задыхалась от неразделенной любви, а вход в подъезд, ведший на пятый этаж, где обитало несбывшееся, изменился до неузнаваемости и даже, кажется, переместился влево, чего на самом деле быть не могло.
Повернув затем голову направо, я почти рядом с собой снова вижу встреченного в арке старика, который, сдержанно улыбаясь, смотрит на меня в упор. «Сумасшедший», – думаю я и отворачиваюсь, досадуя, что мешают священнодействию.
– Простите, – раздается за моей спиной глуховатый, с претенциозными, витиеватыми интонациями голос, – вы здесь живете?
– По-моему, здесь давно никто не живет, – сухо отвечаю, не глядя на собеседника, но все же, из приличия, чуть повернув голову в его сторону.
– А что вы, простите за нескромный вопрос, здесь делаете?
Можно, конечно, дать ответ, исключающий дальнейший разговор, но что-то заставляет меня наконец посмотреть в глаза навязчивого старикашки и, прежде чем из морщин, выцветших глаз, складчатой, видневшейся из-под небрежно закинутого шарфа шеи проступают знакомые, с юности не виданные, но не забытые черты – нагловатые голубые глаза, белозубый смех, балетная шея – я, еще только на пути к окончательному узнаванию, отвечаю было:
– Для меня этот двор…
И тут на меня жаркой волной накатывает до гадка, уставшее сердце пытается забиться, как би лось много лет назад при всякой убийственной встрече, а таковой была каждая.
– Ваше имя…? – я называю имя, которое долгие годы не произносила вслух, потому, наверное, что было оно и мыслью, и чувством, и памятью, и символом, – всем тем, что будучи изреченным становится ложью…
Старик смеется, чуть растянув беззубый рот, но вдруг весь его старческий облик моментально, будто в мультфильме, корректируется, преображается, приобретает полный комплект белых зубов, ироничное выражение ярких голубых глаз, падавший на уайльдовский лоб блондинистый чуб, длинную шею с переходом, как у фарфоровой вазы, в покатые плечи, что бешено, непостижимо волновали одно-единственное глупое сердце.
– Господи, господи… Неужели ты? Ты тоже сюда приходишь?
– Конечно, только я чаще заглядываю в переулок тут неподалеку…
– Я знаю, о каком переулке ты говоришь… А я в этот двор…
Он снова смеется (понял), на этот раз теплей, чем в первый раз. Потом спрашивает:
– Будем предаваться воспоминаниям или оставим все как есть?
– Не будем. Скажи только вкратце, каковы итоги.
– Жил скромно… Никуда не лез, чтоб не дразнить быков, зато ничего не достиг. Но об этом не жалею.
– А кто поднесет последний стакан?
Он задумывается. Улыбается.
– Надеюсь, пить не захочется… А ты что можешь сказать об итогах?
– У меня все совсем неплохо. Только все кажется, что еще не пора, но это в корне неправильно… Противлюсь, словно дети, я… краткости столетий..
Мальчик-старик смотрит долгим взглядом в тот угол двора, где давно исчезло подвальное окно, а вход на пятый этаж очень изменился, поднимает слезящиеся глаза к небу, затем опускает их, поправляет шарф, окунает в него подбородок и про валившийся рот. Снова улыбается и говорит:
– Между прочим, я тебя сразу узнал.
– Наконец-то я услышала от тебя что-то приятное. Для этого должна была пройти жизнь…
Он приподнимает руку, что, по-видимому, должно означать прощальное приветствие, и че рез первую арку выходит из нашего общего детства в нашу разобщенную старость так же неожиданно и быстро, как когда-то уходил в свою загадочную жизнь.
По многолетней привычке бросаю взгляд че рез вторую арку на помойку. Тощий черный кот с белым пятном на кончике хвоста с остервенением рвет вкусный пищевой остаток, не имея никакого представления об ассортименте, что был в распоряжении его неприхотливых предков.
Дом на бульваре
Она приходила в гости к маме и папе, чаще в воскресные или субботние дни, на «журфиксы», когда собирались родственники и близкие знакомые, чтобы немного выпить, вкусно поесть и пошуметь. Она отличалась от прочих дорогих гостей. Войдя в тесную переднюю маленькой коммуналки с вредоносной соседкой, она долго снимала с себя рейтузы, теплые носки, толстую кофту, поддетую под верхнюю одежду для тепла, не смущаясь тем, что во время этой затяжной процедуры мимо нее несколько раз пробегает соседка, пыхтя от ненависти ко всему интеллигентскому отродью. Переодевшись, она складывала снятую одежду в самодельный матерчатый мешочек, после чего, открыв дверь в комнату и отведя в сторону гобеленовую портьеру, призванную служить дополнительным заграждением, вплывала в комнату.
Звали ее Ольга Петровна, она была дочерью какой-то политической дамы ленинского призыва типа Инессы Арманд или Александры Коллонтай, чуть пониже рангом. Я, присутствовавшая на этих праздниках как дитя хозяев, но по горло занятая своими молодыми делами, слушала разговоры в четверть уха, а потому никаких подробностей о жизни Ольги Петровны ленинского периода не знаю (видела Ленина?). А может, об этом не очень-то и говорили…
Ела Ольга Петровна не спеша, молча, медлительно пережевывая пищу, по-видимому, имея проблемы с зубами, и почти не участвовала в жарких спорах родственников на темы текущей жизни. После трапезы она садилась на тахту, глубоко продвинувшись к стене, так что ноги принимали горизонтальное положение, а спина упиралась в стену, скрещивала на груди руки и, обретя хотя бы одного слушателя, что-нибудь медленно, негромко рассказывала.
Лицо Ольги Петровны, хотя еще не старое (ох, только теперь вдомёк, сколь нестары были все они тогда!), но уже заметно обветшавшее, с морщинками на нежной бледной коже, тем не менее хранило следы былой красоты и неувядаемой миловидности. Одета она почти всегда была в коричневое платье, иногда дополнявшееся белым кружевным воротничком.
Уходя, Ольга Петровна снова повторяла процедуру переодевания, но уже в обратном порядке, и снова под ехидное шипенье соседки, что, впрочем, ее нимало не смущало. Надевала изрядно выношенную беличью шубку и уходила, обычно раньше других гостей.
Жила она неподалеку в огромном доме, где в скученных коммуналках жили три мои школьные подружки. Шестиэтажное здание, завернув в два соседних переулка, образовало большой замкнутый двор с выходом на улицу и бульвар через одну единственную арку. В каком именно крыле жила Ольга Петровна, не знаю – я никогда у нее не бывала.
Иногда Ольга Петровна устраивала у себя званый вечер и приглашала моих родителей; потом долго происходил обмен впечатлениями во всех возможных вариантах – друг с другом, с родственниками по телефону – теми, кто был участником события, и теми, кто не имел чести быть приглашенными; это говорило лишь о том, что состоявшийся вечер был весьма интересным, а присутствовавшие на нем личности «из бывших» – незаурядными. Из каких таких «бывших» были они, тех или этих, и теперь не могу догадаться.
У Ольги Петровны был сын, о муже я не имела никакой информации, и жила она в одной квартире с сестрой, ее мужем и дочерью.
Однажды Ольга Петровна нанесла маме внеочередной визит и пришла вместе с сыном – довольно интересным юношей чуть старше меня. Это было, по-видимому, попыткой сватовства, но сватуемые просидели весь вечер молча, не глядя друг на друга, на этом знакомство и закончилось.
Бульвар, параллельно которому расположился этот дом и к которому быстро, завернув за угол, выбегал мой переулок, был ареной моей бульварной жизни. Весна-зима, весна-зима – говорить об этом мельканье сезонов в смысле быстротечности жизни в высшей степени банально, однако оно неизменно изумляет. На самом деле дни были до отказа наполнены плотью бурных событий, и бульвар, и все окрестные дворы, и этот шестиэтажный дом являлись живыми участниками не так уж быстро (в то время) проистекавшей жизни.
Война кончилась несколько лет назад, во дворах не было никакой растительности, но бульвар распушал по весне деревья, и они шумели, шумели, добавляя многозначительности творимым легендам.
Не слушая внимательно или слушая невнимательно то, о чем говорилось на родительских сборищах, и только мечтая улизнуть из дома и погрузиться в свои затеи, я мало что запомнила и наверняка много интересного упустила. Но осталось общее ощущение того, что тихие рассказы Ольги Петровны были интересней остальных разговоров; не потому ли, помнится, я часто садилась рядом с ней на тахту, слушала и кивала. Может быть, я делала это из сострадания, потому что мало кто из присутствовавших готов был внимать ее неторопливому, вялому повествованию, пытавшемуся увести слушателя в дебри другой жизни.
Замечено, что память не обязательно хранит только судьбоносные обстоятельства. Иногда совсем незамысловатые пустяки из разных эпох, незначительные происшествия, мелкие обиды, сказанная кем-то неудачная фраза выскакивают из недр, окрашенные той же краской, какой окрасило их соответствующее время. «Какая ерунда», – думаешь, а ерундой это так и не становится – навсегда важно и значимо…
Иногда – разумеется, не часто – неожиданные ассоциации вызывали к жизни отрывки из рассказов Ольги Петровны. Не отрывки даже, а обрывки. Например, однажды в памяти забрезжил сюжет о какой-то ее знакомой из того же дома на бульваре. Забрезжил, потом потихоньку, время от времени, маячил на горизонте. Было ли упоминание о некоем шапочном знакомстве однократным, касался ли разговор этой темы не однажды – не знаю. Но что-то вспоминалось, приближалось… Домысливалось… И не случайно…
…Хмурая женщина в сером – узкая комната с большим окном – протянутая в комнате веревка с сохнущим бельем – керосинка – стопки книг и бумаг на столе – папироса в зубах – французская речь – боязнь лифта. Таков штрих-пунктир.
С годами память почему-то стала почти маниакально возвращаться к утонувшему в прошлом рассказу Ольги Петровны о ее первой встрече с хмурой женщиной в сером (она же и последняя?), соединяя его с кое-какими, полученными в последующие годы сведениями, но не будучи в состоянии выкопать из недр подробности.
Чтобы костяк рассказа обрел плоть, мне необходимо добавить энное количество связующих, домысленных деталей – без этого не обойтись…
…Было это…Да, конечно, до войны…
Под вечер Ольга Петровна выходит из дома. В магазин. И просто пройтись. Хочется проветриться. Маленький сынок подброшен сестре. Осень, уже смеркается. Прохладно. Глубокая арка, через которую надо выйти к бульвару и повернуть налево. Впрочем, направо тоже есть гастроном. Но налево прогулка приятней.
В арке двое. И больше в этот момент никого, хотя двор кишит людьми. Немолодая незнакомая женщина в чем-то сером – необычном, нездешнем, это бросается в глаза. Высокий юноша, тоже незнакомый, в кепке, у него тоже странный вид. Чувствуется, что они препираются. Спорят. Но что самое удивительное – спорят на французском языке!
(Не потому ли мне запомнился этот рассказ – сроду тогда не слышала, чтобы кто-нибудь в округе разговаривал, тем более ругался, по-французски!)
Ольга Петровна немного знает французский, но почти ничего не понимает – двое говорят бегло и на повышенных тонах. Ясно только, что она его куда-то зовет, настаивает, а он отвечает, что никогда – jamais – туда (куда?) не пойдет.
Увидев Ольгу Петровну, спорящие приглушают голоса, и тут же рука женщины, держащая за руку юношу, отпускает ее, молодой человек стремительно выбегает на улицу и исчезает за поворотом.
Женщина в сером остается стоять, как вкопанная, опустив глаза. Ольга Петровна проходит аркой и уже собирается повернуть налево. Но слышит за спиной: «Извините, не скажете, где здесь ближайший гастроном?» – голос глухой, без красок. «Я как раз туда иду». «Спасибо, мы только вчера переехали, я тут пока ничего не знаю»…
Вот и все, что могу связно изложить. Все прочие приметы – керосинка, папироса, стопки книг и веревка для белья – быть может, предъявленные когда-то в другом рассказе «продукты» еще одной встречи. Или двух. Этого уже не установить… Не придумала же я их… Во всяком случае, не осталось ощущения, что знакомство продолжалось… И что случайные прохожие с хорошим французским произношением жили в доме на бульваре и после войны… Но это уже полностью на совести интуиции…
…С тех пор прошел не один десяток лет. В той квартире, где Ольга Петровна переодевалась сначала при входе, а потом перед выходом на улицу, давно и без соседей живут другие люди. Почти все участники шумных послевоенных «пиров» переселились в мир иной. Давно и как-то незаметно растаял в тумане образ милой, немного смешной Ольги Петровны. Но большой шестиэтажный дом с длинными, заворачивающимися балконами стоит. Бульвары по-прежнему меняют облик, а зимы-весны, утратив былую наполненность прелестью и смыслом, чередуются довольно быстро (по-видимому, не упомянуть об этом невозможно).
Все на свете изменилось, и путаница времен и событий обременяет головы тех, кто уже не молод. Хочется плюнуть на все и просто пройтись по весеннему бульвару, порой принимая встречных за живших тут когда-то предписанной им жизнью, но в тот же момент понимая, что они, если и живы, уже вряд ли узнаваемы. Опять же путаница…
К шестиэтажному дому на бульваре прилепили эдакую землянку – вход в подвальный китайский ресторан, и он сверкает иллюминацией новой эры. Опоясывающие угол дома балконы застеклили и, надо думать, сделали выходы на них из квартир, ибо известно из проверенного источника, что тогда дверей – выходов на балконы – не было. Как часы без стрелок. Как абсурд эпохи…
И вот однажды… вдруг… во время одной из прогулок мимо дома на бульваре… обрывки воспоминаний и прочитанных в последние годы текстов слетелись в одну стаю, и мне показалось: я поняла, кто и с кем спорил тогда, перед войной, внутри этой арки… Я почти уверена… Ведала ли Ольга Петровна, с кем свела случайное знакомство?.. Может быть, потому и рассказала, что ведала… Этого уже не узнаю никогда… Спросить не у кого…
Летним днем еще военного года я, по воле судьбы, явилась малолеткой на этот ни с чем не сравнимый бульвар, совсем и долго, очень долго не зная, по чьим – еще, быть может, где-то сохранным – следам ходила, с чьей горькой судьбой чуть было не пересеклась, кто хаживал через эту арку, через которую я, противостоя напористому, по законам тяги, потоку воздуха, не раз шла на встречу с одноклассницами…
Я почти уверена… Спросить не у кого…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































