Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
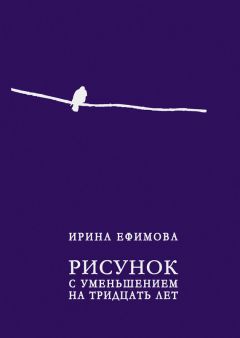
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Из книги «Силосная башня»
Зима в Луковке
Зимняя Луковка не имеет ничего общего с летней Луковкой; совсем другая страна – безмолвное, белое, незапятнанное чудо. Потому что кому же пятнать? Разве что две с половиной старушки, что во все сезоны живут в Луковке и зимой почти не выходят из своих изб, вытряхнут с порога свои полосатые дорожки, да одна-единственная сучка с мужским именем Тузик оставит на белоснежном покрове коричневую пирамидку.
Как дети изображают снег волнистыми линиями по белой бумаге – якобы сугробы, сугробы, сугробы, точно так оно и есть в Луковке – голубые волнистые сугробы…
Ранние сумерки. До сна еще жить и жить. Снег фиолетовеет, в окошках трех-четырех изб загорается свет (ох, этот свет из окошек! Он и в начале «туннеля», и в середине, и в конце…). Бабка Соня зажигает фонарь, и он выхватывает из тьмы кусок декорации: изба, забор, дерево, скамейка с белой коврижкой снега, сдуваемое ветром с веток, проносящееся мимо желтой лампы завихрение…
Ранние сумерки плавно переходят в поздние, поздние – в черную ночь с яркими, близкими зимними звезда ми. Когда ночь окончательно чернеет, звезды, все разом, опускаются ниже, и этот разгул алмазного сияния будет теперь вершиться до позднего утра, до синего утреннего рассвета. Белая снежная земля и черное небо в алмазах – всю ночь один на один, одна на одно, tete-a-tete, глаза в глаза, в полном молчании…
Зимой местность меняется до неузнаваемости. Все подробности исчезают; всё, летом невидимое за густыми кронами и потому вроде бы несуществующее, зимой, как на ладони, и – внове. А всё, летом видимое, – скрыто. Овраг не глубок, лес не густ, озеро вообще исчезает под снегом; того лохматого местечка, где летом переодеваются перед купаньем и после него, вообще нет – лишь торчат из снега голые палки.
Кошка, гуляющая по белому снегу, – явление значительное, неслучайное: это – одинокий странник в пустыне. Тузик тут как тут – единственный черно-белый штрих, связующий зиму с летом. Сначала лает для порядка, потом виляет хвостом и улыбается. Тузику много лет, но она маленькая, а потому все выглядит щенком.
Солнечное утро, пахнущее снегом, навозцем (откуда? – скотину никто не держит), замерзшей рогожей и чем-то еще, еще, еще. Тонкий рисунок голых веток на голубом небе. Солнце в морозной дымке. Наверное, силится подняться выше, да никак не может. Не успело взойти, как уже садится, и всякая, даже самая низкая вертикаль бросает на снег длиннющую тень.
Если задержаться на денек-другой в этом от дельном от других сезонов подлунном мире, к вечеру или к утру погода может измениться. Приплывут снеговые облака, и снежинки, сначала редкие и мелкие, потом частые, крупные и мокрые станут широким фронтом падать на землю, дома, пустые парники, задержавшееся с лета на веревке полотенце, разрисовывая пейзаж свежим белым по черному. А если еще и ветер подоспеет, понесет он пургищу вкось, по диагонали, обтекая стремительным вихрем единственный горящий фонарь на единственной деревенской улице; закачается лампочка, задвигаются тени…
Так и случилось этим вечером: гудит ветер, лепит снег на стеклянную крышу над каминным залом. Обледенел короткий путь от большого дома к маленькому. Быстро движутся облака, рвутся, время от времени приоткрывая звездное поле. Снег бьет в лицо, морозит нос.
Среди облаков показалась Большая Медведица, стоит, как всегда, на страже Божьего порядка, наклонила свой ковш и льет на землю небесную благодать.
Из «Силосной Башни» доносятся звуки роя ля, сливаясь с завываниями метели, шумом безлистных крон в овраге – какая symphony, какая поэма!
Кто-то в просторной зале играет на белых и черных клавишах. В зале тепло, лишь дрожат фор точки, норовя распахнуться и впустить в обитель тепла волшебный вихрь.
Пора спать. Мирен сон и безмятежен даруй ми…
Холодная речка
Если в самый разгар лета, когда травы набрали силу и каждый лист, каждая крапивинка, каждый миг наполнены летней сутью, пренебречь ленью и нежеланием долго идти под солнцем, кото рое, кажется, целенаправленно именно вашу бедную голову прожигает беспощадным лучом, и отправиться в неближний путь, пересечь шоссе и по тому же вектору отдалиться от дороги примерно на такое же расстояние, какое уже про шли, ваши муки будут щедро вознаграждены.
Отмахав приличное расстояние и достигнув цели, остановившись, продравшись затем сквозь запутанные стебли колючих сорняков, заросли не милосердной крапивы, едва не упав на скользком, невидимом глазу из-за чащобы трав спуске, но уже вожделенно вдыхая запах потаенного, призрачного, прозрачного водного потока, обещающий лилии, кувшинки и стайки быстрых рыбешек, вы в сладкий миг желанной встречи, когда заросли остаются за спиной, оказываетесь наедине с неширокой и не глубокой, в любую погоду обжигающей холодом речкой, что несет свои небыстрые воды из некоей благословенной точки земли через леса и поля, не приближаясь к людскому жилью и лишь кое-где обеспечивая водопоем пасущихся на поле коров, потом перерезает пополам старинную часть город ка и впадает в знаменитую реку.
Вы присаживаетесь у воды, потирая обожженные крапивой места, жмуритесь от яркого солнца и предвкушаете все искупающее купанье, но длите миг предвкушенья. И хотя ни лилий, ни кувшинок нет – видимо, все они переселились в «Красную книгу», – их незабываемый аромат витает над прозрачным потоком, но стайки малюсеньких рыбешек действительно снуют поспешной «елочкой» под водой.
Главное же, что вас уводит от быстротекущей действительности и делает персонажем сказочного безвременья, это – рои невиданных, элегантных бабочек-стрекоз с двумя парами ярко-синих крыльев у каждой; они танцуют на фоне выбеленного солнцем неба справа и слева от того места, где вы сидите, как бы соблюдая предписанную сказочными канонами дистанцию.
Когда вы, наконец, погружаете разгоряченное тело в очень холодную воду и, плывя влево по течению, стонете, как стонут земные люди в острые моменты блаженства, одни голубые бабочки-стрекозы оказываются у вас над головой, другие – вдали, на фоне зеленого и голубого. Островки ярко-зеленой ряски проплывают мимо, водоросли опутывают обнаженный стан, густо заросшие берега надежно скрывают вашу наготу от бренного мира (купаться в этой речке в купальнике – кощунство).
Если вы привели на речку своего друга – свежего человека, которому подобная радость в диковинку, он может настолько переполниться счастьем, что, по закону обратной перспективы, искупавшись и вынырнув из девятого вала наслажденья, начнет вспоминать, что уже такую речку видел, такие заросли и таких стрекоз – тоже. Объяснение
этому – необходимость срочно остудить обжигающее блаженство, облегчить неизбежный выход из «астрала» в ту самую бренность, что поглощает наше реальное время. Не верьте – на самом деле такого больше нигде нет…
Выбравшись из зарослей, долго еще – по крайней мере, до шоссе – тело хранит спасительный холод волшебной речки, взор и уши – трепетанье синих крыльев, глаза – красоту тайного водяного потока в зарослях душистых трав, душа – неизъяснимое блаженство выхода в пространство без измерений.
Когда вы в обратном направлении пересекаете шоссе и мимо брошенной, почти провалившейся в землю, загадочной своей покинутостью избы вступаете на дорогу, ведущую в милую Луковку, снова становится жарко…
Жара
Дождя, ветра и прохлады ждала не только природа, но люди – большие, средние и маленькие. Неутомимое, яростное солнце вот уже две недели подряд неистово жгло землю. Дождь явился лишь однажды, сильный – пролился во все существующие и несуществующие щели деревянного дома, но был досадно краток, – облегчения не принес.
Наконец, в средний день июля, под вечер, небесное пространство стало подозрительно разно образным – кроме белых, с утра кучковавшихся облаков, явились их темные собратья; то с одной стороны небес, то с другой доносилось обнадеживающее ворчанье. Подул ветерок, и кроны, впер вые за много дней душного штиля, размяли застоявшиеся ветви. Упали «первые крупные», но ровно через пять минут все отменилось – несшая надежду туча быстро уплыла к горизонту и там, за лесом, за дальним озером, не в силах больше выносить собственную тяжесть, стеной опрокинулась вниз. Черная ширма дальнего ливня продвигалась вдоль горизонта справа налево, на глазах иссякая и бледнея. В амбразуре серых облаков показалось было солнце: выбросило зловеще-оранжевый луч, который, как прожектор из оконца киномеханика по пути к экрану, увеличивался по мере приближения к земле. Но тут же кадр сменился – на голубую дыру снова наехала серость, которая теперь перестала быть монолитом, рас палась на множество композиций. Там и сям снова появлялись голубые прорехи.
Итак, гроза состоялась, но, увы, не в Луковке. Оставалось лишь надеяться, что местность, кото рой посчастливилось принять у себя дорогую гостью, поделится своей прохладой с соседними уделами. Ветер снова утих. Вдали, над лесом, плыл длинный кучевой динозавр, из-за него веером струились неумолимые лучи. Хотели жары, когда в мае-июне маялись от сырости и холода? Получайте…
Се человек…
– Эх, деревня была, девки! Народу много, весело. Свадьбы играли, праздники справляли. Бывалоче, соберемся – здесь, аккурат перед моей избой площадка была, – гармонист хороший, вон в той избе жил. Да нет, это уже не та изба, все перестроили. Я сразу выходила и плясала, плясала. Лучшая плясунья была, не верите? Частушки пели, перепевали друг дружку, переплясывали. Детей в деревне было видимо-невидимо. Один малец такой плясун был, все со мной выскакивал плясать, был моим кавалером, ага… Маленький был, юркий, лет восьми-девяти, а как плясал да подпевал! Такой хороший хлопчик был, да потом испортился, из дома сбежал, где-то долго пропадал… Да вы его небось знаете… А вот энта (кивает на покосившуюся избу, единственную оставшуюся неперестроенной) сошлась с женатым, скандал был, драка; потом так и не вышла замуж…. А Пашка-гармонист после под поезд попал….
Это – вечно неоконченные рассказы последней бабки деревни, былой деревни, былого веселья, былых деревенских страстей…
Зимой в заснеженной, стылой, оставленной дачниками на весь длинный холодный сезон деревне, в дальнем конце недлинной улицы, в прощальном свете заходящего зимнего солнца или скудном – единственного фонаря, почти всегда можно увидеть фигурку в нахлобученной на голову нелепой шапке, больших валенках и не имеющих названия, надетых одна на другую одежках. Она стоит, как изваяние, быть может, чего-то ждет. Когда машина с приехавшими навестить зимнюю деревню людьми сворачивает налево и фигурка скрывается из виду, можно быть уверенным, что через короткое время она появится…
Он приходит в любое время любого сезона – сверкает ли солнце из каждой капли росы, повисли ли бусами на бельевой веревке капли дождя, шаркнули ли по земле первые сухие листья, застревают ли автомобили в разжиженной глине, трещит ли свежий воздух морозом или еще толком не наступило мрачное утро сиротской зимы.
Замка на воротах нет, и он совершенно не собирается строить предположение, что, быть может, хозяева еще не очухались от ночного сна. Он останавливается перед входом в дом – войти не решается – и громким голосом (душа горит!) кричит:
– Александровна (возможны варианты)!!!
И когда Александровна (или не Александровна) выходит, охваченная, в равных долях, раздражением и сочувствием, он просит решить «одну маленькую проблемку»
– Что за проблемка? – спрашивает Александровна (или не Александровна), хотя прекрасно знает, что за проблема возникла у него в это летнее, весеннее, осеннее или зимнее утро.
– Дай на чекушку (иногда – на бутылку пива, что немного дороже четвертинки самогона, которое он покупает у заботливого земляка).
В первый период «заимодательства» он добавлял «с пенсии все отдам», впоследствии это отпало как анахронизм и больше не возникало. Но чаще ему некогда идти за чекушкой или пивом, а требуется срочно загасить бушующий в душе пожар, и тогда он просит «налить маленько» хоть беленького, хоть красненького, хоть желтенького. Отказать невозможно – сочувствие всегда одерживает победу над раздражением. Получив испрошенное, он благодарит и быстро удаляется.
Но ненадолго: заглядывает в этот день еще, как минимум, раза два-три. В эти остальные визиты проблема заключается или в денежной субсидии (если утром маленько получил натурой), или в бутерброде с чем-нибудь. Отказа не встречает.
Иногда на него накатывает вал сентиментальности, ему хочется общения и, сидя на корточках или на самом краю скамейки, он размышляет вслух, призывая оказавшегося рядом собеседника разделить его переживание:
– Мы ведь с тобой друзья? Нас ведь теперь водой не разольешь?
И действительно, никакие воды – ни вешние, ни грунтовые, ни те, что падают с неба в виде различных сезонных осадков, нас разлить не могут.
Иногда он, по внезапному вдохновению, косит ручной косой траву на участке «благодетелей», поминутно подтачивая инструмент, или сгребает широкой лопатой снег, или перевозит на тачке кучу песка с одного места на другое.
Хозяева приветствую полезный труд, но никогда не настаивают на отработке «подаяний», да он и не собирается чувствовать себя должником.
Он обитает за высоким сплошным забором родительского, улучшенного рачительным старшим братом деревенского дома, но после смерти обоих родителей – отнюдь не в доме, а в никому не ведомом сарае, куда пропойцу-калеку выселил близкий родственник. Увидеть это обиталище не представляется возможным – оно находится за семью печатями, как и весь двор, когда-то, при отце кишевший многочисленной живностью – кроликами, козами, утками, гусями, кошками, собаками; теперь же лишь басовитый пес, просунув часть морды под ворота, нехотя облаивает прохожих.
Кое-как заморив червячков поднесенными спиртным и бутербродом, он исчезает под вечер за упомянутым забором до утра следующего дня, полного очередных, аналогичных вчерашним, маленьких проблемок. Иногда ему не спится – быть может, это связано с лунными фазами, а может, его выгоняют из его сарая, и тогда он бродит лунной или пасмурной ночью мимо пруда, спящих домов и домиков, иногда в полночь машет косой в местах, где трава никому не мешает. Его можно понять – безделье бодрости духа не прибавляет.
Он никогда не сетует, не жалуется на жизнь и здоровье, изобилует шутками-прибаутками и заливается смехом на остроты собеседника. Чувство юмора у него отменное. И если не считать несколько чрезмерного числа визитов в сутки, можно утверждать, что он не назойлив.
Раньше его частенько видели на велосипеде – ездил в близлежащий город, где у родителей была квартира; она и теперь имеется, однако с некоторых пор он ни к чему, кроме неотапливаемого сарайчика, отношения не имеет. Да и страшновато ездить по шоссе на велосипеде – того гляди собьют. Так что он теперь почти невыездной – разве что иногда прокатится на рейсовом автобусе.
Как-то милый друг обмолвился, что однажды, давно, был в Москве; быть может, это было на этапе большого пути в места не столь отдаленные, где, говорят, он провел некоторое количество лет за воровство кроликов у власть предержащих.
Сначала он ни о чем из своего богатого прошлого не рассказывал, лишь иногда формулировал проблему как «последняя просьба арестанта», но это можно было принять за шутку вовсе не мотавшего срок юмориста..
Потом, при более близком и длительном знакомстве, раскололся – со смехом рассказал (и все помирали со смеху вместе с ним), как схватил у местного милиционера его кроликов, быстро погрузил их в мешок и в чей-то багажник и умотал. Моментально вычислили и посадили. Срок скостили по амнистии, но потом посадили еще раз – за тунеядство…
– Тяжело было там?
– Сначала да. Потом привык, ничего. Все привыкают.
Для него, как для юродивого, не существует чинов и званий – всех на «ты», всегда готов со своей проблемкой вторгнуться в любую ситуацию, которая в этот момент имеет место на территории заимодателей. Все окружающие гомо сапиенсы делятся на тех, кто готов решить его проблему, и тех, у кого нет такой решимости – кишка тонка. Но он – не юродивый…
Он мал ростом, худ и хром – когда-то провалил одну ногу под лед и не мог ее оттуда извлечь, пока не пришла подмога. Потом нога болела, худела, сохла, словом, была испорчена навсегда. Так что не поворачивается язык спросить, а не отбивал ли он чечетку в далекой юности своей. Черты его лица не поддаются четкому описанию, они утонули в короткой бороде, усах, бороздах и шрамах – слишком много помех для такого маленького лица. На голове, кроме лысины, есть некоторое количество никогда не расчесываемых волос.
Его постоянная круглогодичная жизнь в сарае наводит на интересную мысль о его личной гигиене – где, как? Вот тут-то «белые люди» имеют возможность проверить не его, а себя на вшивость: если, например, он попросит подвезти его на машине до лавки с пивом, посадите ли его рядом с собой в чистый салон, где запахам, дурным и приятным, тесно как нигде, или нет?.. То-то…
Его одежда – это, скорей всего, трофеи или дары расстающихся с излишествами гардероба «белых людей». А поскольку таких благодетелей немало, он меняет одежду, как перчатки, и порой даже, по случаю ли какого-то неведомого праздника души, выходит на главную улицу деревни в элегантной «тройке» – брюках, пиджаке и жилетке вполне приличного свойства, в изящной клетчатой шляпке. Чаще же выглядит как чудо-юдо, нахлобучив немыслимую ушанку на лысую голову или несколько помойных маек-курток одну на другую, так что некоторые слабонервные девицы, впервые завидев деревенского чудака, с визгом убегают прочь.
Что ни говорите, как ни затыкайте носы, уважаемые господа, но когда кое-кто из «белых людей» выходит после дождя на неспешную прогулку по главной улице, чтобы на второстепенной не промочить ноги, маячащая в конце местного Бродвея маленькая нестандартная фигурка уже воспринимается не только неотъемлемой частью пейзажа, но необходимым персонажем в сюжете дачно-деревенской жизни.
Поверите ли, что когда однажды персонаж пропадал дня три, сердца непритворно сжимались – не случилось ли что. Выходили на «проспект», шастали мимо забора, пытаясь угадать за ним его присутствие, глядели с тревогой вдаль, делали неутешительные предположения. А уж как успокоились, если не сказать – обрадовались, когда на третье утро раздался громкий крик:
– Александровна! (или не Александровна)!!! Реши одну маленькую проблемку…
Прошло время, и появилась потребность вариаций: благодетели объявили сухой закон. Как ни странно, персонаж согласился! Даже однажды из бутылки, которую принес с собой под мышкой, вылил в траву без остатка все содержимое! (долго обнюхивали траву, чтобы убедиться, что в бутылке была именно та жидкость) Это была победа Конечно, не полная…
С тех пор благодетельствуемый, напитавшись алкоголем в другом, не установленном месте, приходит к благодетелям «закусить» и получает стакан горячего кофе или чая с бутербродом. Иногда это – горячий тост, в другой раз – хорошая толстая сарделька. Иногда все это вручается в руки, в другой раз – подается на стоящий в саду столик. Человек благодарно принимает подношения и уходит.
Правда, иногда случается обнаружить героя лежащим ничком в траве, и тогда требуется проводить его до «дома», хотя – вот что удивительно – и в таком положении он соображает, кто именно оказывает ему посильную помощь, называет имя…Благодарное сознание не отключаемо! А на следующий день кается и обещает «завязать».
– Ты же знаешь, я никогда не обманываю, – заверяет.
– Да, да, конечно, ты никогда не обманываешь, – подтверждает собеседник данного момента…
Фигурка удаляется, прихрамывая и чуть пошатываясь, а удовлетворенные «благотворители» продолжают делать свои разнообразные дела, ибо их, «благотворителей», много. Их – много, а он – один…
Се человек…
В конце сентября
Как и о чем можно написать в конце сентября на листе белой бумаги, если фибры души недвижны, как листья старого дерева в безветренный день? А если необходимо ими подвигать, не дожидаясь «ветра»?
Разве что об осени, которая вступила в свои законные права, о замершей деревне, оставленной дачниками до весны, о мокнущих на заборах, уже не раз воспетых перевернутых банках и бидонах, что, быть может, до весны не пригодятся вовсе – так и будут мерзнуть всю зиму.
Или о том, как сиротливо чернеют по сторонам полевой дороги наконец созревшие, никому не нужные ягоды ежевики. О повсеместном, замкну том в себе самом стуке падающих на землю, ложащихся желто-красными пятнами на еще совсем зеленую траву яблок.
Да мало ли еще о чем… Например, о том, как долго тянется этот безутешный день, несмотря на то, что рано темнеет; как ровный, серый, полновесный воздух насквозь пропитывает бренное тело и оно становится почти прозрачным, почти легким.
Или о доме, где еще не зажжен свет – сумерничают, в северных комнатах слышится вой ветра, и что-то в душах, казалось, навеки засушенное, размокает, мягчеет, распрямляется, как чаинки в горячей воде, безысходная тоска делает маленький шаг в сторону светлой грусти, конкретные время и пространство забываются, и – душа и пальто на распашку – снова глупо и громко поется про тот знаменитый парк, где вот уже более полувека распускаются розы, особенно в длинные серые дни.
А можно про камин – этот всегда достоин воспеванья, – в котором с молодой энергией трещит огонь, и про глаза, что, насмотревшись на него, сквозь прозрачную крышу видят звезды, каждая из которых, по оптическим и человеческим законам преломления, дублируется, и их, этих звезд, которых и без того много, оказывается вдвое больше, и это кому-то очень нужно.
Про подсохший букет на столе, собранный в мягкий теплый день бабьего лета. Бутылку недопитого вина. Три райских яблочка на синем подносе.
Про кошку на диване, которая очень подробно моется; порой, сделав паузу и забыв убрать на место выстрелившую вверх заднюю лапу, долгим, влажным взглядом глядит в пространство.
Можно еще вспомнить и написать, если удастся найти слова, про белый и мягкий, как пух, туман, в котором прошлой ночью утонула вся округа, превратившись в неузнаваемую, не имеющую отношения ни к бренной нашей земле, ни к небу над головой, ни к тому воздуху, которым мы дышим в наши земные дни, – вне реальной жизни, вне известных нам сред обитания…
Можно в конце концов вспомнить прошлогодний снег – столько его намело в феврале, что в марте-апреле еле растопило… Впрочем, ведь февраль, март и апрель были в этом году…
А что было именно в прошлом году, так это путешествие в Каталонию. Барселона… «Спустился вечер над Барселоной…та-та-та-та-та волнует кровь.
«Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та моя любовь» Забыла слова, всех допрашивала, никто не знает. Безнадежно утеряно?.. Но я-то ясно помню, как мы под это сладенькое танго танцевали – юные, целомудренные, неграмотные, никакого понятия не имеющие о какой-то Барселоне и о том, что и над ней в надлежащий час спускается вечер. И вот, перевернув пятьсот страниц странной жизни, судьба предъявила нам реальную Барселону и спустившийся над ней реальный вечер, и пятеро реальных россиян слились на Рамбле с реальной, шумной, густой, пестрой и благоухающей толпой барселонцев, крепко прижимая к бокам сумки (предупредили – на Рамбле умело пользуются замешательством зевак). Но то – когда уже сгустился вечер над Барселоной. А перед тем как он спустился, глазели на реальную Теmplo de la Sagrada Familia – вперили десять глаз в вонзившиеся в небо пики сколь великого, столь причудливого творения Гауди (они делают ударение на и), до боли знакомого по книгам, журналам, открыткам, проспектам, но только на них, проспектах и открытках, он, собор, маленький, а мы, разглядывающие, – большие, а тут, на площади Барселоны, мы вдруг оказались до изумления маленькими рядом с устремленными в вечность башнями, шпилями, скульптурами, резьбами и даже не сразу заметили, что глаза нам заливает невиданной густоты ливень – небо и земля слились в экстазе, а мы окружены толпой маленьких вьетнамцев, наперебой навязывающих нам зонты – отмахиваясь от них, как от назойливых мух, но и посочувствовав, купили-таки пару зонтов: это их звездный час, быть может, все жаркое лето ждали они этого дождя…
А незабываемые (впрочем, все названия уже из памяти улетучились) старинные городки с вековыми домами, узкими улочками, безмятежно спящими меж рам тощими длинноногими кошками и, казалось, патриархальным бытом, впрочем, снабженным мотоциклами и мобильными телефонами…Жаль, что скоро все в памяти поблекнет, детали перестанут быть осязаемыми. Впечатления же скорее всего поселились навечно – до конца нашей вечности…
…Плывет, гудёт серая масса облаков, качаются последние кроны – зеленые, желтые, «имбирно-красные», роняя листья на раскисшую землю. И так бы идти, идти, идти…Петь, петь, петь… Не сетуя на то, что к слову любовь есть только четыре хороших рифмы – кровь, морковь, свекровь и примкнувшее к ним вновь, а к распускающимся в парке Чаир только одна – золотистые косы. Всё, наконец, в полной гармонии, ничто не коробит несоответствием, и пламень жаркий живет в виртуальной душе, как в кронах дубов во время бури и как тому положено быть…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































