Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
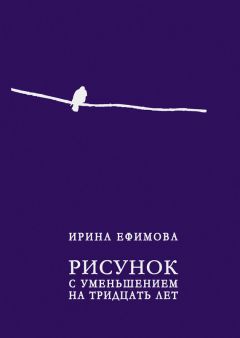
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Музыкальный момент
За два с половиной часа до начала концерта, за полчаса до открытия кассы войдите в самый первый, полукруглый, еще совершенно пустой вестибюль Большого Зала консерватории, что сразу за портиком, и ваши очень тихие, на резиновом ходу ботинки чуть слышно прохлюпают по лежащей на метлахской плитке кашице безвременья.
И если никто в этот миг не нарушит вашего хрупкого одиночества, деликатное звучание ваших шагов, мягко коснувшись стен, потолка, афиш, многочисленных стеклянных дверей, вписанных в полукружье фаса да, с задержкой, по закону эха, на краткую долю секунды, вернется вашему благодарному слуху.
Повремените входить в следующий вестибюль, остановите момент – быть может, это единственное место, где прекрасный момент можно остановить. Пройдитесь взад-вперед или по кругу, и скромное – предварительное – пространство вознаградит вас сторицей за ваше внимание к нему шелестом слетевшихся с газонов пушистых головок одуванчиков-шалунов, рассыпавшихся по стенам, афишам, стеклам, потолку; шуршаньем серебряной мишуры новогоднего бала; шарканьем легкого ветерка о шелк платья; позвякиванием хрустальных подвесок люстры зимнего сада. И если некий симпатичный интеллигент, спешащий приобрести билет на трехчасовое блаженство, не распахнет в этот миг высокую, медлительную дверь, все эти шорохи-шелесты-шалости, умножив пространство на несколько десятилетий, разойдутся кругами вверх и сквозь все преграды отлетят к знаменитым портретам, к сумрачному небу над старым городом, по которому плывет белое пушистое облако; в глубь прошедшей жизни…
…Когда приотворилась крышка – или как это называется у жесткой, не потерявшей формы, много лет пролежавшей без движения в темной кладовке коричневой дерматиновой нотной папки? – его останки, вернее, его останок, весом в пушинку, размером в чет верть мизиничного ногтя, едва сохранивший узнаваемость – ажурный овал с ножками, – выпал, как выпорхнул, в одну секунду пересек границу света и тени, резко обозначенную абажуром настольной лампы, которую в пасмурный ноябрьский день ни на миг не выключали. Пересек и, уже невидимый, вероятно, в плавном парении, опустился на пол или на ворсистый ковер, где его немыслимо отыскать, чтобы точней и красочней описать с натуры…
Сколько же лет он жил там, во тьме, без еды, питья, имея в изобилии лишь духовную пищу? Сколько месяцев угасал, отравленный концентрированным настоем музыкальных сведений? Сколько сезонов над маленьким тельцем работал тлен, вытягивая кровь, высушивая плоть, превращая ее в едва видимую дырчатую реликвию, к которой уже невозможно испытать должного отвращения – только священный трепет как к памятнику истории?
Нет, не ответить на эти вопросы, не разделить на этапы общий срок, равный приблизительно сорока годам – именно столько лет назад были аккуратно сложены в папку тетради с записями и диктантами, заданиями и упражнениями, биографиями великих усопших и нетленными мелодиями на нотных станах…
…А с другой тварью, заточенной на полвека, могла бы сотвориться другая судьба? Например, такая: освободясь от хлеба насущного днесь и поселясь в коричневом дерматиновом доме, до отказа наполненном музыкальной наукой, – не высохнуть, но наполниться, и, выйдя спустя десятилетия на сомнительный простор, не пасть сетчатой мумией на пыльный ковер, а вознестись окрепшей душой к кучевым облакам? И тем, кто приказал бы на том просторе: «Печи пироги!», ответить: «Да, но с мелизмами». А тем, кто стремился бы озадачить: «Тачай сапоги!», парировать: «Да, но диссонанс требует разрешения в консонанс»…
Детской рукой, с периодичностью в пять-шесть страниц узкой тетради в серой обложке: «Написать замет ку в стенгазету»… Оказывается, так часто на стену вешали газету…
«Неоконченную симфонию» Шуберта нашли че рез сорок три года после ее создания. Мендельсон и Вебер за это время родились и умерли, так и не узнав, что где-то в пыльной, вынесенной за ненадобностью на мансарду или еще бог весть куда конторке таится шедевр. Сам автор не слышал симфонию в исполнении симфонического оркестра; наверное, потому, что написал ее в си-миноре, «черной тональности»…
Шуберт горько плакал, когда умер Бетховен, не подозревая, что через полтора года, едва перешагнув тридцатилетие, ляжет рядом…
…Написать заметку в стенгазету…
Товарищ Сталин все про музыку знал: и то, что французская революция, заметно повлиявшая на развитие искусства, была самым важным моментом в истории до 1917 года; и то, что П.И. Чайковский являл собой великого деятеля национальной культуры. Особенно близка была ему мысль великого композитора о том, что надо смотреть, как умеет веселиться народ, коль уж сам радоваться не умеешь. «Пеняй на себя, – писал композитор. – Есть простые, но сильные радости. Жить все-таки можно». После пятой симфонии? А после шестой оказалось – нельзя?..
…Выкройка рукава на миллиметровой бумаге – фасон сорокалетней давности. Впрочем, все возвращается, только с меньшим количеством подробностей…
Органист Бем заменил молодому Баху семью, учителей, друзей. Баха вызвали в городской магистрат и сделали внушение – не придумывай, мол, ничего нового, не надо. Однажды Иоганн Себастьян отсидел за непокорность 30 суток…
Потом у Баха родилось двадцать два ребенка. Кто еще так щедро плодоносил? И это будучи Вселенной во вселенной! Из Баха-булочника вытек Bach[1]1
Bach – ручей (нем.).
[Закрыть], ставший вселенской Fluss[2]2
Fluss – река (нем.).
[Закрыть]… На склоне жизни маэстро ослеп, за десять дней до смерти – прозрел…
С Генделем, что из семьи цирюльника, Бах жил в одно время, в одной стране, а какие разные! Как-то Гендель прямо у дирижерского пульта подрался с Маттезоном, потом – дуэль на шпагах, потом – примирение… А слышал ли товарищ Сталин оратории Генделя? Судя по всему, вряд ли. Знал и без всяких ораторий, что у самсонов надо состригать волосы и строго следить за тем, чтобы они не отрастали, иначе рухнет сей храм…
…Написать заметку в стенгазету…
А чтобы советская музыка не подпадала под влияние модернизма (мадернизма – написано в тетрадке детской рукой) и не была формалистической да чтобы отвечала высокой идейности и соответствовала социалистической действительности – бац, постановление ВКП(б) о «Великой дружбе» и «Песне о лесах». Чтоб не забывались, не отрывались от народа в безоглядном беге за музами…
Шуман, романтик из романтиков – «Бабочки», «Карнавал»! Отсудил Клару у ее отца и женился. «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»… Что-то сломалось. Сам попросил отвезти его в сумасшедший дом, откуда и улетел навсегда «in die Nacht»[3]3
in die Nacht – в ночь (нем.)
[Закрыть]…
…Написать заметку в стенгазету…
Нона, децима. ундецима…
Ионийский, дорийский, фригийский…
Моцарта похоронили в могиле для бедняков…
Глюка вызвала в Париж Мария Антуанетта…
Энгармонические тональности Fis = Ges, dis = es…
Споем, товарищи, споем,
Споем, веселые подруги,
Споем на празднике своем
О самом первом нашем друге —
О нашем Сталине споем!
Диссонанс должен, наконец, разрешиться консонансом – таков закон…
Борьба тяжелой оперы Seria, в которую невозможно было вникнуть, а потому на нее приходили, как в клуб – покалякать, обсудить дела, себя показать, на других посмотреть, – с более легкой и доступной Buffa закончилась победой последней, и немудрено: сюжеты просты, как жизнь, действующие лица близки и понятны, костюмы-вериги сброшены, артисты прыгают, бега ют, задирают ноги. Сам Жан Жак Руссо, философ и энциклопедист, пишет оперу «Деревенский колдун», чтобы поддержать новое направление – сам музыку и либретто! Мир празднует победу буффонады, комически преувеличивая и окарикатуривая все прекрасное, что заложил Создатель в образ Человека…
…Написать заметку в стенгазету…
Ровной стопкой, постепенно сплющивая единственное существо, разделившее изгойство коричневой папки, улеглись «похвальные грамоты» – за другое, немузыкальное образование; впрочем, теперь все едино – жизнь перевернула бинокль, и все вехи слились в маленькое чудо цвета чахлой зелени. На каждой грамоте слева – портрет Ленина, справа – портрет Сталина. «За отличные успехи и примерное поведение»…
Нет, не самую плохую жизнь прожила божья тварь, волею судьбы очутившаяся в пожизненном заключении, среди нотных знаков и гениальных жизней. Хотя не нам декларировать чужое счастье – наличие такового может утверждать только его обладатель.
Мы же можем лишь предположить дальнейшую судьбу высохшей мумии: труба пылесоса, белоснежный нетканый пылесборник, железный контейнер и – взлет в поднебесье, где маленький сублимат распушится в огромное облако, и на планету, исполненную в «черной тональности», прольется до-мажорный спасительный дождь.
1996
Осенняя песнь
Я шла по этой стороне любимой улицы в ярко-зеленой юбке и модном пестром пиджаке, немолодая, высокая и угрюмая, эдакая дама без возраста европейского образца. Но он об этом ничего не знал
Он шел по другой стороне той же улицы – молодой, мрачный, несвежий, с застоявшейся от постоянных перепоев кровью, в одежде никакого цвета и стоптанных сандалетах, ненавидящий весь белый свет. Но я об этом ничего не знала.
Я перебежала на другую сторону, прошла мимо того домика, из открытых форточек которого давно не лилась музыка. Впрочем, форточки были забиты, а если точней – их вовсе теперь не было; если же совсем точно – их всегда во время занятий закрывали, чтобы отгородиться от уличного шума.
На углу, где когда-то в таком же старом двухэтажном здании располагался небольшой кинотеатр, носивший громкое имя героя древности, а теперь обустроили площадь с помпезным кинозалом, газонами и афишами, палатками и зонтиками, я, уставшая от долгой ходьбы, присела отдохнуть на лавку троллейбусной остановки.
Он, наконец, добрел до троллейбусной остановки. У него были серые сальные волосы, мутные на выкате глаза; он источал острое амбре – смесь запахов алкоголя, гнилых нечищеных зубов, лет десять немытой шеи и нестиранной одежды, всей прокуренной крепким дешевым табаком сути. От него несло злобой и неприятием не токмо дам европейского образца, но вообще всех и вся. Он был раздражен и явно искал, к кому бы прицепиться, в кого изрыгнуть зловонную гадость, переполнявшую его организм.
Иначе почему и зачем он сел так близко ко мне – ведь больше на лавке никто не сидел и места было вполне достаточно?..
…Она шла по той стороне узкой старой московской улицы, Бог знает когда застроенной двухэтажными домишками, – маленькая, в сером коверкотовом пальто, с креп-жоржетовым шарфиком вокруг шеи; ноги с донельзя тонкими щиколотками, обутые в грубоватые коричневые туфли, с перепонками, на толстых каблуках, ступали робко; выбившиеся из-под серой беретки полуседые спиральки волос развивались по ветру наступавшей весны; слезящиеся глаза без рамок ресниц с тяжелыми красноватыми веками смотрели все больше под ноги, лишь изредка – по сторонам. Взор, готовый было уже рассеянно, ни на чем не останавливаясь, скользнуть дальше, заметил в подвальном окне ребенка – он стоял на подоконнике, за стеклом, в короткой рубашонке, без штанов, упершись в стекло грязными растопыренными пальчиками; чумазый рот доверчиво улыбнулся старой женщине в ответ на ее кивок и мягкую печальную улыбку…
Я шла по противоположной стороне той же улицы – молодая, высокая, в холодном для ранней весны новом красном плаще, в котором удалось улизнуть из дома только потому, что мамы не оказалось в этот момент в передней, с непокрытой головой, лопающейся от неразрешимых проблем…
Она двигалась мне навстречу, но по другой стороне. Увидев ее, я резко выскочила из состояния, в котором до этого пребывала; увидела и мгновенно затвердела, как сухарь; затвердела и продолжила свой путь, не поворачивая головы; только когда мы очутились на одном перпендикуляре к нашим параллельным, но противоположно направленным векторам, я рискнула посмотреть в ее сторону – опасность быть замеченной миновала, тем более что как раз в этот момент она, отвернувшись в другую сторону, кивала кому-то в подвальный приямок. Теперь, если не оборачиваться, я могла ее больше не видеть. Если б могла…
Казалось бы – чего проще: «Здравствуйте, Евгения Михайловна. Как поживаете? Как успехи ваших учеников? Радивее ли они меня?.. Как я? Спасибо, ничего…Жалею ли? Не знаю. Наверное, жалею…К инструменту?.. Редко. «Осеннюю песнь»? Иногда… Хорошо, как-нибудь зайду. Передам, спасибо. Заходите к нам, они будут рады…»
Стыдите, убивайте – все равно ваш суд не будет страшней мук, которые я принимаю всякий раз, вспоминая фигурку маленькой женщины, медленно бредущей мимо меня по старинной улице в свое одинокое тесное жилище внутри большой недружественной коммуналки…
…Выпустив очередную порцию ядовитого дыма, он обратил ко мне свое лицо и произнес:
– Извините… – и для разгона телеги, которую он изготовился на меня катить, отмахнул дым от моего лица, едва не сковырнув мне левое ухо.
– Пожалуйста, – ответила я, не позволяя себе поддаться желанию встать и уйти.
– Извините, – повторил он. – Вам мой дым не мешает?
Тут взгляд его с трудом прорвал грязноватый туман, застилавший ему глаза, и кое-как дотянулся до меня, сидевшей почти вплотную – локоть к локтю.
– Нет, не мешает, – сказала я, отвергая брезгливость и заставляя себя не отодвигаться.
Он переложил сигарету в левую, дальнюю от меня руку и, не скрывая интереса, принялся разглядывать мою одежду; даже наклонился вперед и вниз, чтобы обозреть обувь, и прядь жирных волос упала на его невысокий лоб.
– Вы меня извините, но я вам хочу сказать…Можно?
– Говорите…
…Завтра первое мая! Ура! Погода мировая! Весь класс идет на демонстрацию! Вдруг пройдем близко к мавзолею…А вдруг увидим…У меня новое марокеновое платье цвета малины со сливками…Три дня не ходить в обе школы, целых три дня!
Звонит телефон. Мама берет трубку:
– Здравствуйте, Евгения Михайловна! С наступающим. Спасибо вам большое. Конечно, удобно. Конечно, о чем разговор. Большое вам спасибо. Ждем вас. Второго в два часа. К обеду. Еще раз спасибо…
Все мгновенно окрашивается в серый цвет. Значит, Евгения Михайловна снова решила дать мне дополнительный урок в праздничный день – естественно, абсолютно бескорыстно, лишь из любви к нерадивой ученице. Мама накроет стол, и я буду угрюмо сидеть над своей тарелкой, слова и куски застрянут в горле, каждая минута растянется на века, любая похвала в мой адрес будет во сто крат неприятней самой отвратительной хулы.
Потом папа уйдет с газетой в маленькую комнату и приляжет там на самодельное прокрустово ложе; через некоторое время его тапки – одна за другой – громко шлепнутся на пол; мама в кухне, в метре от рвущей и мечущей соседки, будет мыть посуду в пестром эмалированной тазике.
Я же, мрачнее тучи, сначала сыграю гаммы, потому что первым будет экзамен по гаммам. Мои пальцы не привыкли к изнурительным тренировкам – у них есть дела поинтересней. Кроме того, наш инструмент «тугой», как выражались профессионалы, но в этом есть свое преимущество: после него игра на рояле в экзаменационном зале музыкальной школы, как воздушный полет балерины на сцене после изнурительного – до седьмого пота – труда у станка (у меня, правда, никогда до седьмого не доходило).
Я люблю только одну гамму – хроматическую, расходящуюся от ноты ре первой октавы. Здесь нет никаких подвохов – руки работают абсолютно симметрично. Все остальные ряды превращаются под моими противящимися насилию пальцами в крутую неразбериху. Евгения Михайловна будет терпеливо ждать, пока я хоть раз сыграю без помарок.
Потом мы станем «прогонять» мою основную программу; Евгения Михайловна – переживая всем телом, напевая, дирижируя, стуча по боку пианино, чтобы задать мне правильный темп, качаясь в такт мелодии; я же – раздражаясь тем сильнее, чем больше она выкладывается. А когда в особо мелодичных местах у нее выступят на глазах слезы, я превращусь в окончательного истукана, хотя сама этой мелодией очарована, хотя сама сознаю, какой тупой и черствый оковалок в этот момент собой являю…
И только когда она осторожно, тщательно вглядываясь близорукими глазами в ущербные ступени, будет спускаться по нашей крутой лестнице, я, провожая ее, чуть потеплею, потому что появится надежда, что через несколько часов в безумном скаче под-над электропроводом (вместо прыгалок), со свистом рассекающим воздух, я немного развею тоску от собственной неблагодарности…
Лишь однажды ее героические усилия не пропали даром. Так никогда и не узнав, способна ли я в совершенстве исполнить виртуозную вещь, ибо ни разу не предалась многочасовой работе (не знаю, не пробовала), я иногда вполне прилично могла сыграть кантилену.
Как ни отторгали меня вечные слезы умиления Евгении Михайловны, ее неумеренные похвалы в мой адрес после более или менее (скорее менее) удачной репетиции, все же на так называемом показательном концерте (уж не для меня ли специально придумала его Евгения Михайловна, чтобы показать мне меня?), на котором присутствовали ученики, учителя и родители, мне, несмотря на состояние внутренней паники, дрожание рук и ног, удалось вполне успешно исполнить «Осеннюю песнь».
Эта победа далась не благодаря, а вопреки: учительница и ученица не складывали свои старания, как суммирует лодка собственную скорость со скоростью реки, чтобы легко и быстро доплыть до берега. Нет, это были сплошные упрямые, угрюмые вычитания, но на сей раз итог оказался положительным.
Евгения Михайловна, полная гордости и восторга, позвонила маме – игра дочери на концерте оценена как выступление зрелого пианиста!..
Это был мой единственный музыкальный триумф. И все же неясно, зачем Евгения Михайловна вкладывала ценный душевный капитал в столь бесперспективное предприятие…
…Он снова выдохнул вредность в окружающую среду и с вызовом уставился на меня.
– Извините, но вот вы – старая, а одеваетесь, как молодая. Нехорошо…
Это была разминка – он распалял сам себя, и это ему удавалось, я чувствовала – еще немного, и он дозреет до того, чтобы меня ударить, а когда начну возмущаться – убить. Я выдержала его полный классовой ненависти взгляд и спокойно спросила:
– А старая – это сколько?
Он снова окатил меня с ног до головы презрением. Конечно, пестрый – по его разумению, не по возрасту – пиджак был лишь поводом. Он ненавидел меня как носителя чего-то совершенно для него неприемлемого; он презирал меня за хрупкость духа, безоружность. Именно такой противник был нужен ему в этот момент для вымещения праведного гнева.
Вернув свой взгляд на мое лицо, он хмыкнул и ответил:
– Да лет сорок есть.
Честно говоря, он мне польстил, вот она – немудреная женская логика, я даже повеселела.
– Ну какая же это старость – сорок? А вам сколько?
– Двадцать шесть.
– Думаете, через четырнадцать лет вы будете считать себя стариком?
– Конечно…По крайней мере – я, – добавил он многозначительно (чай, не лыком шит).
– А я вас уверяю, что через четырнадцать лет, которые очень быстро пролетят, вы не будете чувствовать себя стариком.
Он встал с лавочки и выпустил изо рта воздух вместе с дымом, глядя в другую сторону. Ему вдруг стало неинтересно. Разговор дал сбой. Мордобитье сорвалось…
….Второй конкурс имени Чайковского. Сотрудница Маша предлагает лишний билетик, и мы вместе с ней идем, бежим после работы в Большой зал Консерватории. Чайковский – мой любимый композитор, и что бы ни говорили профессионалы и снобы, я буду любить его музыку до гроба…
И вот душа полнится, полнится музыкой, как воздушный шар – легким газом, и взлетает туда, где нет «тревог шумной суеты»…
Вдруг меня будто дернули за нитку, протянутую с земли. Какая-то неведомая сила завладела моим взглядом, заставила его вернуться в зал, отвела налево, где он неожиданно встретился с влажным, теплым, радостным взглядом…Евгении Михайловны – она сидела на один ряд ближе и мест на десять левей меня, улыбалась и кивала. Голова ее стала совсем седой. Белый воротничок на темном платье дополнял образ консерваторской старушки (сколько ей было тогда лет? Наверное, немногим больше, чем мне сейчас). Мой организм мгновенно напружинился, неприятие встречи наполнило его до отказа, вытеснив оттуда музыку. Я замерла и похолодела…
Было похоже, что Евгения Михайловна с этого момента тоже перестала внимать искусству – всевидящим боковым зрением я видела, как она то и дело поворачивает голову в мою сторону и что-то шепчет сидящей рядом старушке, после чего и эта отыскивает меня глазами.
Наконец, наступил антракт. Еще настойчиво гремели аплодисменты, требуя исполнителей к поклонам, когда я, сказав Маше, что должна срочно выбраться из зала, стала протискиваться вправо перед носами рукоплещущих зрителей. Маша продиралась за мной, недоумевая, какая лихоманка гонит меня прочь.
Выходя из зала, я, помимо воли, взглянула-таки на Евгению Михайловну. Она растерянно смотрела на опустевшее кресло и по сторонам. Маше я сказала, что хочу избежать встречи с одним человеком. Во втором отделении мы поднялись на самую верхотуру и простояли там до конца концерта…
Провалиться, провалиться, провалиться…В яму, в яму… чтобы никого не видеть, ни с кем не разговаривать, не задавать вопросов, не думать над ответами…
Вернувшись из Консерватории, я прошмыгнула в свою комнату и стала стелить постель. Вошел папа и спросил:
– Как концерт?
– Замечательный.
– А почему ты не в духе?
– Я просто устала…Между прочим, я видела Евгению Михайловну (до сих пор ума не приложу, зачем я это ляпнула).
– Да-а-а?! Как она поживает?
– Я к ней не подошла.
– Как не подошла? Почему?
– Мне не хотелось…
Утром папа не ответил на мое приветствие. На вопрос, в чем дело, сказал:
– Я не спал всю ночь. Как ты могла так поступить?..
…К остановке подошел троллейбус. Мой собеседник бросил на тротуар дымящийся окурок и, не попрощавшись, пошатываясь, пошел к задней двери. Машина была набита битком. Он втиснулся последним, и когда половинки двери сомкнулись, между ними оказался зажатым клок не по возрасту «скромных», давно потерявших цвет брюк.
Троллейбус стремительно исчезал, зажав в своих щупальцах маленький серо-буро-черный треугольник – знамя справедливой борьбы с инакомыслящими…
… Я никогда больше не видела Евгению Михайловну. Наверное, давно нет ее на белом свете, как нет мамы, папы и многих, многих других.
Та узкая улочка, на которой я однажды не подошла к своей учительнице и где в один не примечательный день ко мне подсел «оппонент» с затуманенным взором, стала теперь моей личной жизнью – благо, улица почти не изменилась, лишь подвальные окна заложены и все, слава Богу, о подвалах забыли. Оставляя дома свой нынешний облик – предписанную самым суровым из всех волшебников – ВРЕМЕНЕМ – лягушачью кожу, я убегаю туда прекрасной царевной побродить, отдохнуть от тоски текущего момента. Я гуляю по улице моего детства наивной девочкой, ничего не ведающей о сложностях эпохи, как вдруг спотыкаюсь – претыкаюсь – о невидимый камень в том месте, где я когда-то не подошла к Евгении Михайловне. И спрашиваю себя: а теперь подошла бы? И ответа не знаю…
Проходя мимо больших окон маленького дома, где когда-то находилась моя музыкальная школа, а теперь за густыми сборчатыми занавесками живет своей особой жизнью гриль-бар, я вспоминаю крошечные каморки классов с идеально настроенными инструментами и мое томление в плену незаслуженной любви одинокого немолодого человека.
Возвращаюсь домой и снова влезаю в неудобное, некрасивое обличье, но – таковы законы сказки, именуемой ЖИЗНЬЮ…
… Примерно раз в пять лет, а то и реже, я поднимаю крышку старенького, но все такого же тугого пианино, которое, по-моему, еще хуже сохранилось, чем я (мы с ним ровесники), открываю ноты и, надев очки, непроворными пальцами играю «Осеннюю песнь»…
Наступает поздняя осень…
1989
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































