Текст книги "Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник)"
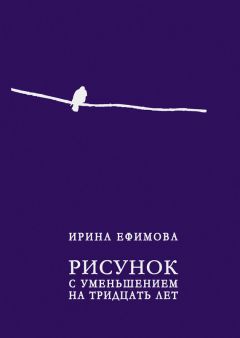
Автор книги: Ирина Ефимова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Ни одно предновогодье не казалось Катерине столь мистическим, как это. Неужели через несколько часов наступит непостижимо длинный срок, когда все даты будут начинаться словами «две тысячи»? И когда-нибудь так же, как эти, истекут последние сутки две тысячи девятьсот девяносто девятого года?.. Странное состояние. Всё время бьёт мелкая дрожь…
В знакомом дворе, как всегда, тихо, пусто, пахнет старыми стенами. Отремонтированные и покрашенные качели, чуть припудренные снежком, покачиваются, как часовой маятник. «Ветер, ветер, ты могуч», – произнесла Катерина вслух, посмотрев на мятежное небо: казалось, снежные тучи, несущиеся с юга на север и с севера на юг, того гляди столкнутся и высекут небывалую молнию, которая сожжёт вселенную.
Подняв глаза, Катерина увидела весёлое лицо братца, машущего ей из окна, а на ветках дерева, дотянувшегося до окон отцовской квартиры, – гирлянду разноцветных, мигающих, качающихся вместе с ветками огоньков.
Дверь открыл Кирюшка. Из кухни вышла Сашенька, руки у неё были по локоть в муке. Катерина поцеловала мачеху.
– Неужели сама пироги печешь? А почему не заказала у Худяковых? (На Яузском бульваре недавно открылась кондитерская Худяковых, возродившая искусство рулетов с маком).
– Решила всё сделать по старинке: возня, пуховое тесто, запах на весь дом.
– Я тебе сейчас помогу.
Отца дома не было – он поехал в Коломну за бабушкой, которую уговорили встретить этот единственный в своем роде Новый год в Москве.
У окна стояла украшенная в лучших традициях дома ёлка – чего только на ней не было! Хлопушки всех размеров и мастей с сюрпризами, шоколадные фигурки, маленькие куколки в пышных юбочках от художницы из Саратова, чёрные шары с мерцающими звездами из Парижа, множество разноцветных лампочек, отражающихся и умножающихся в специальных отражателях. Над верхушкой, едва касаясь её пухлым нейлоновым животиком, парил розовый ангел, трубя в рожок благую весть. Электрические провода тянулись за окно; мигающая гирлянда обвила, опутала голые ветви высокого, худого дерева, не давая ему погрузиться в сгущающиеся таинственные сумерки.
Около пяти вечера в дверь позвонили. «Ура! Папа!» – крикнул Кирюшка и первым бросился в переднюю…
…Волнуясь, подошла Людмила вместе с мужем к знакомому подъезду – скоро двадцать лет, как они выехали из этого дома. Он стал другого цвета, в подъезде красивые двери. Как завидовала Людмила одноклассникам, жившим в километровых коммуналках бывших доходных домов – шикарные лифты с зеркалами, просторные лестницы, лепные потолки, ванные комнаты…
Дверь подъезда мягко захлопнулась за ними. А это что? Мусоропровод? Да так расписан, будто зимний сад пророс через все этажи! Людмила немного запыхалась, приостановила восхождение и вдруг так явственно, будто не минуло столько лет, увидела старого отца, бегущего по этой лестнице и громко напевающего очередную арию. Защемило – несмотря на современный шик, всё до боли знакомо. Промежуток времени как бы выпал в осадок вместе с мужем и сыном (хотя и они провели в этом доме несколько лет), явив прозрачность текущего момента – идёт к себе домой. Маленькая девочка, вечна мучимая раздвоением: у неё совсем старый отец, он годится ей в прадедушки, тогда как у всех – молодые папы, которые утром уходят на работу, а вечером возвращаются, многие – выпивши. Её же папочка не пьёт, а поёт и вместо работы играет в шахматы на бульваре; она и любит его, и раздражается, дерзит, когда он просит её вместе с ним спеть сусальную немецкую песенку. Но страдает, когда сидящие врастопырку у подъезда бабки смеются ему вслед, нисколько не смущаясь её, Людмилки, которая прыгает рядом с ними по расчерченным на каменистой земле «классам». Она так устала от вечного борения чувств, что когда отца переложили с дивана в гроб и навсегда увезли из дома, она почувствовала облегчение. Но после этого в доме воцарилась такая беспросветная тоска, что, как говорили взрослые, хоть головой в омут…
– …Что ты сказал? – Людмила вздрогнула, возвращённая к действительности голосом мужа. – Соседке?.. Светке?.. Да, расскажу, ей будет интересно…
Открывший дверь «Ромео» немного запнулся – думал, отец; потом, догадавшись, весело крикнул:
– Катя! Гости пришли!
Отец с бабушкой появились в восьмом часу. Бабушка еле отдышалась после крутой лестницы, потом принялась раздавать подарки – полотенца и салфетки ручной работы коломенских мастериц. «Ахи» и «охи» восторгов прыгали, как мячики, ударяясь то в пол, то в потолок…
Подсознательно все старались суетой заморить червячка, который мучил каждую душу – не роковые ли минуты в сем мире наступают. Уж больно настораживала цифра «2000»…
И вдруг квартира стала наполняться чадом. Переглянувшись и потянув воздух носами, гости и хозяева улыбнулись, про себя же подумали: «Началось…».
Прибежавшая в кухню Сашенька застала там вырывающийся из духовки, где запекался новогодний гусь, огненный столб с чёрным хвостом, устремившимся к белому потолку. Обмотав руку мокрой тряпкой и прикрыв глаза, испуганная женщина кое-как дотянулась до вентиля и погасила духовку. Огонь, однако, не унимался, дым ел глаза, в духовке шипело и трещало, ядовитая копоть, добравшаяся-таки до потолка, с удовольствием уничтожала его белизну.
Войдя в комнату, Саша как можно спокойнее сказала: «Там пожар». Присутствующие, хотя и выгоняли дым всеми силами через все форточки, восприняли появление хозяйки с сажей на лице и улыбкой сквозь слёзы как начало новогоднего представления и засмеялись («Может, сегодня так надо?»).
Между тем не уместившийся на противне жидкий, горячий гусиный жир продолжал стекать вниз, добавляя масла в огонь, так что прибежавшему из ванны недобрившемуся отцу пришлось немало потрудиться, чтобы предотвратить «конец света». Забив насмерть огонь сорванной с окна занавеской, он твёрдой рукой разрезал гуся на порции, сложил их в кастрюлю и поставил на плиту тушиться на медленном огне, к вящему разочарованию Кирюшки, которому была обещана роль гусеносца целостной румяной гусиной туши.
Однако всё хорошо, что хорошо кончается, и пора было усаживаться за стол. «Какая стала жизнь красивая», – вздохнула бабушка, глядя на горки салатов, ломтики красной и белой рыбы, колбасы и соленья, вазы с фруктами и конфетами, дымящиеся в плетёнке пироги…
Часовые стрелки всех циферблатов обходили последний круг. Все ответственней становилась роль минутных, секундные готовились к финишу…
И вот… Все стрелки всех часов соединились! Зазвонили колокола, забили куранты, сдвинутые бокалы с ледяным шампанским издали единый глухой звук, который вылетел из окон, врезался в сверкающие сугробы бульвара и замер. И сугробы, и ватный, уткнувшийся в снег звук принадлежали уже 2000 году…
Никто, кроме бабушки, спать не ложился. Отведав протушившегося до полной мягкости гуся, оделись нараспашку и пошли вниз по лестнице, призывно стуча в каждую квартиру – заранее договорились вместе со всеми отметить невиданный праздник танцами во дворе. Развеселились, расшумелись, развизжались, расслабились – вроде бы пересекли рубеж без потерь; наступали на полы длинных платьев, пальцы босых ног (две не в меру разгорячившиеся девушки вышли во двор босиком); сплетались в клубки по несколько человек; кто-то повалился на снег да так и лежал, глядя в тёмное небо.
Радостная музыка в сопровождении разноцветных ракет летела вверх, всё выше и выше, пока не повстречалась со снегопадом, который медленно, торжественно, опускаясь всё ниже и ниже, приблизился к земле, загасил фейерверк и вскоре накрыл всю земную суету одним огромным сугробом. Блестевшие от веселья и таявшего снега глаза и волосы, застывшие ноги – все это потянулось в два подъезда и разошлось по квартирам.
Кирюшка усадил всех перед белым экраном и показал свой фильм – запечатлел все старинные здания района. Показ сопровождал остроумными комментариями, так что никто не уснул…
Когда рассвело, снегопада как не бывало, но всё – «двор и каждая щепка, и на дереве каждый побег», как полвека назад, в прошлом тысячелетии, сказал поэт, – было в снегу.
«Сном не успевши забыться», Людмила в сопровождении мужа вышла во двор, который был бел, пуст, тих и мал. Где умудрялись они очертить большой круг для лапты? Да по два десятка бабок сидели рядком, да ещё мужики, тут же стоя в кружок, ругались, да вражеские компании из других подъездов в свои игры играли… Уму непостижимо…
Их следы на свежем снегу были первыми, если не считать маленьких, что слева направо ровной цепочкой пересекли двор. У второго подъезда, на очищенной от снега скамейке, подняв воротник и скукожившись, сидела женщина. Справа, на их половине двора, прижавшись лбом к дому, стоял на коленях мальчик и, прикрыв варежкой правый глаз, левым вглядывался в малюсенькое отверстие в нижней части цоколя. И тут Людмила поняла, что подвальных окон – нет…
Утром в пустынный двор, где на свежем снегу ещё не было ни одного следа – не ступала нога человека, – вышла красивая, угрюмая, невыспавшаяся мамаша, чтобы погулять со своим шестилетним сыном, который собирался вместе со взрослыми встречать Новый год, да нечаянно заснул, а посему проснулся рано и потребовал причитающуюся ему по праву утреннюю прогулку. Поёживаясь и беспрестанно зевая, мамаша стряхнула снег со скамейки, уселась на байковое одеяло, которое захватила из дома, и задремала, сунув лицо в воротник шубы.
Пашка слонялся по двору без дела, тщетно ожидая товарищей по играм. Покатал машинку, несколько раз спустил её с горки, скатился сам, извалявшись в снегу. Потом новыми варежками стал сгребать пушистый снег, что лежал на выступе дома возле первого подъезда, подальше от мамочки, и тут вдруг приметил маленькое отверстие в нижней части стены. На некотором расстоянии от этого увидел такое же второе, затем и третье. Он покосился на мать – её лицо полностью утонуло в воротнике.
Пашка встал на колени, выгреб снег из зарешёченного отверстия, прижался к нему лицом, прищурился и стал вглядываться во мрак. Сначала после белого снега и белого света ничего, кроме кромешной тьмы, не увидел. Но чем дольше он вглядывался, тем явственней в чёрной глубине проступал слабый свет. Мальчик перебежал ко второму окошечку, освободил нишку от снега, прильнул к ней лицом. Услышал, как мягко хлопнула дверь подъезда, но оторваться от своего занятия не мог: в темноте бездны снова зарождался тусклый свет. Оглянувшись, ребёнок увидел медленно удалявшихся дядю и тётю и две цепочки следов на снегу.
Только мальчик приладился заглянуть в третью амбразурку, как услышал недовольный голос матери:
– Паша, что ты там делаешь? Хватит обтирать стены!
– Мама, а что в этих окошечках?
– В каких окошечках?
– А вот в этих…
Натерев глаза до муаровых рисунков и протяжно зевнув, мамаша ответила:
– Ничего. Подвал, наверное…
– Мама, а может, там живут все люди, которые уже умерли?..
_____________1979-1985
Рассказы
Где же ты теперь…
Памяти Тани К
И разбрелись по домам недоумевающие подруги той, чей подробно, десятилетиями знакомый, неотрывный от их жизни телесный образ так неожиданно, так неправдоподобно исчез с лица земли, – уплыла в какой-то непроницаемый шкаф и беззвучно прикрыла за собой дверь…
Не у содружества, а у каждой из недоумевающих подруг «на одну подругу стало меньше», как незадолго сформулировала она (казалось шуткой), ибо была она подругой каждой в то время как каждая каждой была куда меньшей подругой. Центростремительная сила безвозвратно потеряла свой центр, и разбрелись по домам осиротевшие, внезапно оторванные от давней и прочной привязанности престарелые дамы править девятины, сороковины и прочие годовщины, сколько их Бог даст…
… Почему именно в последнее лето к ней пришло прозрение, что жизнь на исходе? Почему именно в погожий июньский день, она, греясь на солнышке, которое так любила, громко воскликнула: «Ты сознаешь, что осталось совсем немного?» И на вопрос «ты готова?» – горящий взгляд, не приемлющий того, о чем прозрелосъ: «Нет, я совершенно не готова!!!»…
Она бы так убийственно, так сокрушительно не страдала, если б в мир иной ушла я. Не потому, что я лучше, а она хуже, а потому, что она лучше, а я хуже. Потому что она на удивление, как никто, все принимала, во всем с готовностью усматривала положительную сторону. Ее стакан был всегда наполовину полон, тогда как мой – всегда наполовину пуст. Потому что она ко всему относилась философски. И с благодарностью. И была тысячу раз права. Действительно, зачем, почему, как можно (это я безрезультатно взываю к самой себе) так настырно, так неумно, так пагубно для единственной жизни не принимать неизбежное, возмущаться им до стократных падений в бездну отчаяния…
… Она приносила в школу книги из коллекции отца, которые школьная программа нам не предписывала. И мы глотали их под черной, исцарапанной, залитой чернилами из непроливайки крышкой парты. Упивались афоризмами Уайльда и силились понять, о чем «Баллада Рэддингской тюрьмы» и почему блистательная жизнь этого лорда так скверно завершилась. Верили в алые гриновские паруса, ожидая, – вот-вот они вплывут прямо в старомосковский двор. Еле одолевали тяжеловесные сюжеты Достоевского, делая вид, что щелкаем их, как орешки.
Мы собирались у нашей одноклассницы, и подруга приносила также изъятые из отцовского кабинета пластинки с романсами Вертинского; мы плакали и возносились, наш дух воспарял над школьными буднями, над детскими склоками, над необходимостью учить уроки и вовремя ложиться спать.
Мы писали стихи и читали их друг другу. Ее стихи были не только литературно-грамотными, но и, как положено настоящей поэзии, устремленными ввысь – возвышенными, однако она не относилась к ним серьезно и потом это сочинительство свела на нет. Сохранилось ли хоть одно?..
На уроке сочинения мы жадно набрасывались на тему «Онегин и Печорин», писали долго – два академических часа подряд, вдохновенно, без шпаргалок, ни на минуту не отрываясь, до крайнего утомления кисти правой руки. Благоговели перед страстным негативизмом Печорина, презирали циничного Онегина, уважали и жалели Татьяну, которая устояла, хотя втайне досадовали, что она навеки отдана и ничто нельзя изменить.
Высокая, хорошенькая, не очень уклюжая кудрявая девочка без ярко выраженного интереса к представителям мужской школы, что находилась неподалеку от нашей, женской, в том же незабвенном Колпачном переулке, она с доброжелательным интересом и всеохватной любознательностью вникала в подробности любовных историй своих подруг.
Какая-то уникальная подвешенность языка, постоянная готовность по любому поводу сказать не только умную, но красивую речь; могла и взболтнуть, приврать, приукрасить и тут же с честью выкрутиться – уличить было поистине невозможно. Могла что-нибудь сморозить, невзначай обидев того, кому неведома самоирония. Тут же отступиться, раскаяться…
Громкий, подчас казавшийся командным голос не следовало воспринимать всерьез – сбить ее с него, свести к адекватному пониманию ситуации легко было самой нехитрой логикой.
Отсутствие интереса к мелким интрижкам в школьные годы – вот уж не была мальчишницей – однажды, несколькими годами позже, обратилось пылкой влюбленностью, а потом и любовью к обаятельному повесе, красавцу-волоките, эдакому Анатолю Курагину, которая подарила подруге десяток счастливых лет жизни, красавицу-дочь и трех внуков. Два старшеньких, живших с ней одним домом и взросших под ее интеллектуальным руководством, не только являли в содружестве с ней альянс «бабушка-внуки», но состояли в подлинной, равноправной дружбе со своей умной прародительницей…
Как странно, как странно говорить о тебе, подруга, в прошедшем времени. Оказалось, намного, – не на одну подругу – стало меньше; ты была больше, чем одна подруга. В отличие от тебя, не принимаю, бунтую, страдаю, слышу твой голос, постоянно вижу тебя так… и так… и в таком повороте… и сидящей нога на ногу… и громко смеющейся… и кивающей головой в знак согласия… и с удовольствием, со здоровым аппетитом трапезничающей… и спорящей… и читающей, читающей, читающей – всегда и везде, что бы ни происходило вокруг. Всегда обаятельной, остроумной, всегда оптимистичной. Кто бы ни обидел. Всегда благодарной любимому солнцу и нелюбимому дождю. Никогда – плачущей.
Я же плачу и не нахожу утешения. И не выбрасываю из записной книжки номер твоего телефона. И жду звонка. Позвони…
Черно-белое фото
И.Шалито
Черно-белое фото. На самом деле на нем нет ни черного, ни белого. Все серое, светлей или темней. Серое море с белесой пеночкой на хребте небольшой волны. Светло-серое небо с почти белыми взбитыми облаками. Серый пляж с галькой – еще той, обкатанной морем, хранящей в своей перекатывающейся массе сердолики, халцедоны и куриные божки с еле заметными туннельцами счастья.
Левый угол фотокадра увековечил серый деревянный столб – опору серого деревянного навеса – и спины двух неизвестных, в серых купальниках женщин, подтянувших к носам колени.
Столб, похоже, именно тот, в который кто-то в незапамятные времена вбил длинный заурядный гвоздь; на него можно было вешать полотенце, халат, купальник и авоську с купленным на базаре виноградом; гвоздем кто попало не пользовался, потому что для непосвященных он был неприметен, – непосвященные сваливали причиндалы прямо на гальку, и ничего страшного в этом не было. Но все же пользователи гвоздя чувствовали себя в некотором роде старожилами, хозяевами пляжной жизни…
Женщина в черном купальнике (это самое черное из всего, что есть в кадре, хотя не исключено, что купальник вовсе не был черным) с сильными, длинными, нарядными ногами застыла вполоборота, чуть склонившись над кромкой воды и над мальчиком, лежащим на животе в воде у самого берега.
Темные волосы женщины собраны на затылке, в профиле угадывается улыбка, обращенная к мальчику, морю, небу, южному лету. Мальчик протянул вперед две руки – видимо, к собачке, которая, чуть склонив набок голову, стоит на берегу, – бубликом хвостик, треугольничками ушки…
Черно-белый кадр одного момента одного из очень давних дней, один из многих кадров, вслед за которыми были еще и еще, а вслед за этими – еще и еще. Уйма прошедших дней, постепенно менявших специфику сиюминутного существования… Уйма фотокадров…
Итак, один из моментов давно прошедшей жизни. Серо-белый гребешок волны. Мальчик с вытянутыми вперед руками. Собачка с недвижным бубликом хвоста. Женщина в темном купальнике с парой удивительных ног. Деревянный столб – атлант, подпирающий солнцезащитный навес, с гвоздем для авоськи с виноградом…
Один из фотокадров, после которых были еще и еще. А за этими – еще и еще. Уйма прошедших дней, постепенно менявших специфику сиюминутного существования…
Если очень долго – до головной боли – вглядываться в черно-белое изображение, невозможно заметить, в какую именно секунду все на черно-белом фото меняется – оживает, расцвечивается, начинает пахнуть и звучать. Но и невозможно не заметить, как «самое синее» на свете море, переливаясь солнечными бликами, толкает к берегу невысокую бирюзовую волну с белой в искрах пеночкой на гребне, потом, шурша разноцветной галькой, тихонько оттягивает ее от берега; загорелый мальчик хлопает по воде вытянутыми руками, обдавая блестящими брызгами женщину в темно-зеленом купальнике, которая щурится на солнце, наблюдая за не умеющим плавать ребенком; рыжая собачка виляет завернутым в колечко хвостиком; золотой воздух дрожит крымским зноем, накладывая загар на жаждущие его тела.
Женщина ласково уговаривает мальчика выйти из воды – сколько можно? – и он выходит с синими губами, дрожа худеньким телом. Она снимает с гвоздя, вбитого в старый, покрашенный голубой краской столб, полотенце и что есть мочи растирает малолетнего неслуха, меняет мокрые ярко-синие трусики на сухие красные, потом берет авоську с виноградом, заходит в море и полощет авоську туда-сюда, туда-сюда. Как удобно – вода выливается, а фрукт остается чистым, какое гениальное изобретение – авоська!
Мальчик, перестав дрожать, с удовольствием ест золотистый мускат, косточки закапывает в гальку – нехорошо, но урны поблизости нет; все же надо будет собрать и выбросить…
Море чуть движется, играя тысячами искр, ветерок подсекает жар солнечных лучей, облегчая северянам пребывание на солнце, галька уютно шуршит и перекатывается под босыми ногами отдыхающего люда. Все окрашено в яркие цвета…
А позади, за кадром, за спиной – некто, невидимый, но всеми фибрами ощущаемый. Сотворитель кадра. Он ставит выдержку, наводит на резкость, щелкает затвором, навечно вбирает в техническое приспособление и в себя синее море, солнечный свет, протянутые к собаке золотистые руки ребенка, материнскую вахту у кромки воды…
Так будет вечно. Так будет всегда. Смерти нет…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































