Текст книги "Артикль. №5 (37)"
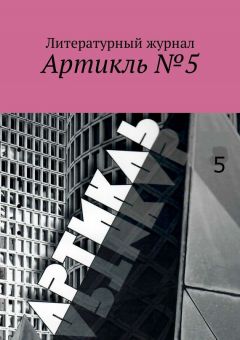
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
ПОЭЗИЯ
Александра Юнко
Проводы«Не спится, не спится минутами долгими…»
«Летает марля у двери открытой…»
Не спится, не спится минутами долгими
от милого дома вдали,
пока проплывают под окнами
красоты заморской земли.
На родине скучно, и грустно, и холодно,
и солнца не хватит на всех,
но мы, как библейские голуби,
уже покидаем ковчег.
В холмы упаду, как в перины с подушками,
укроюсь зелёным листком,
я сплю, не разбудите пушками,
а всё остальное потом.
«Золотая пора Диониса…»
Летает марля у двери открытой,
стрижи на треугольники кроят
квадрат, на солнце греется корыто
и тяжелеет дикий виноград.
Но и во сне не донесу – куда мне? —
два переполненных ведра
до той черты, где не осталось камня
от моего двора.
Слепым щенком по следу память рыщет,
беспомощно скулит среди руин,
а ветер свищет, как на пепелище,
раскачивая клочья паутин.
По лесенке трухлявой скачут пятки —
взлетаю на чердак, в углу газет
истлевшие подшивки за пять лет,
сухие кукурузные початки,
помёт мышиный, пыль и горы хлама.
За домом, в окровавленной траве,
базарного курёнка режет мама
и плачет по его пропащей голове.
«Вечереет, и у краеведа…»
Золотая пора Диониса
и лесов золотое руно.
Молодых пообсыпали рисом,
а из бочек повыбили дно.
Но бунтует в крови беспокойство,
если Бахус в деревню зашёл,
от стакана кагора пропойца
захмелел и свалился под стол.
Уложили его на телегу,
поплывёт он, быками влеком,
по холмам…
И по первому снегу
трезвый ангел пройдёт босиком.
«Проводы, поводы…»
Вечереет, и у краеведа
тщательно записаны в журнал
признаки конца земного света,
жизни окончательный финал.
Вот поэт лежит на чердаке —
и вперил мечтательные очи
в непроглядный мрак бессрочной ночи,
чтоб рассвет увидеть вдалеке.
В ореоле солнечных лучей
бродят куры и играют дети,
весело им жить на белом свете
без метафизических идей.
Проводы, поводы…
Правота
тех, кто однажды —
и навсегда,
так нам тогда казалось.
Длинный сквозняк вокзала.
Всё уже сказано, помолчим,
рот искривляя туго,
как бы из разных двух чужбин
всматриваясь друг в друга.
Поезд ту-ту, уходить пора.
Холодно в лёгком платье.
Пустим по кругу, из горла,
больше не надо, хватит.
Город поблёк и опустел.
Тихо, как на поминках.
Утром встаёшь среди голых стен,
выцветших фотоснимков.
Всё, как всегда, но надежды нет,
разве что ехать следом.
Так нам казалось – всему конец —
тем бесконечным летом.
Зиновий Вайман
ДиптихFrom: VAY Zusilo [[email protected]]
Sent: Wednesday, April 26, 2017 6:19 PM
To: Verica Zivkovic
Subject:
«И коррелирующий верлибр…»
Плывут под облаками облака,
в весеннем ветерке как будто ласка;
и, если солнца вспышка коротка,
пожалуй, что дотянут до Дамаска.
Привет, привет! Великий город сир:
евреев нет… Армянки старо-юной
и след простыл. Но будет, будет миръ—
мiрянамъ горбиться над сунной.
Вернутся персы в дивный Исфаган,
там ждут газели-сросшиеся брови;
шииты снова перейдут в Ливан—
забудут о засохшей крови.
А мне идти в свой старый стих-даршан,
Хинном-Геенна, Силоам Сиона,
пускай там турок гладит ятаган,
уже опущен он во время `о н о.
И я сойду в долину твёрдых слёз,
где погребён один писака;
он под свою ошибку как бы вполз…
Ну, ладно, помогли, однако.
И в Верхней Галилее побреду
по каменному ложу шляха…
Ой, ирисы на нём так на виду!
Вплоть до ворот моих, для моего же праха.
И коррелирующий верлибр:
Заходит облако под облако,
но всё же нижнее плывёт от нас,
спрятанных в пещерках Цфата,
в сторону Сирии.
Если не расползётся, не разлетится
то через три часа Дамаск.
Город сир, но не пуст,
и армяне, и марониты
длят свои жизни,
а дети играют в войну.
Мусульмане-сунниты читают Коран.
Скоро миръ.
Персы-арии вернутся к невестам с бровями как чайки
над внутренним морем, заливом и озером Резайе,
забывая бои, алавитов и друзов.
Поселюсь в старой строфе
об оживлении в Гихоне,
по руслу Иордана взойду
к моей мамлюкской стене,
где спал невечным сном
Но тянет сойти вниз, в долину,
где есть место успокоения моему телу,
вернувшему анестизированную душу в кромешную пустоту.
Там, у нашедшего последнее пристанище соседа, плита с рифмами
и сбоем ритма.
Прямо у ворот, на цельнокаменном
ложе дороги, перед сумерками раскрыты ирисы галилейские, как они сумели найти щелочки для корешков?
А выдолбленную щель для тщедушного тела зальют бетоном.
Мягкость скальных пород…
Напишите на песчанике как на туфе:
«Был бездуховным и бездушным-бездушным».
Валерий Скобло
Грустное поздравлениеАлке
«Тот город, в котором мы жили…»
Если желать по-вашему – типа: до 120-ти,
То ты, дорогая, конечно, где-то на полпути.
Но отсюда, из Питера – с наивною простотой
Скажу: Все это кажется несбыточною мечтой.
Не обижайся… Ведь если бы так, как я пожелал,
То и 120-летний срок показался бы мал.
Но, знаешь, любовь и преданность в этом мире пока
Мало меняют что-то существенно… даже слегка.
Но ты для меня такая же, как полвека назад,
В городе, канувшем в Лету, по имени Ленинград,
В стране, которой в помине на карте более нет
Что-то около трети срока прожитых нами лет.
Желаю… что тут придумать?
…счастье, здоровье, покой…
Но смысла в этом так мало, что я лишь махну рукой.
На 50-летие выпуска моего класса
Тот город, в котором мы жили,
звался тогда Ленинград…
Когда мы окончили школу
полвека тому назад.
Нас так разметало по свету,
уже не собрать… никак.
По телефонам забытым
не звони – попадешь впросак.
В который уж раз в этот список
заглядываю… Зачем?
Про пятую часть я не знаю
совсем ничего… совсем.
А друзей из ближнего круга, —
скажу, приемля укор, —
Хорошо покинуть бы первым,
первым – и весь разговор.
Да, пора подводить итоги,
такие вот, брат, дела…
И пятая часть уехала,
а пятая – умерла.
Михаил Юдовский
Отчаянный тебялюбец«Три яблока, один стакан с вишневой…»
«Мое сердце прошлось, как осенний странник…»
Три яблока, один стакан с вишневой
наливкою. Мне хочется по новой,
разбрасывая точки и тире,
прислушаться к осеннему сигналу,
сворачивая время, как сигару
катает негритянка на бедре.
Холстом украшен жертвенный треножник.
Твой рыжий и бессовестный художник,
лишенный окончаний и корней,
я ничего, наверное, не значу.
Но посмотри, с какой самоотдачей
я высекаю звезды из камней
и поджигаю спичкою, как порох.
Прости мои полотна, на которых
катаются во всей своей красе
спокойно и уверенно, как Будда,
ветра на крыльях мельницы, как будто
на чертовом вращаясь колесе.
Тебе, должно быть, тесно в этой раме?
Обманутая здешними дарами,
ты губ приподнимаешь уголки,
спеша улыбку на лицо напялить,
и дергаешь за ниточки на память
завязанные мною узелки.
«Посиневшими от алкоголя ночами…»
Мое сердце прошлось, как осенний странник,
по густым полям, по пустым задворкам,
по поверхности лужи, в свой многогранник
заключившей небо, по черствым коркам
прокаженных листьев, по рваным звеньям
мимолетностей, возданных мне сторицей.
Я хотел, чтобы время рычало зверем,
откликаясь во мне перелетной птицей.
Я хотел быть раздет до последней нитки,
ощущать опасность, предвидеть гибель
и подсчитывать гордо свои убытки,
как ненужный хлам расточая прибыль.
Я хотел желтоглазой луны лампаду
зажигать под вечер в безлюдном сквере
и под ней пророчествовать до упаду,
ни на грош предсказаньям своим не веря.
Наблюдая, как мир надо мною меркнет,
и готовый верить, что он несметен,
я себя ощущал до смешного смертным —
потому что, наверное, был бессмертен.
«Октябрь еще на грани беспредела…»
Посиневшими от алкоголя ночами,
она видела смерть у меня за плечами
и у смерти из рук вырывала косу,
осыпая такою сердечною бранью,
что, укрывшись под облака шкуру баранью,
зимний месяц тощал и дрожал на весу.
И плескалась смущенная жидкость в стакане,
и осколками льдинок звенела о грани,
и невнятным осадком ложилась на дно.
И светлело окно, и, прямая, как шпала,
неприятно оскалившись, смерть отступала,
на бесцветных обоях оставив пятно.
Но однажды, когда ничего не осталось —
только наша зима, только наша усталость —
растворившись в одной на двоих темноте,
мы шагнули совпавшими стрелками в полночь.
И напуганной птицей, зовущей на помощь,
выкипающий чайник свистел на плите.
«Не всё коту матрица – есть и периферия…»
Октябрь еще на грани беспредела,
еще на придыхании тоски,
когда готово собственное тело
упасть и разлететься на куски.
Когда деревья выгибают скрипки
с чернеющими прорезями эф,
и фонари, плывущие, как рыбки,
над головой зажгутся буквой «Ф».
Когда невольно спящих и неспящих
бросает от безвыходности в дрожь,
и за окном созвучием шипящих
бормочет заикающийся дождь
о том, что жизнь давным-давно разлита,
как из лампады выплеснутый свет.
И речь его настолько посполита,
что ты шипишь невнятицу в ответ.
Не всё коту матрица – есть и периферия.
В сердце моем сумятица – сколько себе ни ври я,
к дьяволу в зубы катится московская джамахирия.
Верю или не верю я, барственно или смердно —
пух полетит и перья от глядевшегося несметно.
Так умирает империя – все империи смертны.
Падают камнем соколы, бьются о землю символы.
Быстро века процокали, взлетевшие хиросимою.
Останется лишь на цоколе трехбуквие негасимое.
Кузня грохочет молотом, в чане играет сера.
Я говорю: «Ну, скоро там?» Дышит темно и серо
осень в моем расколотом сердце легионера.
Денис Соболев
АнабасисПамяти Константина Кикоина
1
Белесый парус на горизонте, почти не виден.
Море бьется и разбивается прибрежной пеной,
Голубые чайки скользят над водой неспешной,
А корабль расправляет снасти, сушит якоря.
Где же линия горизонта, за которой врата зенита?
Где же звезды полями, немеркнущие, как ноты?
Позади заката, позади столпов, бесконечно море,
Там луны и солнца звездопадом восходят звуки.
Не качайте ж якорем при прощанье, не спускайте
Парус. На ветру без тени еще будут бухты и будут
Скалы. Уходящий на запад корабль еще встретят
Циклопы с глазами, спрятанными в ладонях.
Вдоль лукавых лагун еще будут танцевать русалки
Со светящимися глазами в теплеющем счастье ночи.
И пройдут по обрывам тысячеглазые лотофарги.
Все, что не было, еще не забыто, но уже возможно.
Если и вправду, как они говорят, земля кругла,
То и дорога к закату за морем ведет к восходу.
Так не верьте боли, не прощаясь, раскройте парус,
Оглянитесь на океан у краев песка под ногами.
Оставшиеся на берегу прощально бросают камни.
Корабль тает. Легкими парусами, полными ветра,
Он уже в пути, по ту сторону заката.
2
Вой шакалов в воздухе, где один.
Где туман пуст и прозрачен, сер
И никого. Где слова не сказать,
Не услышать звука, обращенного.
Как холодно в мире без зимы,
Как холодно в земле страстей.
Как жарко без прикосновенья,
Как жарко в городе без любви
Между холодом и жарою тени.
Тень, как скорлупа, спрятана и
Полна, безжизненна, напряжена;
Одиночество, в ожидании, в не-
Сбывшемся. Заунывный шакалов
Вой и чашка кофе на краю стола
В душе без людей. Откроются
Пряные ворота памяти, дыхания
Слез. Вьется канат души, натянут,
Напряжен, до крови. Что же есть
Один? Боль, пустота, полнота,
Рвет. Подойди. Но не сказать. Это.
3
Пространство шума полно движением,
Приходят, уходят, одеты, блестят полы.
Здесь не восходит мысль, не восходит
Чувство. Пустыми шагами шумят поля.
Пылью и стружкой, железом, взглядом
Машины, потные, сквернословящие,
Тяжелые, и за прилавком, улыбающиеся
Хищно. Вечером стены, выпить, забыться.
Улицы без улиц, имена без имен, бетон
Без дома, без голоса шум. Бесчисленных
Экранов слова без памяти, без значения.
Где место для глаз в городе без земли?
Но здесь же взглядом прорастает мысль,
Здесь любовь возможна, хотя и забыта,
Здесь данное уже не дано непреложным.
Город ничто звенит надрезом на сердце.
4
Среди столпов, среди столбов, среди ветвей,
Там, где счастливые тени стоят волной,
Где руки протянуты, браслетов и ног длинней,
Ступни высоки и упруги, горят золотой наготой
Легки глаза, и сверкают всплески шагов.
Горечь еще не мертвит, а радость полна весной;
Шепотом плачут восходы; рядами оленьих рогов
На банданах, хоровод ведут на полянах;
Шагами густыми по стенам, уханьем пьяных сов.
О, магия легких шагов, пустых слов, в этих странах,
Недолгим влеченьем открытых, теплою
Близостью губ, бахромою ветров в весенних ладонях,
Нежным и полым желанием глаз. Наполнено силой,
Дрожанье потного тела бьется в руках.
Ночи в огнях, слова без мысли, сменяются пустотой.
Все ли в хороводе откинутых волос, пальцев, сосков
И бедер было жаждой и пустотой? Волною
Тщеславия, маской скуки, светлым голодом тела?
Было ли в ладони что-нибудь кроме пепла? Только ли
В памяти живет радость? Или в горсти смеха?
Теплые тела дышат на островах. Вспыхнувшая искра,
Горит ли еще, помнит ли себя среди пустошей памяти?
Мелькнувшая нежность не всегда посереет
Прахом. Остается ли смех тела на косогорах души?
А посветлевший воздух скользит за лодкой, между.
5
Тропа петляет, сумерки ветвятся,
Деревья в тумане, черные без снега.
Ты думаешь, что день; но, наверное,
Это ночь. Ночь голосов, рук и зубов.
Голоса, еще голоса. Они зовут, кричат,
Шумят, визжат, кажутся тебе знакомы.
К тебе ли они, ко мне? Или беснуются,
Безликие, в пустоту? Выкрикивают ее.
Тени скользят в тумане, ты не один,
Не один никто. Сколько их вокруг,
В исступлении бьющихся, сопящих:
«Ненавижу», «смерть». Здесь страшно.
А вот и тени любви, выпрыгивающие
Из-за сосен, вспыхивают на мгновенье.
Как полны они слов легкости, доверия,
Благородства и красоты. Приблизятся.
Ты берешь в ладони руку, теплеющую
Как снег. Накрой ее второй ладонью,
Поднеси к губам. В твоих руках кости
Трупа чужой души. Призраки смеются,
Раздваиваются, исчезают. Тени друзей,
Протягиваешь к ним руки, пытаешься
Обнять, задержать. Они не знают тебя.
Проходят в ночи, ночные огни без слез.
Когда душа их рвалась, они приходили
К тебе; твои карманы все еще полны
Их слез. Но они сыты, твое имя забыли.
Скользят в темноте, меньшие, чем тени.
Страшно или пусто – там где ничего?
Призраки в призрачном, спрятавшиеся
В тени и тумане душ. Как их разглядеть?
Тропа ветвится, как дерево над землей.
Пой же, труба, голосом разгони сумрак.
Пой о всех тех, кто не хочет убивать.
Пой же о вере и самообмане, потому
Что они прекрасны. Пой о тех, кто
Не призрак. Кто человек.
6
После огней, боли и ночи, остаешься один.
Горька ощупь серого; здесь дорога пуста,
Широка и неощутима, краем и навсегда.
Полет сквозь чужой воздух, вёрсты нигде.
Позади, где пенится чувство, свет и отчаянье,
Падает тень забытого счастья, будущего «нет».
Позади, где пляшут бесстыдные черные рыла,
Должен и совесть ноют надрезом на сердце.
Но не так по ту сторону скалистого ущелья,
Не так впереди дороги, где нельзя вернуться.
Одиночество коже, нагой, холодом на морозе;
Так оно лежит болванкой пустоты, где гаснет
И дальний свет. Прекрасно и пусто мерцание
Бессловесных звезд. Бьется вода о край лодки.
Тихий плеск за бортом, где уже нет слова ты.
Тихий плеск за вселенной, где я – лишь горечь.
7
Черно-белое
Белые глаза пространства не боятся тьмы,
Я не буду слушателем пустоты.
Встать, проснуться,
Забыть во сне.
Черные: калечат,
Белые: ко мне.
Грязная белая пена скользит, по волне,
Огни пропадают в темноте воды,
И я снова слышу, как цветет миндаль
И еще…
8
Белая, рассветная, уходящая к невидимым холмам и дальним озерам;
Здесь и дорога: прекрасно сотворенное. Вот оно рядом, наполнено
Дыханием: здесь и зовет. Так тело мира лежит перед глазами души.
Прекрасны снега севера; разве можно забыть их, тепло их воды.
Прекрасен жар Индий, его дожди; что сравнится с потоками пота,
Скатывающимися по телу. Прекрасны пустыни и прекрасны горы.
Но и страшны они. Ледяные поля без края, за их горизонтом лежит
Лишь смерть. Города людей, распухших от голода, отчаявшихся.
Джунгли людей, распухших от сытости и довольства; равнодушных.
Дорога, открытое! Дорога протягивает руки, но как собрать ее?
Мироздание изобильно и изобильно страданием. Говорят, оно создано
Чтобы хвалить Тебя, но не это ли значит наполнить сердце? Горам
Со склонами без берегов не коснуться неба, но неба коснется аорта.
Разбитое сердце ближе к синему, и в страдании Твои руки ближе.
Но почему Ты молчишь? Ты создал мир, чтобы говорить с тобой,
Но где Твой ответ? Ты протягиваешь дорогу удивления и страданий,
Но здесь ли на ней любовь? Выше лугов и гор, снега и пота, счастья и
Отчаянья, выше тела, прозрачное увидит белое, дорога вернется к началу.
Так славься же Ты, сотворивший каменных зайцев из породы слоновьих,
Сотворивший многоголовые тела, полные счастья и пота, сотворивший
Раскрытую книгу, перед глазами, от нее начинаются шаги удивления.
Сотворивший дорогу.
9
Как волны низкие стремятся к берегам,
Пологим и пустым, высоким и просторным;
Как аиста полет к огням и облакам
Кружится над землей далекой нитью черной;
Так памяти земли горит обетованье.
Горит и там, где прошлое тускнеет в полутьме,
Уже неуловимое в ладонях, но живущее в огне;
Шумит и среди темных льдов очарования
Страстей; настойчиво звенит в надежде и в золе,
В густой воде ручьев и на тугом ветру залива.
Но больше чем на льду, в пыли, песке, в долинах,
Душе, раскрывшейся и в милосердье, и в тоске,
Свеченье вечности откроется, пребудет на рассвете
И во тьме, в пыли сердец, склоненных в состраданье.
Где время светится, там отступает темный страх;
Где вьется долгий путь надежды, зацветают на горах
Кусты сирени, бугенвилии, любви и воскрешенья.
Евгений Витковский
Из книги «Град безначальный»
Бобруйское гонево. Оммаж Эфраиму СевелеМистика вагона-ресторана
Черта оседлости – вполне плавильный чан.
Сама себя за хвост история поймала.
Возьмите бобруйчан, возьмите жлобинчан —
поймете сразу же, что сходства очень мало.
В Бобруйске не у всех дворянские гербы,
не каждый подкупить Рокфеллера способен,
но помнят старики, как некогда жлобы
приплыли по Днепру и заселили Жлобин.
Соседу нервному история нужна,
однако хочется его спросить сурово:
что было б, откажись питать Березина
речушку, что ползет на юг от Бочарова?
…Какой найти предлог, какой найти глагол,
как ныне объяснить тунгусу и вогулу,
что составляло мир бобруйских балагол,
как называли тут любого балагулу?
Попробуйте взглянуть в магический кристалл,
но вряд ли вам понять, уж сколько ни вникайте,
тот легендарный дух, который процветал
в незабываемом бобруйском идишкайте.
Он меньше слаще был, чем сахар и сироп.
но много ли того, о чем припомнить стыдно?
Не зря же круглый год благоухал укроп,
и даже попадья жила на Инвалидной.
Здесь православный знал, зачем кусочки хал
перед субботою сжигали в печках тётки;
здесь тот, кто свитки рвал, от тифа подыхал,
а кто кресты ломал – тот подыхал в чахотке.
Здесь протекала жизнь, как струйка в решето,
и только имена переставляла драма
всегда по несколько, чтоб не держал никто
Абрама-Хаима за Хаима-Абрама.
Попробуй поискать – везде найдется перл,
Тевье какой-нибудь, или скрипач на крыше.
Легендой балагол был Арбитайла Берл,
который, так сказать, чуть шире был, чем выше.
Чтоб отравиться вам, какой он был атлет!
Теперь таких найти не думай даже назло.
А если кто и есть – о том и мысли нет,
чтоб он не победил какого-то шлемазла.
Кто мир без балагол тогда представить мог?
Печально, что песком любая станет глыба,
а в городе давно не сорок синагог,
но ведь одна-то есть, вот и на том спасибо.
Былое возвратить и думать не моги:
халястра все-таки совсем не дом культуры,
и в вечность убрели былые битюги,
в потемки увозя давно пустые фуры.
Посмотришь в небеса – и не увидишь дна,
и не найдешь в стогу пропавшую иголку,
и в Иордан течет река Березина
и в море Мертвое уносит треуголку.
Все фигуры стоят не на своих местах <…> Это совсем другая партия. Это…
Стефан Цвейг. «Шахматная новелла»
Здесь холодных закусок не меньше пяти
и супов тут не менее двух ежедневно,
и четыре вторых можно тут обрести,
и легко растолстеет любая царевна.
И похоже на полный горячечный бред
что не надо стесняться поганой привычки,
что спокойно тебе принесут сигарет,
и бесплатно дадут драгоценные спички.
У бригады ночной – превосходный улов,
и ни в ком никогда никакого протеста,
хоть всего-то в вагоне двенадцать столов
и за каждым – четыре посадочных места.
И неважно, что цен не бывает в меню,
и волнуются зря заграничные тетки,
что на завтрак приносят одну размазню,
что ни стерляди нет, ни кеты, ни селедки.
И сомнительный блеск в баклажанной икре,
и в графинах сырая вода из колодца,
и когда молока не нашлось для пюре,
то и масла с гарантией в нем не найдется.
Но зато по секретной полночной тропе,
за целковый, полтинник. а то и полушку.
принесут без вопроса в любое купе
поллитровку, а если попросишь – чекушку.
У кого-то припрятаны чай и лимон,
и буханка всего лишь вчера зачерствела,
и рыдает бариста, ночной ихневмон,
и похоже, что это другая новелла,
Он прикован у стойки, едва ль не распят,
он стоит, обреченные плечи ссутулив,
и молчит ресторан, лишь печально скрипят
сорок восемь навеки оседланных стульев.
Этот сейф на колесах – удар по глазам,
тут становится каждый герой паникером,
и шипит, словно тигр, уссурийский бальзам
собираясь сцепиться с немецким ликером.
Развалиться не может никак эшелон,
лишь грозит балаганом картин леденящих
этот самый шикарный на свете салон,
этот ржавою плесенью съеденный ящик.
Не вагон уползает – уходят года,
вспоминаясь и реже, и хуже, и меньше.
А в плацкартных, давно не спеша никуда
сухарями чуть слышно хрустят унтерменши.
Здесь не ад, здесь не рай, не Олимп, не Аид,
не удача матроса, не горе солдата,
то ли поезд спешит, то ли вовсе стоит,
пробираясь откуда-то, как-то, куда-то.
Место возле окна потеплей облюбуй,
и, быть может, услышишь, припавши к стакану,
как свистит паровоз возле станции Буй
на далеком пути от Москвы к Абакану.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































