Текст книги "Артикль. №5 (37)"
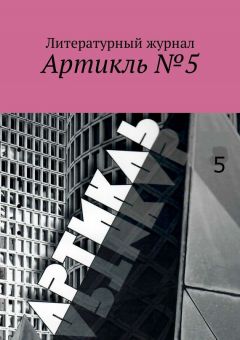
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Словом, после инвентаризации, произведенной Шмуликом, каждая из задних полок приобрела пустоты, зиявшие, как дыры в хорошо пригнанном заборе или во рту на месте выбитых (выпавших молочных) зубов.
Книжки вначале загонялись все на той же толкучке, но вскоре обнаружилось местечко получше – букинистический магазин. Там и платили лучше, да и обстановка была куда приятнее. Главным там был забавный старый еврей в некогда черных, а ныне – в почти белесых нарукавниках. Он был полуслепой. Поэтому с жадностью хватал каждую книгу и подносил ее так близко к лицу, что почти утыкался в нее своим длинным носом. Так что казалось, что он оценивает книги исключительно по запаху. Иногда ноздри его раздувались сильнее обыкновенного. Тогда он подзывал своего более молодого напарника, показывал ему книгу, и они начинали обмениваться абсолютно непонятными словами, среди которых Шмулик запомнил только «антик» и «раритет».
Совершая эти преступные деяния, Шмулик, разумеется, понимал, что разоблачение неизбежно. Он лишь молил (ну, не бога, конечно, а что-то большое и всесильное – что-то вроде Светлого Будущего, наверное), чтобы этот момент наступил как можно позже. Чувствовал он себя при этом прескверно, как герой страшного рассказа Эдгара По про неотвратимо опускающийся маятник.
Если исчезновение отдельных безделушек еще можно было объяснить рассеянностью или забывчивостью бабушки – «и куда я только подевала эту ракушку (этот коврик)? Сунула куда-то, теперь ищи. Ну, ничего, сама (сам) потом отыщется…», – то ограбление книжного шкафа никаким бабушкиным склерозом объяснить было бы невозможно. Но и тут Шмулику какое-то время «везло». Собственно, набеги на книжный шкаф продолжались всего месяц-полтора. Достаточно было бы, чтобы папа за этот период хотя бы раз открыл шкаф, чтобы воришка был изобличен. Но именно в это время он был настолько занят авральной и ответственнейшей работой, что отсутствовал целыми днями, включая воскресные. А возвращался так поздно и таким уставшим, что ему было не до книг.
Маятник судьбы, тем не менее, опускался все ниже, и Шмулик чувствовал это. И вот настал день, когда все тайное стало явным – день его Ватерлоо.
Примерно за неделю до этого, Шмулик, следуя своей методе – посягать лишь на то, что засунуто как можно дальше, с глаз долой, что свидетельствовало о невостребованности и, стало быть, невеликой ценности данного предмета, решил проинспектировать бельевой шкафчик. И, о, радость! за стопками белоснежных и накрахмаленных простыней и наволочек, в самом углу у задней стенки он обнаружил небольшую и неказистую шкатулку. В ней была куча всякой ерунды: какие-то щипчики, зеркальце, полупустой флакончик выдохшихся духов, нитки и прочая. Лишь два предмета могли представлять известный интерес для его целей – бусы и браслет. Он долго колебался, чему отдать предпочтение, и выбрал браслет по причине своей врожденной хозяйственности. Дело в том, что браслет как две капли воды напоминал те медные браслетики из-за которых год назад просто сходили с ума все Динкины одноклассницы. Браслетики эти с тремя разноцветными стекляшками торговали несколько внезапно появившихся цыганок. Сначала продавали по трояку, затем по пятерке, но через пару дней партия кончилась и цыганки канули в небытие. Половина Динкиных одноклассниц щеголяла в этих браслетиках, а другая половина была готова на все, чтобы их заполучить. Так Динка, только чтобы поносить, заполучила его на неделю в обмен на свои роскошные телесного цвета чулки. Чулки эти – 3 пары – прислала маме ее подруга из советской Германии, где служил ее муж-офицер. Ну, а мама поделилась сокровищем с дочерью.
Так вот, браслет из шкатулки был точно такой же. Ну, разве немного более тяжелый и массивный. И более старинный, оттого выглядел не так празднично, как цыганские браслетики. Ну, и еще одно отличие (и недостаток) заключалось в том, что камешки в нем были не разноцветные, а как обычные стекляшки – прозрачные. Тем не менее, в отсутствие цыганских конкурентов смело можно было рассчитывать на пятерик, а то и червонец. Что, собственно, и требовалось. И, когда спустя несколько дней, очередной друг потребовал срочного вспомоществования, Шмулик достал браслет из шкатулки, а на улице передал «товар» поджидавшему его другу и они отправились на толкучку. Они подошли к знакомому барыге и показали браслетик. Дальше последовал обычный обмен репликами:
– Сколько просишь? – спросил барыга, обращаясь исключительно к другу.
– А сколько даешь? – сглотнул тот, изготовившись к долгому торгу. – Ну-ка дай поближе взглянуть… – барыга заграбастал браслет, недоверчиво и хмуро рассмотрел его, подбросил на руке, полез в задний карман штанов, долго шарил там, а потом вытащил бумажку и положил ее на распахнутую ладошку друга. Это была… пятидесятирублевка. Ладошка, подобно хищным цветам, ощутившим добычу, рефлекторно сжалась в кулак.
«Ошибся! Перепутал!» – эта мысль, видимо, одновременно мелькнула у обоих друзей.
– Пошли, пошли… – зашептал друг, подталкивая совершенно ошалевшего Шмулика. Но не успели они сделать и трех шагов, как услышали голос барыги:
– Эй, пацаны, погодь! Вертухайтесь сюды!
«Ну вот…» – сердца у обоих опустились. Понурив головы и шмыгая носами, они поплелись возвращать только что обретенный клад.
Но тут произошло уже вовсе немыслимое. Барыга снова полез в карман, извлек оттуда червонец и протянул им со словами: «В другой раз с такими вещицами – сразу ко мне».
– Конечно, дяденька! – заверили его они и поспешили уйти. Их слегка пошатывало. «Ше-стьде-сят руб-лей! Шесть-де-сят руб-лей! Ну, бля!..» – повторял друг, при каждом слоге бия себя в грудь. – «Ты понимаешь, что это? Шесть-де-сят руб-лей! Ну, Санек! Ну, дружище! Братан!!»
Это было невероятно! Это было чудо! Это было настоящее богатство!
Но странное, но столь фантастическое поведение барыги надо было осмыслить. Поскольку версия ошибки отпала сама собой после премиального червонца, оставались лишь две гипотезы. Шмулик считал, что просто у барыги праздник сегодня, из-за этого настроение хорошее. Вот он и решил сделать кому-то подарок. Друг, лучше знавший жизнь, придерживался более простого и приземленного мнения: «Да он пьяный был. Или обкурился совсем. Помнишь, как у него зенки блестели? То-то же…» Оба остались при своем.
Но кто бы из них не был прав, это чудесное событие следовало отметить. Немедленно устроили пир – арбузов купили, ситра от пуза, мороженого, конечно, вяленых чебаков, лепешек с творогом, семечек. То есть, расстройство желудка, можно сказать, было обеспечено. Конечно, на пир созвали всех. И отказов, понятно, не было. Явились даже совсем редкие гости – двое братьев Зверьковых. Им было уже 10 лет, они были близнецами, вовсю покуривали, шестерили у окрестной великовозрастной шпаны, а с нами, понятное дело, якшаться брезговали. Но тут и они не удержались. Пришли и терпеливо выслушали восторженный рассказ о невероятном событии. Рассказывал, понятно, друг-напарник. Эту историю он излагал «по новой» каждому вновь пришедшему, но даже сейчас, пересказанная уже в 8 или 9 раз, она в его устах нисколько не утратила эмоционального накала. Скорее даже наоборот. Да и слушатели были рассказчику под стать. Благодарные были слушатели. Каждый очередной пересказ они слушали с неослабевающим вниманием а когда дело подходило к кульминации – обнаружению невероятной щедрости барыги – они замирали, а потом разражались удивленными возгласами и стукали себя кулаком по колену.
Правда, от раза к разу история все больше трансформировалась, равно как и роли каждого из участников. Главным героем становился, понятно, рассказчик, а роль Шмулика скукоживалась, как шагреневая кожа. Он все больше превращался из участника в свидетеля. В последней версии, например, происхождение браслета было охарактеризовано крайне бегло и лаконично, а именно – репликой «мы достали», сопровождавшейся легким кивком в сторону Шмулика. После этого он был явно упомянут лишь однажды – живописуя процесс торга, друг счел возможным произнести: «Вон он тоже со мной был». И вновь кивнул на Шмулика. Но тот вовсе не был в обиде – он и так заранее готов был отдать все лавры новому «лучшему другу навсегда»… Напротив, Шмулик был совершенно счастлив. Впервые он чувствовал себя почти на равных, почти даже хозяином. Как никак в этом празднестве была и его заслуга. А когда, внимательно выслушав рассказ, один из братьев Зверьковых накопил слюны и исполнил свой коронный плевок (длинная струя вырвалась из его щербатого рта и улетела метра на полтора, ей богу!), а потом одобрительно произнес: «Ну, еврейчик! Ну, шкет!» и надвинул ему панамку на нос, Шмулик вообще ощутил неземное блаженство. Он впервые понял, как приятно созвать настоящих друзей и широким жестом пригласить их к столу. Мол, «я угощаю»! Да, это вам не бабушкины пирожки и штрудели, ведь все заработано своим – тяжелым и рискованным – трудом!
Было поздно, почти девять часов. Стало совсем темно (во Фрунзе темнело рано). Давно было пора домой. Он знал, что дома уже волнуются, а бабушка наверняка совершила несколько безуспешных ходок по окрестностям, шаркая больными ногами и выкрикивая: «Самуильчик! Самуильчик!» Он знал, что дома его ждет нагоняй, но не мог же он уйти первым! Только когда «гости» начали расходиться – они шли по двое, а то и по трое, обнявшись за плечи, от чего казались сросшимися, как сиамские близнецы, пыля босыми ногами по белевшей в наступившей темноте дороге – он тоже позволил себе подняться и поспешить домой. Ожидание неизбежных нотаций нисколько не снижало его окрыленности. Он мчался, все убыстряя шаги, чему немало способствовало предчувствие, что, похоже, придется помучиться с животом. Это предчувствие его не обмануло. Зато о другом – куда более важном и страшном – его интуиция молчала. Шмулик ведь не знал, что беда обыкновенно подстерегает нас на взлете, а еще – что не только в плохих книжках, но и в жизни преступление влечет за собой неотвратимое, а, главное – незамедлительное, наказание.
Словом, когда он распахнул дверь в большую комнату, то обнаружил, что все семейство сидит вокруг стола, а на нем – о, ужас! – валяется раскрытая шкатулка и в беспорядке рассыпано ее содержимое (не считая, увы, одного безвозвратно утерянного предмета). Отчаяние, казалось, парализовало бедного Шмулика, но иная – чисто физиологическая – потребность вынудила его ойкнуть и что есть мочи броситься в сад, в глубинах коего под сенью винограда смутно маячило дощатое сооружение, предназначенное для известно каких целей. Он едва избежал еще одного позора, в последний момент успев опустить шаровары и низвергнуть в черную бездну «очка» последствия неправедного пира. На несколько мгновений он ощутил облегчение, но потом нравственные и, увы, физические страдания (ибо в животе продолжало крутить) нахлынули на него с прежней силой. Не менее получаса он боролся и с теми, и с другими, но, если с физическими тяготами удалось как-то справиться, то нравственно он был совершенно раздавлен. Он чувствовал, что разоблачен и погиб. Погиб безвозвратно! Что оставалось делать бедному Шмулику? Какой-нибудь гусар в таких обстоятельствах немедля пустил бы себе пулю в лоб. Шмулик же продолжал сидеть со спущенными штанами, машинально созерцая смутно белевшие справа от него обрывки газет, а сквозь щели между досками – сад, казавшийся гораздо светлее мрака, окружавшего его в нужнике, и свет, мирно струящийся из окон дома, который еще совсем недавно казался ему родным и надежным. И вот теперь… Теперь все кончено! Он даже застонал от чувства несмываемого позора. Он, вероятно, продолжал бы сидеть так еще долго. О, он готов был оставаться здесь всегда! Лишь бы отдалить ту минуту, когда ему придется взглянуть в глаза бабушке и маме. А, главное, папе. Но вот он услышал приближающиеся мамины шаги.
– Иди в дом. Немедленно, – тихо и сухо сказала она и, не дожидаясь его реакции, тут же повернула назад.
Посидев еще несколько минут, он безнадежно поплелся следом, скрипнул входной дверью и, потоптавшись перед полуоткрытой дверью большой комнаты, наконец, вошел или, лучше сказать, вполз в нее. Они сидели в тех же позах, что и в первый раз. Он бросил на них быстрый взгляд. Ему показалось, что папа сидит весь черный, и он от испуга и стыда снова опустил глаза. Несколько секунд, которые, как пишут в плохих книжках, показались ему вечностью, продолжалось гнетущее и вязкое молчание. Шмулик шмыгнул носом, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают предательские слезы. Но он еще крепился.
– Где браслет? – очень тихо спросил отец.
– Да, скажи, где браслет? – спросила мама, как бы вторя ему, а на самом деле, чтобы не дать снова воцариться этой гнетущей тишине.
Ну, а следом за ней, подобно сирене, вступила бабушка.
– О, готеню, готеню! – заголосила она, не забыв, впрочем, предварительно прикрыть форточку, чтобы соседи не слышали. – Где это слыхано? Мой внук – воришка?!
Тут начался подлинный, как выражалась бабушка, гвалт. Все кричали одновременно. Разобрать что-нибудь в этом шуме было крайне затруднительно. Шмулик слышал только отдельные выкрики:
– Семейная реликвия!
– Настоящие бриллианты!
– Диночке на свадьбу!
Папа гудел, мама тихо плакала, бабушка воздевала руки к потолку. Даже Динка что-то пищала и явно всех подзуживала. Как ни странно, от их криков Шмулику стало легче. Ведь он… ведь он… Слезы брызнули у него из глаз, как это бывает только в детстве. Тут ему стало совсем легко. Он плакал, не стыдясь. Он просил прощения. Он искренне раскаивался. Он уже и сам совершенно не понимал, как мог совершить этот ужасный, подлый… нет, все-таки ужасный поступок… Он правда-правда больше никогда не будет!..
Та тяжесть, которая еще минуту назад давила на него, куда-то исчезла. Собрание тоже явно смягчилось. Ему даже показалось, что бабушка протянула руку, чтобы погладить его, но под каменным взглядом отца быстро ее отдернула.
– Все же расскажи нам, так – для интереса – где браслет? – повторил отец.
Шмулик, все еще всхлипывая, начал сбивчиво рассказывать. Папа в некоторых местах глухо постанывал, как от зубной боли, бабушка всплескивала руками, мама хваталась то за голову, то за сердце, но все слушали его, не перебивая.
Только когда Шмулик дошел до торга с барыгой, папа спросил:
– И за сколько же вы его продали?
– За 60 рублей… – даже с некоторой гордостью ответил Шмулик.
– За сколько? За 60 рублей?! – вскричала бабушка, и утихший было гвалт вспыхнул с прежней силой.
– Ограбил!
– Мошенник!
– Идиот! Ты, ты идиот!!
А потом снова:
– Настоящие бриллианты!
– Семейная реликвия!
– 60 рублей! Держите меня!
– Диночке на свадьбу!
Но на таком градусе сцена не могла долго продолжаться, и вскоре вновь наступил естественный спад. Общий крик разбился на отдельные островки, голоса постепенно зазвучали глуше, можно было уже разобрать содержание отдельных партий и т. д.
В конце концов, Шмулику в ультимативной форме предъявили несколько условий. Во-первых, чтобы больше он никогда («слышишь, никогда!») не смел выносить из дома никаких вещей, даже, по его мнению, ненужных. Шмулик обещал. Во-вторых, чтобы он взялся за ум. Шмулик обещал и это. Чтобы слушался бабушку и помогал ей, чтобы до конца доедал рисовую и пшенную кашу, чтобы не забывал перед сном помыть ноги («самостоятельно и без напоминаний» – уточнил папа.) И еще, и еще… Все условия были Шмуликом безоговорочно приняты. Тем не менее, все (и он в том числе) понимали, что содеянное было слишком тяжело, чтобы вовсе обойтись без наказания. И оно – наказание – должно быть суровым. После краткого совещания семейный совет (трибунал?) постановил большинством в три голоса при одном воздержавшемся (бабушка), что отныне и вплоть до сентября (когда надо будет впервые идти в школу – в первый класс) Шмулик будет находиться под домашним арестом. То есть, больше, чем два месяца (ведь только заканчивался июнь!) никаких больше улиц, гулянок допоздна, дружков-бандитов, купания в арыках, набитых всякой гадостью и прочих геройств. А надлежит отныне Шмулику проводить свои дни исключительно дома, ну, и в саду, конечно, в праздности и безделье, в одиночестве, в коммуникативном, можно сказать, вакууме…
– Ничего, ничего. Может быть, наконец, за ум возьмется.
– Поскучать иногда тоже полезно…
– Хоть книжку умную прочтешь! А то ведь совсем читать перестал!..
– И вообще, надо уже о школе подумать. Ничего ведь еще не куплено – ни портфель, ни тетрадки. И учебников нет.
– Да, а Диночка с тобой позанимается…
– Ну вот еще!.
– Позанимаешься, тебе говорят! О тебе, кстати, тоже отдельный разговор будет.
Динка возмущенно фыркнула.
– Ну, что, сынок, понял? Провинился – надо отвечать. Ведь виноват же? – мягко спросил папа.
Шмулик кивнул.
– Согласен с наказанием?
Шмулик снова кивнул.
– Ну вот. Запирать мы тебя, конечно, не будем. Ты ведь человек ответственный, правда?
– Да-а… – протянул Шмулик, все еще всхлипывая.
– Ну вот… – снова повторил отец. – Значит, обещаешь – сам из дома ни ногой.
– Обещаю…
– Слово даешь? – переспросила мама.
– Ага…
– Как же, сдержит он свое слово! – прошипела Динка. – Нет уж, пусть поклянется самой главной клятвой!
– Ну, давай, клянись! – поддержала предательницу мама. – Что сам будешь дома сидеть. И бабушке помогать.
– Пожалуйста… Честное ленинское и… честное сталинское – произнес Шмулик, с обидой и укоризной глядя на сестру. Он ведь знал, что обещания обещаниями, а такую клятву нарушить было никак нельзя.
– Ну, ладно, гешефтмахер! – улыбнулся, наконец, папа, произнеся это непонятное слово. – Времени-то уж… 11 часов. Кушать будешь?
Шмулик только махнул рукой, мол, какой там кушать.
– Тогда умойся и иди спать… И чтобы больше нас не огорчал.
И потекли для Шмулика тягостные дни заточения. Он целыми днями слонялся по дому, выходил в сад, валялся в гамаке, подолгу стоял у забора, с тоской глядя на пустынную раскаленную от солнца улицу, через которую неторопливо переползали черепахи, да порой проезжал киргиз на ишаке. Его компании видно не было. В это время, т. е. днем, мы прохлаждались в арыке, который протекал по дальней – большой – улице, или пытались с черного хода проникнуть в соседний кинотеатр, и если нам это удавалось, с утра до вечера смотрели крутившийся в тот день фильм – например, «Чапаева», «Фанфан-Тюльпан» или, уже не помню, может быть, «Джульбарс» – наслаждаясь относительной прохладой и полумраком зрительного зала. Техника была простой – минут за 15—20 до конца сеанса прошмыгнуть через входные двери обратно в фойе (вестибюль), якобы в уборную, пересидеть там несколько минут, а потом, смешавшись с новой порцией зрителей, ожидавших начала следующего сеанса, вместе с ними снова проникнуть в зал. Если черный ход в этот день был закрыт, мы торчали на базаре, тыря у зазевавшихся теток выставленные на продажу плоды полей, садов и огородов. Да и сомлевшие от жары тетки реагировали на грабителей вяло, скорей для вида, поскольку сейчас, в разгар сезона, они и так продавали свой урожай практически задаром.
Иногда мы ходили к Надьке-толстой (так ее звали, чтобы как-то отличать от Надьки-худой, которая по странному совпадению жила как раз напротив, на другой стороне нашей улицы). Надька-толстая работала на ткацкой фабрике, а в свои выходные (а они иногда случались и посреди недели, если она оставалась в ночную смену) часто валялась на раскладушке в своем саду в самом расхристанном виде – то есть, в халатике, под которым из-за жары ничего больше не было. Она жила с матерью, похожей на старую ведьму, которая все время что-то ворчала и шпыняла Надьку. Та же лениво от нее отмахивалась или просто не замечала. Надька пользовалась стойкой репутацией бляди, потому что к ней по вечерам часто захаживал, а по слухам, и оставался на ночь, пожилой, лет сорока, железнодорожник в форме и на деревянном протезе
Мы обыкновенно останавливались около калитки и начинали канючить:
– Надька, покажи!
– Ну, покажи же!..
– Ну, чего тебе стоит…
Несколько минут Надька нас игнорировала. Она чесалась, позевывала, переворачивалась с боку на бок, но потом обычно снисходила к нашим мольбам. Она метала быстрый взгляд на дом – не видит ли ведьма? – а потом – поверх наших голов – на улицу, не идет ли случайный прохожий, и, убедившись, что никто, кроме нас не видит, лениво расстегивала верхнюю пуговицу на халатике, из которого тут же вываливалась грудь, и Надька начинала ее оглаживать и подбрасывать на руке, как бы взвешивая. Грудь у нее была большая и довольно расплывшаяся (Надьке уже было хорошо за тридцать). Но нам она казалась ослепительной и прекрасной. Мы неизменно сопровождали этот «сеанс» громким гоготом и улюлюканьем. Пару раз Надька даже подходила вплотную к изгороди, чтобы мы могли сами потрогать и потеребить набухший, темный и шершавый сосок и большой светло-коричневый и покрытый пупырышками круг, служивший этому соску основанием. После этого халатик запахивался, и никакие просьбы не могли заставить Надьку снова повторить процедуру. Если мы становились слишком назойливыми, она просто уходила в дом. Хотя «сеанс» редко длился больше 2—3 минут, мы потом несколько дней ходили под впечатлением. И даже видели эту грудь в наших тогда еще более или менее безгрешных снах.
Словом, с утра мы уходили на поиски этих и других – не менее упоительных и волнующих – приключений, а возвращались ближе к вечеру и уже до самой темноты носились по улице, гоняя обруч, или играя в казаки-разбойники, или в «ножички», или в расшибалку. Днем никого из нас обыкновенно не бывало, а потому Шмулик напрасно вглядывался и вслушивался в звенящую знойную тишину, в тщетной надежде услышать наши приближающиеся крики. Зря потомившись у забора, он уныло брел в дом, где бесцельно слонялся по комнатам, коих было три, подолгу застывал перед книжным шкафом, надеясь выудить какую-нибудь интересную, но почему-то раньше не замеченную книжку. Увы, все хорошие книжки были им уже прочитаны и перечитаны. Оставались только толстые без картинок тома из собраний сочинений. Может быть, они тоже были интересными, но как-то «не по росту». Там все было про любовь и прочие тонкие материи. В общем, скучища…
От тоски Шмулик даже открывал пару раз Диккенса и этого, как его, Филдинга, но после 8—10 страниц дело дальше не шло. Правда, в какой-то из этих книжек одного из героев звали Сэмюэль. Шмулик даже не сразу понял, что это – его имя. Только на иностранный манер. Тоже, конечно, не бог весть что – слишком напыщенно, что ли, но все-таки не так отвратительно, как Самуил, тем более, Самуильчик.
Там же, кстати, встретилось ему и незнакомое слово «эсквайр». Из контекста он догадался, что обозначает оно какое-то звание или должность. Как, например, товарищ или инженер. Только стояло в странном месте – после фамилии. А по-нашему положено – перед. Товарищ Петров или там инженер Петров, а не Петров, товарищ или там Петров, инженер. Странно, конечно. Шмулик даже примерил это словцо на себя. «Сэмюэль Финк, эсквайр!» – торжественно произнес он. Потом еще дважды повторил. Что ж, звучало в целом неплохо. Но читать от этого интереснее не стало. Шмулик со вздохом закрыл книжку и поплелся в сад. Там он взобрался на гамак и долго лежал лицом вверх, разглядывая сквозь виноградные листья резные кусочки синего неба. Время тянулось бесконечно. Но, наконец, солнце начинало клониться к закату, тени становились длиннее, и Шмулик снова околачивался поблизости от калитки в ожидании нашего возвращения.
Мы возвращались очумевшие от солнца, от бесконечной беготни, от собственного крика. Усталые, но счастливые, как сейчас принято говорить.
– З-здорово! – приветствовал нас Шмулик, вцепившись руками в изгородь. Кто-то ничего не отвечал, поглощенный интересной беседой, кое-кто откликался:
– Здорово!
Иногда то один, то другой отделялся от нашей плотной стаи и приближался к узнику, чтобы перекинуться парой слов.
– Ты чего не выходишь? – обыкновенно спрашивал он.
– Д-да вот не пускают… – запинался Шмулик.
– Наказали, что ли? – догадывался подошедший. – А то пошли. Мы щас в расшибалочку будем.
– Я, н-нет, не могу… – уныло отказывался Шмулик.
– А чего, боишься? Мамка заругается?
– Д-да нет, н-но… – пускался было в объяснения Шмулик, но находившийся по другую сторону забора обыкновенно не дослушивал, произнося веско:
– Смотри, тебе жить.
После чего бегом бросался догонять вперед ушедших, оставляя Шмулика в совсем уже постылом одиночестве.
Да, несладко приходилось Шмулику «под домашним арестом». Более всего его удручало, что он лишился свободы именно в тот момент, когда наконец-то обрел, как ему намечталось, столь чаемые им братство и равенство.
К счастью, через несколько дней его вынужденная коммуникативная депривация была прервана и даже сменилась кратковременным, но несомненным триумфом. Дело в том, что бабушка сама извелась, глядя на страдания юного Шмулика, и все настойчивее стала требовать смягчения наказания. «Нальзя же так, ребенок целый день мается…» – говорила она. Мама под ее влиянием тоже стала проявлять некоторую амбивалентность. И только отец оставался неумолим. В конце концов, вся ответственность оказалась возложена на него.
– Я согласна, отменять собственные решения не педагогично, но так ведь тоже нельзя… – сказала мама. – Надо придумать ему какое-нибудь развлечение.
– Да, Гриша, если ты так уперся, то хоть придумай ему какое-нибудь развлечение. —поддержала бабушка.
Отец задумался. Сначала ему ничего не приходило в голову, но затем, видимо вспомнив собственное детство, он кое-что придумал и поздно вечером, сразу после работы, даже не поев, удалился в сарай. Там у него был сооружен верстак и хранились разные столярные и слесарные инструменты. Отец с детства любил мастерить. Правда, в последнее время делал он это все реже (уж больно уставал на работе), разве что возникала настоятельная необходимость починить что-нибудь по хозяйству. Через полтора часа он появился и, судя по его лицу, явно не считал, что потерял время зря. Шмулику (и всем другим желающим) был торжественно предъявлен некий механизм, на первый взгляд выглядевший не слишком казисто. Более всего это было похоже на крайне примитивный пистолет или, лучше сказать, гарпун. Это был довольно толстый деревянный брусок, являвшийся как бы стволом. В нем было просверлено отверстие, в которое была вставлена пружинка. С помощью специального рычажка, оттягивавшегося назад, она сжималась до отказа. С помощью нажатия того же рычажка конструкция приводилась в действие – пружинка распрямлялась, ударяя в легкую пластинку. Раздавался резкий щелчок, и из «дула» вылетала иголка, соединенная с этой пластинкою ниткой. Дальнобойность этого «орудия» была невелика – от силы 5—7 сантиметров. В первый момент Шмулика даже охватило разочарование. Но, после краткого объяснения и демонстрации принципа действия, оно сменилось восхищением и энтузиазмом.
– Это такая штука, – начал отец, – похожая на гарпун. Знаешь, что такое гарпун?
Шмулик отрицательно покачал головой.
– Ну, как же, мы же еще в кино недавно смотрели, как на китов охотятся. Помнишь? – спросила мама. Шмулик вспомнил, как в журнале «Новости дня», который показывают перед настоящим фильмом, совсем недавно они видели сюжет про китобойную флотилию и как они охотятся на этих гигантских китов, добывая ценные продукты – жир, китовый ус и что-то еще непонятное, чего Шмулик не запомнил.
– Ну, на китов с этим гарпуном вряд ли получится, – продолжил папа, – а вот поохотиться на насекомых вполне можно. На мух, на ос и так далее. Вот смотри, я тебе покажу….
С этими словами отец осмотрелся, увидел муху, нагло усевшуюся на одну из клубничен, лежавших в миске в центре стола, прицелился и нажал на «курок». Он, конечно, промазал. Муха успела увернуться и стала с невероятной скоростью кружить по комнате, возбужденно жужжа. Зато гарпун вонзился и пронзил клубничную мякоть чуть ли не насквозь (только иголочное ушко торчало снаружи). Отец потянул за нитку, вытащив «окровавленную» иголку, из клубничины брызнул сок, а Шмулик даже зааплодировал.
– Можно я?! Д-дай, д-дай мне пульнуть? – в крайнем возбуждении затараторил он.
Папа протянул ему гарпун, предупредив:
– Только, пожалуйста, осторожно…
Шмулик, дрожа от возбуждения, схватил гарпун и направил его на другую муху, сидевшую на стене.
– Нет, нет! – предостерег отец. – По твердой поверхности не стреляй, а то иголка быстро затупится. И, вообще, может отскочить, и в глаз!..
Тут уж бабушка, заслышав о таких ужасах и опасностях, попыталась протестовать. Папа заверил ее, что это практически безопасно.
– И потом – так ведь нехорошо… Им же больно… – выложила бабушка свой последний аргумент. Но как-то вяло. И то – память о войне еще была свежа. Нравы по тем временам были еще суровые, не смягченные ни абстрактным гуманизмом, ни заботой о братьях наших меньших… Мучить кошек еще не казалось тогда серьезным грехом. Не говоря уж о насекомых. Мух же – разносчиков всяческой заразы – никак нельзя было считать друзьями человечества. Тем более, ос, которых бабушка панически боялась. Короче, Шмулик сделал-таки два-три выстрела «в молоко» и, после долгих уговоров, отправился наконец спать, прижимая к груди свое сокровище. Он еще долго не мог уснуть в предвкушении завтрашней «охоты».
Наутро, наскоро умывшись и что-то проглотив на завтрак (он даже не помнил что, ибо делал это машинально), Шмулик выскочил в сад. Было еще рано и основная армия насекомых еще не начинала свой набег. Наблюдалось лишь небольшое количество мух и мотыльков. Но для начала Шмулику и этого было достаточно. Он самозабвенно стрелял по всему, что движется. Он подкрадывался к своей ничего не подозревающей добыче, чувствуя себя индейцем на охоте за бизонами, и тщательно целился из своего страшного оружия. Мухи и мотыльки оказались неудачным объектами для охоты. Хотя и по противоположным причинам. У мух была слишком хорошая реакция, потому они были неуязвимы для Шмуликова гарпуна. Мотыльки же – наоборот. В них было очень легко попасть. Если гарпун не попадал в тельце, то уж в крыло – наверняка. Гарпун пронзал одно, а то и оба крыла насквозь. Несчастный мотылек оказывался как бы нанизан на нитку. Он начинал биться, трепыхать крылышками, но освободиться, разумеется, не мог.
Нитка начинала разрывать крылышки и через несколько секунд от них оставались лишь жалкие лоскутки и ошметки. Изуродованный обескрылевший мотылек еще пытался ползти, волоча за собой нитку с иголкой, а потом затихал. При виде мучений второго или третьего мотылька, ставшего его жертвой (на первого он не обратил внимания, захваченный охотничьим азартом), нечто вроде жалости кольнуло сердце Шмулика. Он не стал раздумывать о мимолетности бытия, о преходящести земной красоты, померкшей от его руки и у него на глазах. Нет, он просто решительно занес мотыльков и бабочек в свою личную «красную книгу», добровольно наложив на себя запрет на их отстрел.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































