Текст книги "Артикль. №5 (37)"
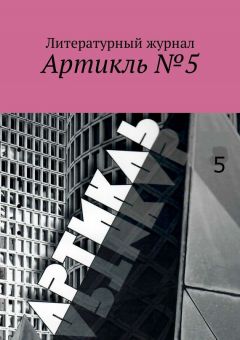
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Как раз в момент нападения она пребывала в ситуации, которая случается у каждой женщины ежемесячно, и злодей совершил с ней содомский грех. Поэтому, несмотря на всю горечь, боль и унижение, в соответствии с галахой девушка не была запрещена коэну. Проблема заключалась теперь в другом. Женившись на ней, реб Зайц не перестанет быть коэном. Но доказать это другим ему будет весьма затруднительно. Не будешь же всем рассказывать, что на самом деле произошло!
– Да, реб Зайцу не позавидуешь, – сочувственно пробормотал Йошер. – И как же он вышел из этого щекотливого положения, какое решение принял?
– А вот этого я пока не знаю, – ответил рав Кинигл. – Известно только, что отец Мирьям посоветовал ему обратиться к Ребе.
Любавичского Ребе уже давно нет в живых, но существует способ получить от него ответ – надо написать записку с вопросом и вложить ее в одну из книг Ребе – «Игрот ха-кодеш». Как ни странно, способ работает – многие люди получали ответы на самые сложные вопросы.
Конечно, все равно, где написать записку и засунуть ее в книгу. Но, как говорят знающие люди, самое лучшее – это приехать на могилу Ребе в Нью-Йорке. Пойти в микву, хорошо помолиться на могиле и попросить Всевышнего в честь заслуг праведника помочь решить твою проблему. Хабадники оборудовали прямо на кладбище небольшое помещение, и в нем есть все необходимое для того, чтобы написать квитл.
Я не знаю, что решил реб Зайц, не знаю, какой ответ он получил или получит. Но до сих пор Мирьям живет в доме отца. А синагога, понятное дело, стоит на своем месте и каждую святую субботу ее стены сотрясаются от неистовых воплей желтых демонов.
Рав Кинигл отпустил свою пейсу и она, соскользнув, повисла, покачиваясь в воздухе и почти доставая до его плеча. Он посмотрел на нее, быстро смотал и заправил за ухо, а оставшийся длинный конец убрал под большую ермолку из черного бархата.
– Вот такая вот история, – сказал он, не глядя на собеседника.
– Да, ничего не скажешь, история так история, – ответил Йошер. – Но, вы не знаете самого важного!
– Что такое?! – подкинулся рав Кинигл.
– У меня тоже есть история. Я тоже еду на могилу к Ребе, чтобы задать ему вопрос.
– Неужели? – с облегчением вздохнул Рав Кинигл. – И вы?
Йошер перегнулся через сиденье рава Кинигла, поднял жалюзи и посмотрел в окно.
– Я вижу, ничего не изменилось, – сказал он.– Хотите послушать?
– Конечно, – воскликнул рав Кинигл, – конечно!
– Человек, которого вы видите перед собой – начал Йошер, – то есть – я, внешне ничем не отличается от любого ортодоксального еврея моих лет. Та же черная шляпа, с загнутой по хабадскому обычаю передней тульей, черный костюм и белая рубашка в будни, капота в шабес койдеш. Днем я работаю – перевожу с русского, иврита и английского, вечером учусь в нашем Бейт-Хабаде. Семья, дом, дети в «Бейт Хана» и в «Томхей Тмимим». Но все это не пришло само собой, как у большинства моих сверстников и нынешних единомышленников. Я преодолел длинный и тяжелый путь, прежде чем понял – кто я, что я, чего хочу в этом мире, и что он хочет от меня.
– А, так вы баал-тшува… – протянул рав Кинигл.
– Да нет, не совсем. Этот термин в моем случае не совсем точен. Вернуться можно к тому, где ты когда-то был или к чему-то, что у тебя когда-то было. А что еврейского было у меня – воспитанника вильнюсской спецшколы?
В нашей среде особое значение придают такому понятию, как обычай отцов. Особенно в Хабаде. Хасиды, жившие в Советском Союзе, совершали чудеса веры и преданности Всевышнему. Вы слышали, конечно, о подпольных ешивах, существовавших в СССР, о тайных хедерах, о хасидских детях, не переступавших порог советской школы и никогда в жизни не пробовавших некошерной еды. И это в условиях советской власти! А какие обычаи достались мне от отца? Посещение профсоюзных собраний? Участие в ленинских субботниках – если вы понимаете, о чем я говорю?
Хуже того, мой отец не был оболванен и превращен в послушного робота, как многие советские граждане. Он был человеком думающим. И поэтому искал правду, смысл жизни. Искал долго, ошибаясь, ушибаясь, получая удары, от которых еще долго оставались синяки – и на теле, и в душе. Он дошел, в конце концов, до понимания того, что мир наш создан Творцом и управляется им. Но, Боже мой, каким же извилистым был этот путь. Чего только он не перепробовал!
Йошер замолчал и некоторое время теребил свою небольшую густую бородку.
– Прекрасно помню, как в нашем доме висела большая икона, освященная на Афоне, под ней курились восточные ароматические палочки, а возле них стояла фотография Любавичского Ребе.
Отец даже какое-то время попал под влияние суфистов. Шарлатанов, наживавшихся на наивных искателях правды. Таких искателей в Вильнюсе собралась целая компания, и они по нескольку раз в год летали к своим гуру. Каждая поездка в Среднюю Азию стоила немалых денег – билеты и, понятное дело, подарки гуру. Все это было за счет семьи, детей, но отец и не думал об этом. Он находился в каком-то дурмане и не мог спокойно говорить о своих среднеазиатских баях, которых считал духовными учителями. А баи умели привязать к себе, да так, что человек – вроде бы нормальный, с высшим образованием, инженер – становился их духовным рабом.
Потом уже я узнал, что они отправляли мужчин просить милостыню на базары. А женщин насиловали каждую ночь. И все это происходило под видом «ломки гордыни». Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не мой дядя Давид.
Он тоже искал Бога, но нашел его очень быстро – там, где и полагается. Как-то раз он приехал навестить нас из Мариуполя, где жил с моими бабушкой и дедушкой, и когда увидел, что творится с отцом, то сперва ужаснулся, а потом начал чистить ему мозги, засоренные баями. Давид был старшим братом, и отец прислушивался к его мнению. К тому же Давид уже успел кое-чему научиться у заезжих раввинов, да и у таких столпов Хабада в СССР, как реб Ури Мышов, которого Давид, а вслед за ним и отец, называл просто – адмор. И на все побасенки суфистов, которые отец выкладывал перед ним, как высшие проявления человеческой мудрости, у Давида были готовы быстрые и точные ответы, показывавшие всю незатейливость этих побасенок, рассчитанных на людей с неразвитым интеллектом.
Перед отцом открылся новый мир, и он с головой ушел в иудаизм. Но вот тут случилось нечто непредвиденное. Моя мать, которая до той поры спокойно переносила все духовные поиски мужа, вдруг встала на дыбы. Иудаизм, в отличие от других религий, не ограничивается философскими беседами, да ни к чему не обязывающими умозаключениями. Он требует действий, причем во всех сферах человеческой жизни. А менять привычную жизнь мать не хотела. Отношения с отцом начали ухудшаться, и полный разрыв произошел, когда отец решил подать документы на выезд в Израиль.
Мать заявила, что литовская природа и русская деревня ей намного ближе ближневосточных пустынь и гетто в Бней-Браке. От женщины с фамилией Йошер это было слышать несколько странно. Правда, девичья фамилия матери – Бринская, была чуть благозвучней для русского уха, но, как шутили евреи в СССР, бить будут не по паспорту, а по морде. В этом смысле моя мать должна была стать одной из первых жертв будущего погрома. И все же она уперлась с такой пылкостью, переходившей чуть ли не в ненависть, что отец развелся.
Вот так и вышло, что я с отцом оказался в реховотском центре абсорбции «Ошиот». Мать с моей младшей сестрой осталась в Вильнюсе. Но ненадолго. Налетела послеперестроечная буря, и мать очутилась в Чикаго. Там она и коротает теперь свою одинокую старость. Зачем ей понадобилось ломать жизнь себе и отцу – не понимаю до сих пор. Но и не спрашиваю. Во время редких визитов к ней рассказываю о своих детях, об их успехах и планах и не ворошу прошлое.
Все это длинное отступление я сделал для того, чтобы рассказать о странном соседе, однажды вселившемся в соседнюю с нами квартиру центра абсорбции. Уже сам факт того, что ему – одиночке, дали трехкомнатную квартиру в «Ошиоте», предназначенном для семейных, говорил о том, что у этого соседа или имелись большие заслуги перед Израилем или он обладал серьезными связями.
В нашем центре абсорбции, или мерказухе, как мы ее называли, жили репатрианты из СССР, Ирана, Румынии, Аргентины. А вот из Англии оказался только один – наш сосед Вильям. От других обитателей мерказухи, вечно озабоченных то изучением иврита, то трудоустройством, то поисками квартиры, Вильям отличался самым разительным образом. Во-первых, он никуда и никогда не спешил. Во-вторых, человек он был молчаливый.
Целыми днями бродил он по апельсиновым садам, окружавшим с трех сторон мерказуху и наполнявших воздух таким ароматом, что, казалось, кто-то разбрызгал в воздухе духи. В ульпан Вильям не ходил, резонно посчитав, что и с одним английским он сумеет прекрасно прожить в Израиле. А английский был у него просто потрясающий!
Я как один из лучших учеников лучшей вильнюсской школы с английским уклоном мог оценить это в полной мере. Вильям был не просто из Англии, а из Лондона. И не просто из Лондона, а самым настоящим кокни. То есть он родился в центре Сити и вырос под звуки колоколов церкви Святой Марии на Боу. Евреи здесь не жили, но отец Вильяма работал закройщиком в знаменитом ателье Равенскрофт, которое уже несколько столетий шьет костюмы королевской семье, членам парламента и палаты лордов. Это и позволило семье еврейского портного снимать квартиру в самом сердце того, что принято называть «старой, доброй Англией».
Благодаря и произношению кокни, которое вызывает у англичан чувство благоговейного если не восторга, то уж точно уважения, и связям отца Вильям поступил в военно-морскую академию и стал офицером королевского флота. О своей карьере он много не распространялся, но просил всех называть его «капитан», предпочитая этот титул своему имени. Впрочем, я порой называл его «дядя Вили». Я был единственным из обитателей мерказухи, с кем капитан подружился. Наверное, потому, что остальные по-английски говорили с трудом.
А меня капитан привлек романтикой моря. Передвигался он, как и все люди, проведшие большую часть жизни на качающейся палубе, в развалку. Голос у него, как мне тогда казалось, был стариковский, дребезжащий. И этим голосом он постоянно распевал морские песни – про соленые брызги, срывающиеся с верхушек волн, одиночество ночной вахты, прекрасную девушку, не дождавшуюся моряка и выскочившую замуж за тупоголового, но обеспеченного фермера.
Из всего его обширного репертуара лишь одна песня была на идиш, но пел он ее постоянно. Она была такая же длинная и грустная, как и его морские песни. Но о чем говорилось в ней, я не знал, поскольку из всего богатства идиш я владел тогда одним ругательством – киш мер ен, ну, сами понимаете, куда. Из идишистской песни капитана я запомнил только одну фразу, по-видимому, припев – «Фуфцен хахомим ойф эйн масехес».
Сперва я просто выполнял его небольшие поручения – проверить в офисе мерказухи не пришла ли ему почта (чего, кстати, не случилось ни разу), сбегать в киоск за «Джерузалем Пост», купить пару баночек темного пива «Гольдстар». Его капитан почему-то предпочитал другим напиткам. Я приносил ему пиво, он со смаком открывал баночку, сразу же выплескивал ее содержимое в рот, закуривал длинную, черную, очень приятно пахнувшую сигару и открывал вторую баночку.
Но когда я пытался начать с ним разговор, он только буркал сквозь зубы – «спасибо, малыш», свистел носом, как корабельная сирена в тумане и бросал на меня столь свирепый взгляд, что вопросы застывали у меня в горле. Точно так же он вел себя и с другими обитателями мерказухи, когда они пытались начать с ним разговор. Поэтому все очень скоро научились оставлять его в покое.
Но со мной отношения у него постепенно наладились и он начал рассказывать мне истории из своей жизни. Сперва – короткие, а затем все более длинные. Это были, без преувеличения, ужасные рассказы. Судя по ним, капитан провел всю свою жизнь на море, среди грубых, жестких людей. Не знаю, были ли они такими на самом деле, но из его описаний они представали самолюбивыми карьеристами, думающими только о чинах и наградах, да о приключениях за счет казны Ее величества.
Единственное, о чем с теплом и нежностью говорил дядя Вили, – это о своем детстве, о доме, где все любили друг друга, об отце, бравшем его по пятницам в синагогу «испанцев», находившуюся прямо в Сити, и о матери, всегда припасавшей для него пятничным вечером какое-нибудь лакомство. Он часто вспоминал, как отец каждый вечер садился к нему на кровать и повторял вместе с ним перед сном «Шма Исраэль, А-донай Элокейну, А-донай Эхад».
Детство было, похоже, единственным светлым моментом в жизни капитана. Все остальные его рассказы были полны описаний людской ненависти, злобы, подлости и жадности.
Но самыми жуткими были истории о Фолклендской войне, в которой капитан принимал непосредственное участие. Его эсминец «Шеффилд» был потоплен аргентинской ракетой, и капитан чудом спасся, получив небольшое ранение. Несколько часов он болтался на спасательном плотике в открытом море, то и дело проваливаясь в забытье от холода и потери крови, пока его не обнаружили. Когда капитана доставили на Фолкленды, бои там только что закончились и в одном госпитале в течение нескольких дней, пока их не вывезли, лежали раненые англичане и аргентинцы.
Койка капитана оказалась рядом с аргентинским офицером, тяжело раненым в последний день боев. Бедняге разворотило всю грудь осколком снаряда, и он страдал от страшных болей, которые не облегчали даже наркотики. Офицер то приходил в себя и тогда затихал, то проваливался в забытье и что-то кричал по-испански.
Капитана его крики страшно раздражали, и он попросил убрать его подальше от беспокойного соседа. Но места в другой палатке не было, и медсестра попросила потерпеть буквально несколько часов, пока капитана и всех остальных англичан не переведут на подходящий к островам плавучий госпиталь.
Аргентинец продолжал кричать что-то на своем языке. Но вдруг он странно затих, а потом во весь голос произнес фразу, заставившую капитана подскочить на койке – «Шма Исраэль А-донай Элокейну, А-донай Эхад». Капитан еще успел увидеть, как тело аргентинца изогнулось, глаза выкатились из орбит, а рот искривился в усмешке. А потом он обмяк, и его неподвижные глаза уставились на капитана.
В этот момент Вилли понял, что больше не желает служить на английском флоте. Вскоре он вышел в отставку – благо выслуги лет у него хватало с избытком, да еще и боевое ранение прибавилось. А затем оказался в мерказухе «Ошиот».
Через несколько месяцев я уже чувствовал себя в квартире капитана как дома. А он стал пользоваться моими услугами не только для покупки разных мелочей, но и по уборке квартиры. Убирать он не хотел, да и не умел, и договорился, что я буду делать это раз в неделю. Капитан платил щедро, и всегда после завершения уборки усаживал меня в одно из двух казенных мерказушных кресел, стоявших в салоне, сам садился в другое, угощал ароматным чаем и очередным рассказом из своей жизни.
В один из дней, когда я, вернувшись из ульпана, слонялся без дела во дворе мерказухи, ко мне подошел незнакомец. Мерказуха находилась на самой окраине Реховота, и через нее почти никто не проходил. А физиономии всех жителей соседних домов я уже давно знал наизусть. Незнакомец был бледен, с землистым лицом. Одежда его была чистая, но новая настолько, что было понятно – достал он ее из коробки совсем недавно: рубашка на нем не успела обмяться и складки, оставшиеся от фабричной упаковки, проходили через всю спину и грудь. На левой руке у него не хватало двух пальцев, но этого он ничуть не стеснялся, а, наоборот, все время размахивал ею, словно выставляя напоказ свое увечье.
Я видел, как незнакомец обращался к нескольким жителям мерказухи, и как они разводили руками. Наконец один указал ему на меня. Он подошел и спросил на довольно корявом английском:
– Извините, я хотел бы знать, обретается ли в этом доме мой товарищ Вильям?
Я ответил, что капитан пошел погулять.
– А куда, сынок? Куда он пошел?
Я показал ему апельсиновый пардес, в котором ежедневно гулял капитан, и сказал, что он, верно, скоро вернется.
– А когда точно?
И, задав мне еще несколько разных вопросов, он проговорил под конец:
– Да, мой товарищ Вильям обрадуется мне.
Но, вопреки этому заверению, я не заметил на лице дяди Вилли особой радости, когда он увидел незнакомца. Пожав ему руку, дядя Вилли предложил незнакомцу зайти в соседний магазин и приобрести чего-нибудь покрепче, чтобы отметить встречу. Я удивился, почему он не послал, как обычно, меня, но промолчал. Едва незнакомец удалился, капитан схватил меня за плечо и усталым голосом сказал:
– От прошлого нельзя так просто избавиться. Даже сменив паспорт. Оно липнет к тебе, как портовая девка, и требует отчета с настойчивостью волн, разбивающихся о пирс. Идем быстрей, мне нужна твоя помощь.
Мы поднялись на лестничную площадку, капитан долго не мог попасть ключом в замок, так у него дрожала рука. Оставив меня в салоне, он прошел в спальню и вернулся с небольшим кожаным портфелем.
– Возьми его, мой мальчик, – сказал капитан, – спрячь где-нибудь в своих игрушках. И никому не говори, что я тебе его дал. А теперь иди да постарайся, чтобы никто тебя не увидел с этим портфелем.
Сделать это было вовсе не сложно – нашу дверь отделяли от двери капитана десять сантиметров. А дома никого не было. Я положил портфель на пол, набросал на него школьные учебники и вещи, а сам стал у окна салона, из которого была видна улица, ведущая к магазину, и площадка перед домом.
Незнакомец показался через несколько минут. Он пребывал в прекрасном настроении – шел быстро, чуть пританцовывая, держа в правой руке целлофановый пакет, а левой размахивая в воздухе.
Когда дверь в квартиру капитана хлопнула, я прокрался на лестничную площадку и прижался ухом к двери. Но усилия мои оказались тщетными – капитан и незнакомец, похоже, не остались в салоне, а прошли на кухню, расположенную в другом конце квартиры.
Долгое время, несмотря на все старания, я не слышал ничего, кроме невнятного говора. Но мало-помалу голоса становились все громче, и, наконец, мне удалось уловить несколько слов, главным образом ругань, исходившую из уст капитана.
Раз капитан закричал:
– Нет, нет, нет, нет! И довольно об этом! Слышишь?
Шум нарастал, собеседники явно перешли в салон. Потом что-то грузно грохнулось на пол. Я метнулся в свою квартиру. Когда раздались быстрые шаги на лестнице, я выглянул на лестничную площадку. Дверь в квартиру капитана была приоткрыта. Я просунул голову в образовавшуюся щель и увидел капитана, который во всю свою длину растянулся на мозаичном полу салона. Глаза его были закрыты, из уголка рта тянулась тонкая струйка слюны.
Я попытался поднять капитана, но он был слишком тяжел. Тогда я бросился в офис мерказухи и вызвал скорую помощь. Амбуланс приехал буквально через несколько минут – больница «Каплан» находится на расстоянии двух километров от «Ошиота».
Врач сразу же поставил диагноз – обширный инсульт.
– Он что, сильно нервничал, перенапрягся? – спросил меня врач.
Что я мог ему ответить! Амбуланс отвез капитана в «Каплан» где он и умер, не приходя в сознание. Его немногочисленные пожитки сперва забрали в полицию, а потом вернули в мерказуху – на случай, если объявятся родственники. Но они так и не объявились.
– А что же было в портфеле? – спросил рав Кинигл.
– В тот же вечер, когда стало известно о смерти дяди Вили, я полез в портфель. Но там не оказалось ни денег, ни драгоценностей. Только какие-то бумажки. Я в них ничего не понял и бросил портфель в свой шкаф. Угрызений совести не было – если вдруг приедут родственники, я отдам им портфель. Но, как я уже сказал, они не приехали.
Абсорбция моя проходила совсем не просто, и про портфель я начисто забыл до тех пор, пока мы не переехали через несколько лет из мерказухи на свою квартиру. Я вновь полистал бумаги и понял, что это акции, приобретенные капитаном, а также бумага о передаче их в полное владение, в которой было все – и подпись капитана и печать адвокатской конторы. Оставалось только вписать нужное имя в пустую графу. Но капитан сделал очень неудачное вложение своим нескольким десяткам тысяч долларов – приобрел акции компании, разыскивавшей газ у северных берегов Израиля. Компания занималась поисками уже несколько лет, но никаких признаков газа обнаружено не было. Эти акции не стоили ничего.
Потом, при нескольких переездах, и по мере того, как мой отец под влиянием дяди Давида становился все более и более благочестивым евреем, пока, наконец, не поселился вместе со мной в Бней-Браке, я несколько раз подумывал о том, чтобы выбросить этот портфель с бесполезными бумажками. И каждый раз что-то останавливало меня – скорей всего память о несчастном еврее, попытавшемся найти счастье на Родине, но трагически заплатившем по старым счетам.
Несколько месяцев назад все израильские газеты вышли с громадными заголовками – компания известного израильского миллионера нашла на морском шельфе возле Хайфы крупное месторождение газа. Я вновь пролистал бумаги – капитан в свое время купил акции именно этой компании. Первый же биржевой маклер, которому я показал их, предложил мне за акции миллион долларов, причем был готов расплатиться на месте и наличными.
Я оказался перед серьезной проблемой. Один росчерк пера – пустая графа в купчей будет заполнена моим именем, и я превращусь в миллионера. Но вправе ли я это сделать? Из рассказов капитана я знал, что он был единственным ребенком в семье, а его родители давно скончались. Начать розыски его родственников? Или взять эти деньги и отдать большую часть на цдаку? Чтобы избавиться от сомнений, я решил приехать в Нью-Йорк, помолиться на могиле Ребе и спросить у него совета с помощью «Игрот ха-кодеш». Вот так я оказался в этом самолете.
Лицо Йошера озарилось светом. Он заморгал глазами и прикрыл глаза рукавом черного пиджака. Солнце пробилось через тучи, и кабина самолета засияла, заискрилась от сотен маленьких светлых лучиков, отражавшихся в лужах, собравшихся после ливня на бетонном покрытии аэродрома.
– Ну, вот и все, – судорожно вздохнул, как всхлипнул Кинигл, – теперь с Божьей помощью скоро будем в Нью-Йорке.
И он от всего сердца поблагодарил всемилостивого Творца, что Он все прошедшие годы берег его от соблазна.
В свое время капитан Вильям обратился к адвокату Киниглу и он оформил тот самый документ на передачу акций. Уставясь в иллюминатор, Кинигл вспомнил, что копия этой бумаги хранилась в его адвокатской конторе. Когда он отказался от практики, то свалил весь архив в подвал своего дома и с тех пор ни разу не прикоснулся к папкам.
– Господи, Хозяин Мира, – молился Кинигл, – ведь денег этих и на синагогу хватит, и мне на всю жизнь. Да что мне – детям, внукам. И не надо будет жениться непонятно на ком, и не надо будет мучаться – коэн не коэн, чиста не чиста…
Избави же меня от этого испытания, оно еще страшней, еще мучительней, чем прежнее… Господи, чтобы Ты ни ответил мне через «Игрот ха-кодеш», первое, что я сделаю, вернувшись домой – сожгу весь свой архив. Господи, я сделаю это, сделаю, сделаю непременно! Только Ты помоги мне, укрепи меня, дай устоять, дай выдержать, дай силы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































