Текст книги "Артикль. №5 (37)"
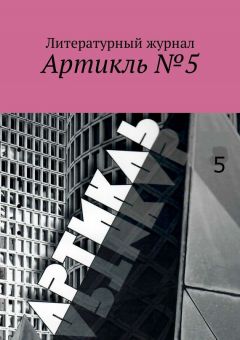
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Елена Островская
О рутинизации смертиПод таким, казалось бы, респектабельным заголовком будет мрачный рассказ об опривычивании картинок смерти в 1990-е годы. Слабонервных и бодрячков прошу отойти в сторону, чтоб не запачкаться.
В детстве и отрочестве я лишь раз соприкоснулась со смертью в публичном месте. По дороге на день рождения к однокласснице. Вдруг старик, стоявший рядом на перроне, сполз наземь, пошла пена изо рта, глаза закатились. Все стали страшно суетиться, мгновенно вызвали помощь. И та незамедлительно явилась: Красная Шапочка из стеклянной будки, что обычно стережет эскалатор, привела белую шапочку с красным крестом. Они дальше что-то предпринимали без меня. Моему деду удалось наконец вытащить меня из толпы зевак, мы пересели в другой поезд. От увиденного и пережитого я рыдала еще полвечера. Все дружно меня утешали, потом всем надоело, день рождения был несколько омрачен.
А на улицах детства происходила жизнь. Вон из моего окна хрущевки, с третьего этажа, был хорошо виден пивной ларек. Перед открытием там регулярно собиралась длиннущая мужская очередь. А минут за пять до, клацая каблуками, являлась Она. Я думаю, что клацая. Смотрела-то я из окна. Мужская очередь приходила в движение подобно звеньям игрушечной деревянной змеи. Одни подтягивали животы, другие доставали зажигалки или что там не знаю. Прекрасная дама шла, уже слегка качаясь. Сейчас думаю, что уже приходила под шафе. Тогда меня изумляла ее всесезонная красная помада. Осенью и летом аккуратная стрижка. Зимой меховая пушистая белая шапка до ресниц. И неизменный каблук. Всегда пропускали, окошко открывается, кто-то подает ей гигантскую кружку…
Дальше я пропускала, потому что рисовала. Рисовала дни напролет, лишь иногда выглядывая в мир. Миром был универсам со всем прилегавшим к нему комплексом из лестниц, магазинов, ларька и часто дерущихся мужиков. Да-да, доходило до драки обязательно. Район был пролетарский, прямой. Кровь потом долго еще валялась повсюду, а дед мой шел за продуктами той дорогой и плевал от отвращения.
Так кто лежал на улицах и в подъездах? Пьяные и пьяные-побитые. Иногда пьяные лежали в луже. Нет, не крови.
А в начале 1990-х Невский был по обе стороны обложен нищими, голодными и грязными людьми, детьми, примерзающими к асфальту стариками. Когда в первый раз столкнулась с умирающим на улице человеком, пыталась позвать на помощь, но люди просто шли мимо. Шли сквозь меня, будто и я, и тело на моих руках были прозрачными. Увидела милиционера, подбежала, вцепилась. Он хохотал как резаный и все повторял мне «да пусть сдохнет уже, иди домой, никого не спасешь!»
Через несколько месяцев в Москве ехала в автобусе. Прямо посреди Кутузовского проспекта стояла расстрелянная машина, один окровавленный труп валялся справа от нее разорванный, куски другого или его же – слева. И я опять начала кричать. Люди рядом, пассажиры, вяло посоветовали успокоиться. Ничего, мол, такого, ты чего, приезжая наверно? Ну, стреляют и бомбы в машины подкладывают часто, успокойся. Живи пока живется. Вот тогда я впервые именно так и подумала: в какое чудовищное время мне довелось родиться и жить, если смерть стала рутинной составляющей жизни.
Лечить ветрянку стихамиДа, именно так поступила с ветрянкой одна молодая поэтесса, приглашённая моей мамой посидеть с девочкой. Ветрянка застала абсолютно всех врасплох. А дело было так.
Бабушка с дедом укатили встречать бархатный сезон в Ялте. Впервые за многие годы они просто объявили адьес камарадес, взяли билеты на самолёт и улетели. Предварительно меня, конечно, проинструктировали, что в ближайший месяц с небольшим выходные я провожу у родителей. Новость поставила было меня в тупик, но думать было некогда и нечем, дел было по горло в той моей жизни восьмилетней ученицы интерната номер один. До сих пор не знаю, где был номер два?
Интернатская жизнь шла своим накатанным чередом, как вдруг у меня случилась температура в 39 градусов. В интернате такое не приветствовалось, никаких тебе лазаретов-изоляторов. У нас с этим было строго: заболел, значит все, одевайся и уматывай домой. Есть дома кто, или нет не имело ровно никакого значения.
Домой я, конечно, не поехала, здраво рассудив, что все на работе, а ключей у меня нет. Пошла в любимый кинотеатр «Авангард». На все сеансы крутилась страшнейшая кинолента Германа о войне, с его любимой кишковынимательской игрой. Главному герою выжгли звезду каленым железом на груди, а Герман это крупным планом смаковал. Отвратительный фильм смотрела с омерзением уже в третий раз, потому что если в советском прокате выходил фильм-лауреат, то крутили его во всех кинотеатрах месяцами до полного обрыва пленки…
Стоял тёплый октябрь, и сапоги в интернате нам ещё не выдавали. В кинотеатр я зашла в босоножках, одетых на толстый хлопковый колготок в рубчик. Вышла я из кинотеатра с пакостнейшим липким послевкусием и прямо в снег. Да, в тот год снег выпал именно в этот день. И падал, падал и падал день, вечер, ночь, утро, день …Так ужасно было идти в дурацких босоножках по сугробам, неся выжженную звезду перед глазами и хрипы героя в ушах. Благо меня согревала подросшая с утра температура.
Приехала, позвонила. Дверь открыла мама, как всегда невероятно красивая и загадочная. В одной руке почему-то блюдо с фруктами, в другой ветка. Тут же ушла, оставляя по слову с каждым шагом удаления в свою жизнь. Сложив их вместе, я поняла, что у неё какие-то занятия, она уходит, еды нет, можешь посидеть в кресле, Аня придёт. Пока я все ещё вслушиваюсь в эти звуки, она уже одетая стоит напротив, улыбается и смотрит огромными глазами. Мама: «боже, Алена, где ты все время? Суп мы съели, еды нет, ложись спать!» Дверь закрывается. Я иду спать…
Просыпаюсь поздно, уже ночь. На кухне, судя по многоголосью, люди, волшебные люди. Прокрадываюсь и долго за ними наблюдаю. Они кажутся очень причудливыми в своих широченных клешенных штанах, блузах на выпуск неясного размера с рюшами и тесемками, на запястьях нитки какие-то бесконечные, у кого очки, у кого браслеты, кто на подоконнике, а кто на полу и на стульях. Впрочем, стульев-то всего два, ещё есть кресло, но оно для мамы и для кошки. Люди весёлые, шумные, громко что-то обсуждают, смеются, курят. Они мне нравятся, они не похожи на каленую звезду и босоножки на снегу. Но голод уже сильно скребёт живот изнутри. Именно в этот момент кто-то меня замечает и тут же со смехом кричит: «ой, смотрите, смотрите!!! Аленка, Аленка!!! Иди сюда, иди сюда!!!» Ну, вот, думаю, началось: а как у тебя дела, а что в школе нового, а ты почему не спишь, а расскажи стихотворение, да, ты что рисуешь???!!!
К счастью, обошлось без стихов и давай нарисуй, помогла температура. Из еды у них остался кусок хлеба и нечто для меня той престранное – розовое варенье. Вот уж этой пакости, плававшей в какой-то коричневой жиже, можно было кушать от души. Я, конечно, деликатно попробовала и поскорее убралась восвояси.
Утро началось с бездны, которая разверзлась в комнате, где нас было четверо – кошка, я, папа и мама. Я лежала под роялем, кошка на шкапу, а родители в диалоговой манере выясняли, кто останется встретить врача. Остались мы с кошкой. С раскладушки я решила не вставать, спать до последнего. Так оно и получилось, что услышала я уже совсем последний звонок в дверь. Когда открыла, врач успела занырнуть наполовину в лифт, благо тот был с двойными дверями. Но дверь внешнюю я поймала, дабы узнать, а что передать, кто приходил.
Врач все-таки вернулась, зашла в дом, помыла руки и, внимательно осмотрев, констатировала ветрянку. Помню только ее слова, что к вечеру будет чесаться, но чесать нельзя. Потом она ушла, а я вернулась в объятия раскладушки. Вечером помню силуэт отца в полумраке, он что-то недовольно бормочет себе под нос, щурится в темноте читая рецепт. Ахахаха! В рецепте одно слово: зеленка.
Ужас, ужас, ужас: утром я была вся, абсолютно вся в пупырышках, и они нестерпимо чесались. От зеленки становилось ненадолго легче. На кухне меня встретила записка: «в холодильнике немного желе, в пиалке розовое варенье, скоро придёт Аня». Какой кошмар – придёт Аня.
Аня была поэтессой, читала в Сайгоне, дружила с поэтами. Она вообще очень много читала, носила огромные очки, длинные прямые волосы, юбку из гобелена в пол. Она иногда даже смотрела на меня поверх очков, как бы удивлялась, что да, я де существую. Но главное, она много и пространно говорила. Эти речи неизменно начинались словами: «видишь ли, Алена, жизнь так устроена…”, дальше шло нечто, ставшее для меня квинтэссенцией философии. Нечто магически долгое и пространное, завораживающее глухими лабиринтами, в закоулках которых я так и осталась потерянной навсегда…
Аня пришла днём, намазала меня зелёнкой, сопровождая это привычным комментарием «пора бы уже самой, ты ведь большая девочка…”, померили температуру – 38,5. Она обреченно вздохнула и поплелась в коридор за своей огромной сумкой. О, ужас, там были книги, которые она быстренько стала выгружать одну за другой на круглый стол рядом с фортепьяно. Если честно, то вообще-то стол был равно рядом и с обоими окнами этого странного эркера, и со шкафом. Кошка равнодушно наблюдала со шкапа за Аниными манипуляциями. Соорудив башню почти до потолка, дева с волосами объявила, что мы будем читать. Я стала мысленно прикидывать, надолго ли ее хватит.
Аня читала про царей, про Распутина, Павла до полудня. Потом мы пошли на кухню, она села в мамино кресло, вытянула ноги, обнаружив белые вязаные колготки. Они мне так понравились, что я пропустила тему следующей книги. Это, кстати, было не важно, потому что осмысление колготок окончилось как раз одновременно с третьей ее книгой. Я попросила чаю. Аня посмотрела на меня строго. Поджала губы, потом вдруг поджала ноги и заявила, что она в гостях. Что бы это значило – пронеслась в моей голове редкая по тем временам мысль. Но она уже объясняла, что гостю надо лучшее место, лучшую чашку, блюдце и, конечно, изюм. Я спросила, есть ли у неё изюм. Боже, у неё оказалась халва. Я сделала впервые в жизни чай. Поэтесса объяснила, что заливать сухие листья следует «вороньим глазом “ – кипятком, который вот лишь только принялся бухтеть.
Мы пили зелёный чай и ели кусочек халвы, раздроблённый на множество крошек. И тут случилось странное. Глядя на Анну, я вдруг говорю: «лицом к лицу лица не увидать!!!» Она отвечает: «у разлуки такое большое лицо… Аленка, да, ты – человек! Ты любишь и знаешь стихи! Давай я тебе почитаю!»
Она читала, читала и читала. Меня посадила в кресло напротив окна. Сама встала левой щекой к окну, подняла правую руку, ногу согнула в колене… Солнце светило мне прямо в лицо, все ещё весёлое и тёплое, несмотря на снег. Аня повернулась фас, солнце светило справа от неё в мой левый глаз. В каждом сантиметре кухни висели слова, они сплетались странными канделябрами. Аня открыла фортку, там было темно синее с красным небо и снежинки. Слова полетели на волю, оголяя вопрос о еде. Я смотрела на поэтессу и отчётливо понимала всю неуместность своего вопроса. Анна повернулась правой щекой к окну, подняла левую руку, ноги прямо. Теперь я видела только профиль. Слова выдувались тонкой струйкой дыма из ее рта. Я теперь могла видеть лишь их узоры и ее профиль. Поздно, совсем поздно открылась входная дверь, тонкие пальцы нажали кнопку, и свет вошёл в дом. Родители принесли немножко сыра и хлеб, там было розовое варенье…
Розовое варенье клали на сыр и на хлеб. Каждому достался бутерброд. Все было чрезвычайно беспечно, легко. Никто и представить не мог, что через полвека Аню ждёт сначала рак, а потом страшный огромного роста человек, почему-то захотевший убить ее в парке на снегу…
Эдуард Бормашенко
Ничего не поделаешьВсе кончено. Но нет конца – концу.
Нет и начала нашему началу.
П. Антокольский
Ничего не поделаешь. И в самом деле, «ничего», «ничто» не сделаешь, не изготовишь, не создашь. Люди расщепили атом, раскололи его ядро, раскрасили и обнюхали кварки, а «ничто» в руки не дается. Индусы и, вроде бы, шумеры, правда, придумали для него значок, и это изобретение, возможно, стало величайшим открытием первотолчком, первокирпичиком математики. То есть математика стоит на «ничто».
Математики полагают, что без нуля была бы невозможна упорядоченная, позиционная система счисления, то есть и порядок в мире чисел отчасти задан «ничто».
Eсли верить еврейской философии, то и мир создан из «ничто», ex nihilo. Не разумно ли предположить, что тайна поразительных успехов математики в описании мира заключена в том, что и математика, и мир растут из ничего и покоятся ни на чем?
Нам недурно творится даже из сора, если умеючи. И сами мы пришли в мир созданными из двойной спирали, плававшей в вонючей капле. Но из «ничто» мы творить не можем, с ним не управишься, вот и живем в ожидании того, что оно с нами управится.
***
Ничто не столько противостоит бытию, сколь надежде. Надежда отправляет нас к «ничто» на Хароновой ладье, по лунному лучу, Млечному Пути и светлым коридорам. Ничего хуже ада надежда не придумала, «ничто» ей не по зубам.
Ничто противостоит не только надежде, но и привычке «быть», привыкнуть же к нему невозможно.
***
Одна очень начитанная и почитающая собственную ученость дама спросила меня, подбрасывая ощипанные брови: а для чего, собственно, нужна философия? Какая от нее польза? Где удой? На этот вопрос Александр Моисеевич Пятигорский задиристо и твердо отвечал: «ни для чего». Философия – наука для и о «ничто», и пользы от нее никакой; и даже скорее не наука, но интеллектуальное приключение, ведущее к границам бытия, очерченным «ничто».
***
Со времен Канта философия занята демаркацией поля знаемого. Если верить беспокойному старику Иммануилу, следует в первую очередь определить, чего мы знать не можем. Так вот, «ничто» мы знать не можем. Наше мышление, о чем бы ни думали, всегда мышление о чем-то. Сознание услужливо подсовывает нам белую обезьяну конкретного, предметного, о которой мы тщимся не думать. Мы тасуем картинки уже виденного и запечатленного. Дьявола мы наделяем рогами и хвостом, занятыми по случаю у банальных козла и осла.
Одно лишь «ничто», не засаленное и незаселенное пятнами, оставленными вещами, истинно, стопроцентно трансцендентно.
***
И еще о демаркации. Спиноза в «Кратком трактате», доказывая бесконечность природы, полагает несомненным следующее рассуждение «от противного»: «если природа конечна, то ее окружает „ничто“, что нелепо». Так ли нелепо? Быть может, ничто не противостоит бытию, но ограничивает его? Если это так, то без «ничто» мир не полон, подобно тому, как математика не полна без нуля. Но как примириться с миром, очерченным «ничто»?
***
Вся история человека – история ухода, побега, изгнания, исхода. Адама и Еву выпроваживают из райского сада, исходят из Египта евреи, бежит назвавший себя «никто» победитель троянцев Одиссей; за золотом, выходя из себя и из постылой пустоты, рвались полоумные конкистадоры; в ХХ веке бежали в Космос. Особенность нашего времени в том, что исходить некуда. Неведомых земель нет. Нас плотно обступает непроходимое Ничто.
***
Доверимся речи, возьмем разговорчивого и разговорного «языка»: «остаться без ничего» – вопреки прямому смыслу сказанного означает: «остаться с ничем», или попросту: «остаться без всего». Русский язык уравнивает «ничто» и «все».
В иврите и того более, слово «ничто», «םולכ» представляет собою сцепившие םואמ+לכ. Иначе говоря: все + ничто, или же: все + нечто. Происхождение слова (ה) םואמ – темно, по-аккадски, mimma – нечто, но, так или иначе, на иврите «ничто» содержит в себе «все».
Когда я говорю: «меня ничто не интересует», то на самом деле имею в виду, что меня заботит именно «ничто». Мы не можем ни вообразить, ни воспроизводить ничто, но оно нас волнует. Еще бы, противореча Спинозе, полагавшего природу бесконечной, нетрудно предположить себя расположившимися на крошечном островке бытия, окруженным океаном ничто.
***
А что говорит нам о ничто «греческая мудрость»? Классик досократического мышления Парменид учил, что все сущее едино. Его ученик, знаменитый вечными, как «ничто», парадоксами Зенон, говорил, что сущее не только едино, но непрерывно и неделимо. «Если сущее делимо, разделим каждую его часть надвое, а затем каждую из двух частей надвое, и если повторять это, то либо останутся предельные величины единые и неделимые (атомы) …, либо сущее бесследно исчезнет и разложится в «ничто», и окажется состоящим из ничего, однако, и то, и другое абсурдно (Симпликий, Комментарий к «Физике», 139, 24).
Греки, следуя свободно разворачивающейся мысли, ни в чем не знали меры, и Парменид с Зеноном всерьез полагали, что Универсум «един, единороден, незыблем и нерожден» (Псевдо-Плутарх, Строматы). В самом деле, предположение о бесконечной делимости сущего бодро ведет к вечнозеленым парадоксам Зенона. И вот что пишет об этом стойко и ожидаемо недолюбливавший Парменида Аристотель («Метафизика»): если сущее едино и неделимо, то «оно будет ничем, ибо то, что не увеличивает, если его прибавлять, и не уменьшает, если его отнимать, … не принадлежит к сущим». Единое и неделимое сущее – тождественно ничто. Ничего не поделаешь. Или, как говорит мой друг Михаил Исаакович Юдсон, «ничего» не подделаешь. То, что не нами не создано, нам не подделать.
Яков Нелькин
Беззлобно творящий РазумВ наши дни на Земле Израиля возрождается государство евреев, разрушенное две тысячи лет назад семилетним нашествием мощи, корысти и дикости Великой Римской империи. Цель нашествия: слом иудейской свободы – экономической, политической, теологической – и, конечно же, ее золото – Риму.
Все потеряв в непосильной войне с чуждой силой империи, часть иудеев оставила родину и понесла свое невесомое – гены, веру, мораль и мудрость – в чуждые страны, поверья, войны, вражду – в историю наших дней.
***
Великие знатоки, проводники и доводчики Божьей Воли до современника – Святая Инквизизия (1492), еврееспасающий Эвиан (1938), селекционирующий Освенцим (1941) – объявляли отвечающим Его Святой Воле отъем у евреев их прав и средств, их странной связи с Природой и Богом. Но необъявленный, скрытый стержень святой их атаки – своя колея: консервативность их мысли, веры и направления сил народа – в «свою корысть».
***
Во Вторую мировую войну мощные алчные дикие страны – Британия, Германия, США – военной силой закрыли подмандатную еврейскую Палестину, спасительный очаг для евреев, – и оставили открытым индустриальное «окончательное решение».
Изобретенное фашизмом, оно было оценено, поддержано и осуществлено коллективом соучастников – стран и народов.
Шесть миллионов евреев – и космичекие миллиардолетия созидания Разума из Праха Земного – «властители дум» ХХ века стравили во Прах Земной. И, как надеялись, в пепел забвения.
***
Нарушив Мандат на охрану очага Палестины, англичанка нагадила и в будущее евреев, боровшихся, победивших и переживших фашизм. Британия как простынь разодрала и роздала Святую Землю, завещанную Богом евреям, а последний ее лоскут открыла арабам-переселенцам и просто кочевникам. Без груза любви и нужды в стране они осели у еврейских социальных костров.
Так мир посеял регрессивный Ближневосточный конфликт.
***
В предночные часы Мандата обгоревшая, обнищавшая, голодная и безоружная Палестина, окруженная регулярными армиями ислама и религиозным исламом в стране, объявила себя независимым государством Израиль.
Непостижимо собрав свои силы, Израиль разгромил окружившие страну армии – и выжил. Выжил, не подавив жестокостью ни побежденных своих врагов, ни радетелей «Божьей Воли», – а просто войдя в деловую свою колею.
Этого «пренебрежения» мир не сумел ни понять, ни принять, ни вынести.
Радетели «Божьей Воли» сплели жгут из мореплавателей и воинов финикийцев, исчезнувших филистимлян и исламских переселенцев – и вознесли «население Палестины» в «паритетный народ» Израиля.
Так мир приобрел наемника «демократического ислама» для всех живущих антисемитов.
***
«Паритетный народ» торопливо сменил бесцветность своей истории на криминал самозванных претензий – и «втесал» его в созидательную работу евреев.
Осознавая неустойчивость своего положения, но после нескольких поражений на военную победу ислама над Израилем уже не надеясь, – «паритетный» ненавидит бесчисленные успехи страны и злобно уничтожает свидетельства и святыни ее истории.
Так во времена Якова («Бытие», 26) филистимляне заваливали и засыпали землей его колодцы в пустыне: «ни нам, ни ему».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































