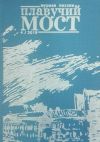Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2019"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
София Кюн – внутренняя невеста Новалиса, женственная часть его самого, но поэт идет дальше в самоисследовании и постигает ее как «женскую тайну природы, живую сокровенную Изиду». Если что-то понимается подлинно, то понимается универсально, в каждом жизненном атоме. И дело не в том, исключительна или вполне заурядна Софи как плоть и психэ. Плоть – символична, в том смысле что манифестирует высший план. Плоть реальна и нереальна одновременно. «Касаясь человеческого тела, мы прикасаемся к небу.» Для теурга и мага это основания опыта. Небо начинается здесь-и-сейчас.
Когда мы погружены в есть («живу здесь-и-сейчас!») внешнего образца, мы лишь прячемся от тленности, правдами и неправдами бежим от нее. Но существует ествование другого уровня, оно не бежит от тления и тленности, но принимает и по мере сил постигает их. Есть дао, которому подвластен и Иисус, и Будда, и сам Лао-цзы. Когда само бытие заглянуло в глаза Новалису, тогда с ним и случился переворот, крайне поверхностно истолкованный окружающими как служение деве Софи Кюн.
Кстати, бюргерской верности Софи Кюн у Новалиса как раз и не было: проходит всего лишь год, а он уже влюблен в двадцатидвухлетнюю Юлию фон Шарпантье и делает ей предложение. Казалось бы, какой конфуз, но Новалис ничуть не смущен и ничуть не прячет от друзей новую подругу, равно как его визиты на могилу Софии не становятся менее частыми. Как вписываются новые матримониальные планы Новалиса в его проект самоумерщвления? Вписываются в той же мере, в какой ухаживания за Юлией сочетаются с бережным ухаживанием за могилой Софии, с сочинением Гимнов к Ночи, восславляющих таинство смерти. Маг не живет интеллектуальными планами. Бытие в самоумерщвлении (соучастие в божественном акте, по Вейль) не отклоняет саму мистерию восторга, ибо мы одновременно во Входе и в Выходе. Тело любимой трансцендентно.
Маг постигает в Юлии Софию. Вот почему эта душа постигаема и в занятиях минералогией. София присутственна в отсутствии, ибо потустороннее осуществлялось поэтом уже здесь. София становится этой «аббревиатурой» бытийного универсума, «посланницей Бога», так что смерть ее плоти ее саму не аннигилирует, ибо из бытия она не уходит. Да, мы все с рождения начинаем потихоньку умирать. Жизнь – пустой бесконтрольный экстаз цветения, экстаз отталкивания смерти? Нет. «Жизнь – начало смерти. Жизнь существует в обоснование смерти. Смерть – это конец и одновременно начало, расставание и одновременно теснейшее самовоссоединение.» Вот почему это искусство, поистине бесстрашное, называется философствованием. И следующий шаг здесь: selbsttötung – самоубиение, почти хулиганская формула, подчеркивающая активность соучастия в реальном. (Сколь близок был Киркегор к подобной постановке вопроса!) Но именно опыты трансцензуса и составляют дело всякого истинного поэта (не литератора, не того, кто «думает и пишет для других»; ведь монах укрывается в пещере или келье вовсе не для «обнародования» своего уникального опыта и уникальных открытий). Смерть Софии лишь подтолкнула Новалиса к «трансцендентальному поведению».
5
«Сущность моей философии заключается в том, что поэзия есть абсолютная реальность, что всё тем более истинно, чем более поэтично». И здесь же рядом: «Гений насквозь поэтичен. Что бы гений (гений в любой сфере.
– Н. Б.) ни делал, он делает это поэтически. Человек по-настоящему нравственный – поэт.» Или: «Есть поражающее сходство между подлинной песнью и благородным поступком…» Или: «Совесть – непосредственно действенное божество, дивный отсвет высшего мира; тем же самым является истинная поэзия». То есть истинная поэзия есть художественное воплощение (а точнее сказать – отблеск, символ, знак) совести – некоего тайного эпицентра и в нас, и в мироздании.
А вот и уточнение: «Философствование – основа всех других наших откровений. Решение философствовать есть не что иное, как требование к своему реальному Я, чтобы оно опомнилось, проснулось и стало духом. Без философии не может быть подлинно нравственного поведения, равно как без нравственного поведения – философии». Мы входим в парадоксальное измерение. Этика, поэзия, философия и эротика здесь таинственным образом сливаются, образуя для антропоморфного существа сакральный центр, золотую ось, невидимое свечение, вероятно, как раз и хранящее сам мировой эталон.
Центр универсума, по Новалису, в высшей степени поэтичен, а сущность сущего и, соответственно, субстрат поэтичности – этика, мировой закон (дхарма, укрытая в дао, – сказали бы мы сегодня). Вот почему, кстати, зло не онтологично, равно и демонизм, и люциферианство, сотворившие себе лежбище в интеллектуализме и «научности». Фрагмент диалога из романа «Гайнрих фон Офтердинген». «Когда же, наконец, – спросил Гайнрих, – прекратится необходимость боли, скорби и всякого зла на земле?» Целитель-маг старец Сильвестр отвечает: «Когда утвердится единая сила – сила совести, когда природа (и природа человека в том числе. – Н.Б.) сделается целомудренной и нравственной. Причина зла только одна – общая слабость. Слабость же эта не что иное, как недостаточная нравственная восприимчивость и недостаточное влечение к свободе». (Свобода понимается в романе как любовь – ровное ее, не требующее ответной «платы» пламя). «Объясните мне сущность совести», – просит Гайнрих. «Если бы я мог объяснить ее, я был бы Богом, ибо постижение совести есть вместе с тем и ее возникновение».
Однако в других текстах Новалис, конечно же, пытается постичь направление происхождения совести. В каждом из нас, как представителе исконного полу-божественного рода, есть в лучшем смысле реликтовая, высшая способность, которую можно назвать интуицией, предзнанием, инстинктом, гением и т. д.
«Человеку кажется, что он с кем-то разговаривает и что какое-то неизвестное духовное существо вызывает его на развитие самых ясных идей. Надо полагать, что это существо принадлежит к разряду высших существ, потому что оно вступает с ним в сношения таким способом, который не возможен ни для какого существа, зависящего от явлений внешнего мира. Надо полагать, что это – однородное с ним существо, потому что оно относится к нему как к духовному существу и вызывает его на самую странную самодеятельность. Это «Я» высшего разряда относится к человеку так же, как человек относится к природе или как мудрец относится к ребенку. Человек хочет сравняться с ним <…>» Истинный поэт в понимании Новалиса – это святой, не ведающий о своей святости и извне невидимый таковым. Но ведь и мастер дзэн узнаваем лишь мастером дзэна.
6
Когда мы пытаемся двинуться дальше в направлении этой тайны нравственного эпицентра универсума, то слова останавливаются. Сказывание становится невозможным по причине нашей неготовности мыслить вселенную как реальную душевную субстанцию. Онтологизм дхармы представляется нам, увы, чем-то умозрительным, ибо плоть наша не унежена и не одухотворена. Мы словно заперты в громадной эстетической колбе, изобретая все новые и новые игрушки на продажу, отрезанные от реальности еще и стеной эстетической иронии.
«В тот момент, когда мы вполне нравственны, мы будем в состоянии творить чудеса. Чудо есть добродетельное деяние, есть акт свободной решимости». Об этом феномене (вере хотя бы с горчичное зерно) говорит и Евангелие. Новалис лишь опробует этот древнейший рецепт, пытается реализовать его в разнообразной своей практике. Результаты пока не очень яркие, но он знает, что они могут быть невероятными при необходимой степени нравственной силы и чистоты. Это для него путь свободы. Магия (господство духа над телесным миром, любовь как один из инструментов магии) для него – не самоцель, но путь прорыва. «Мы должны стараться сделаться магами для того, чтобы стать вполне нравственными; чем нравственнее человек, тем более он гармонирует с Богом, тем он божественнее.» И далее: «Нравственный бог много выше бога магического». Все это почти бесценно именно потому, что говорится поэтом, а не теологом, священником или святым отцом-монахом. Ведь поэт – это наш наиближайший, он – сама почвенность, непосредственность, сама незащищенность, сама детскость, еще словно бы не выпущенная вполне из божьих рук. Поэт есть наше источниковедение. Он свидетельствует «по простоте душевной», он не держит и не может держать фиги в кармане, у него нет двойной бухгалтерии, он так же близок к нам, как простой пахарь, еще когда тот ходил за плугом и вручную очищал лемех. Его интуиции и слова первоначальны, не взяты из книг и поучений «святых отцов».
7
«Мир должен быть романтизирован, – фиксирует Новалис. – Только так можно помочь ему обрести изначальный смысл. Романтизирование есть не что иное, как качественное потенцирование (возведение в степень за счет извлечения всего качества потенций. – Н. Б.) <наличного>». Но мир, вселенная по Новалису, – внутри нас. Потому-то романтизирована должна быть прежде всего твоя собственная жизнь и судьба, то есть найдена вся качественность потенций твоей судьбы и жизни, а затем возведена в степень, дабы быть узренной четко. Для того, чтобы увидеть зримо и необманно потенции своей судьбы и жизни, уже во многом прожитой, требуется внимательнейший и экзистенциальнейший ее перепросмотр. Это и есть главная колоссальная работа, приступая к которой человек уже становится на путь (белой) магии. Романтик высматривает в себе того отпрыска древнейшего царского рода, который жил в Золотом веке. Он реанимирует его в себе, оживляет, восстанавливает его миросозерцание, его способ чувствования и действия. И, собственно, восстановив его, то есть добившись «качественного потенцирования», он наконец понимает, как он должен действовать по истине в той или иной ситуации нового времени, времени, когда началось вступление в Мировую ночь. (Сегодня нас охватившую). И тогда мы начинаем по-настоящему понимать внутреннюю естественность внешне странного поведения Гарденберга в последние его четыре года. Его Selbsttötung – действие романтическое в только что истолкованном нами смысле. Равно как и само философствование становится для него процессом осознанного возвращения к глубинному Дому. «Влечение к чужбине истощается в нас, и нам хочется домой, к Отцу…» Всё внешнее, чужбинное, пытающееся пленять новизной, всё, предстающее внешне-чужбинным, должно быть претворено во внутреннее.
«Внутрь ведет таинственный путь! И он всегда ведет домой.» Идея сталкера (проводника в сакральное) принадлежит йенцам. Ее суть – в отречении, Новалис называл это Entsagen, то есть нечто вполне симметричное Selbsttötung. В реальной судьбе Новалиса это действие Entsagen было претворено эзотерически: внутренним, потаенным самосожжением.
Ведь даже жертва и самоотречение (Selbsttötung) Христа едва ли могли (и могут) быть увидены профанным зрением.
И мне снова вспоминается рассказ Льва Толстого «Хозяин и работник», его финал, где в сценах замерзания купца Василия Андреевича дана картина трансформационного переворота в сознании матерого материалиста, внезапно постигшего, что единственная возможность не умереть абсолютно и окончательно, а слиться со своей бессмертной душой – это отказаться добровольно (пока еще есть возможность) от своей утекающей жизни, согревая и спасая ближнего. «Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. <…> «Жив Никита, значит жив и я», – с торжеством говорит он себе». А до этого, напомню, он пережил «торжественное умиление», поняв, что он не купец и богач, а Душа, и единственное, что она может – любить, и это единственный «пропуск в вечность.» Здесь, в сущности, тот же, что и у Новалиса «опорный, толчковый» испуг: успеть отречься от жизни ради бытия, ибо, оказавшись в бытии, я – в Боге, то есть спасен.
8 Разумеется, Новалис не подсыпал себе в пищу ядов и не устраивал каких-либо иных телесных или заговорных провокаций своему организму. Настройки его были гораздо тоньше, ибо был он целостным и цельным существом, не источенным внутренними конфликтами. Он устремлялся постигать бытийный процесс в себе, для чего держать руку на пульсе смерти было абсолютно необходимо. И разве же Новалис изобрел в этом смысле что-то новое? Разве еще Платон не говорил, что «философствовать – значит упражняться в смерти»? Разница, конечно, есть: Платон умирал-в-духе, Новалис же максимально приблизил это умирание-в-духе к себе телесному. <…> Сыростан, 2016
Примечание:
Николай Болдырев-Северский – философ, поэт, переводчик. Автор двадцати пяти прозаических, поэтических книг, а также биографических исследований. Постоянный автор «Плавучего моста». Живет на Урале.
Геннадий Калашников«…И снова жить хочу»
Сергей Морозов. «Устная речь»: избранные стихотворения. М.: Виртуальная библиотека, 2018.
Поэт Сергей Морозов (1946–1985) прожил короткую и потаенную жизнь, из которой ушел по своей воле. О нем мало что известно, и тем отраднее, что наконец-то издана книга его стихов «Устная речь» и можно понять, чем он жил, о чем думал, что угнетало его, а что поддерживало. Я был немного знаком с Сергеем. В семидесятые годы мы учились в педагогическом институте на Пироговке и ходили в институтское литобъединение, которым руководил сангвинический, доброжелательный Всеволод Алексеевич Сурганов. Назову некоторых участников наших тогдашних бурных заседаний: Сергей Костырко, Леонид Бахнов, Елена Гордеева, Вадим Егоров, Татьяна Реброва, Вадим Делоне; туда заглядывали Владимир Бережков, Владимир Батшев, Виктор Луферов… Взъерошенные, амбициозные мальчишки и девчонки в пух и прах критиковали опусы друг друга, долго не расходились после обсуждения, шли в общежитие на Усачевку и там продолжали горячечно читать стихи и спорить. Помню, при обсуждении стихов Сергея я указал на явственное присутствие Пастернака в иных его стихах. Не ручаюсь за точность, но вот такая строфа:
Кружится мяч волейбольный,
Палец отбитый болит…
К станции, к дому… Довольно.
Берег бумагой рябит…
Возможно, спорное, но вполне безобидное замечание, особенно если учесть наши тогдашние неукротимые баталии. Да впрочем, кто из нас не отдал дань Пастернаку! Тем не менее Сергей обиделся, и на наши и без того неблизкие отношения легла прохладная тень. В ответ я тоже получил его отповедь. Особенно почему-то его возмущение вызвала строчка моего стихотворения, где упоминается овраг и «как будто брови к переносью деревья сдвинулись к нему…». Вот такие горячие, молодые страсти. И это при том, что Сергей (он, насколько я помню, учился на вечернем отделении) выделялся среди нас подчеркнутым спокойствием, выверенной отстраненностью. Он всегда держал дистанцию и неохотно участвовал в наших спорах. Помню твердый взгляд его светлых, каких-то «льдистых» глаз, его замкнутое, холодноватое лицо. Он словно предвидел свое невеселое будущее – армейскую службу в конвойных войсках, работу в милиции Норильска, одиночество и неустроенность грядущей жизни…
Бездумною службой унижен,
ни злобы, ни лжи не боюсь.
А правда яснее и ближе
за то, что один остаюсь…
Книга его стихов «Устная речь», вышедшая спустя долгие годы после трагической гибели Сергея, свидетельствует, что рядом с нами жил настоящий поэт со своим голосом, с углубленным и несомненно поэтическим восприятием мира, со своей нелегкой судьбой. Нет никаких сомнений, что, продлись его жизнь, Сергей Морозов стал бы заметным явлением в отечественной поэзии. Впрочем, и «Устная речь» – книга не столько прошлого, сколько настоящего. Стихи ее живы, их не тронуло время, в них слышна устная речь поэта.
Простая истина, что буду пережит стихами, мыслями своими, сегодня в дом войдет и взгляд отяжелит и медленное примет имя…
В его стихах сквозь все трагические ноты, сквозь одиночество, сквозь неприятие многого, что его окружало в «постылой эпохе», всегда брезжит надежда, удивление и благоговение перед миром. И это не поэтический ход, не дань приветствовавшемуся в те времена задорному бодряческому оптимизму, а выношенное, хочется сказать – выстраданное, отношение к летящей жизни.
«Обратимся к устной речи! В ней, к пределам не спеша, назначенью не переча и к любой готова встрече, утро празднует душа.» Праздники редки и кратки, тем они подлиннее и дороже, тем ярче этот неземной свет, брезжащий в сумерках невеселых будней, проступающий сквозь стихотворные строки, наделяющий жизнь скупым, но надежным теплом. «Окно, растворенное в сад, настигшее счастье сирени – кистями уткнуться в колени, а возле подруги грустят и видят в окне голубом мережку на скатерти белой, перо и рисунок несмелый, и хлеб, и кувшин с молоком». Буквально чувствуешь, как светится эта ажурная мережка, как отражаются в оконном стекле кисти сирени, да и силуэт человека, вглядывающегося в этот пейзаж-натюрморт, тоже мерцает в тени.
Да что там, даже в мрачных стихах «вышкаря-бедолаги» – постового на смотровой лагерной вышке – чувствуется скрытая усмешка, подлинный стоицизм и человеческое достоинство: «Где сапоги еще такие поношу, в шинели, что в дому родном укроюсь, разлуку наперед по суткам распишу, водою ледяной, не дрогнувши умоюсь?». Не увидевший при жизни ни одной своей полноценной публикации, избегавший шумных поэтических сборищ, Сергей Морозов ни на йоту не поступился собой, своей внутренней независимостью и свободой. Он с достоинством принимал свое почти добровольное изгойство и пытался найти в нем утешение и надежду: «Ну вот и снова жить хочу и умирать не смею, и теплю чуткую свечу один, как с дочкой, с нею…» Стихи этой книги нуждаются в чутком и внимательном читателе. При всей их сдержанности и потаённости в них дышит страстное желание рассказать о красоте бытия, о том, что каждое, пусть даже и будничное, мгновенье – часть грандиозного замысла, оно исполнено высшего смысла и заслуживает своего воплощения в слове.
Надеюсь, такие читатели у этой книги найдутся.
Сведений о жизни Сергея до крайности мало, поэтому мне хочется, немного отступив от рецензионного канона, рассказать о тех встречах, которые случились у нас годы спустя после институтского литобъединения.
В 1985 году я работал в редакции одного литературного еженедельника, и кто-то из знакомых попросил меня помочь мыкающемуся без работы Сергею. Мы с ним много лет не виделись, но я сразу узнал его – та же сдержанность, замкнутость, только льдистый взгляд слегка потеплел. Наша давняя размолвка явно подернулась туманом. Мы как-то очень дружески поговорили, прикинули, что он может делать. Это оказалось непросто, Сергей по-прежнему «держал дистанцию»… После некоторых усилий удалось пристроить его внештатно в отдел литературной хроники нашего еженедельника. Я сомневался, что эта работа ему понравится: надо ходить на писательские собрания, всяческие официозные мероприятия и «освещать» их в репортерских заметках. К моему удивлению, Сергей охотно взялся за дело, да так преуспел в нем, что вскоре речь зашла о зачислении его в штат. Он писал толково, по делу и со скрытой иронией к описываемому, к счастью, не замечаемой нашим начальством.
Я был искренне рад и всячески уговаривал его не отказываться от этого предложения. К тому времени мы как бы подружились, если это слово здесь применимо. Во всяком случае, несколько доверительных разговоров у нас состоялось. И я, как мне казалось, более-менее представлял себе его состояние и его настроения. Я считал, что вот такая суетливая репортерская работа развеет его, отвлечет от глубокой сосредоточенности на невеселых, скажем так, мыслях. Он обещал подумать. Через пару дней зашел ко мне и сказал, что решил отказаться и от места, и от внештатной работы. Словно извиняясь, подарил мне книжечку о боярыне Морозовой, пошутив, что он с ней в родстве.
И сотрудникам отдела тоже подарил по книжечке.
А вскоре его не стало.
Примечание: Калашников Геннадий Николаевич родился в 1947 г.
в Тульской области. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина. Автор четырех книг стихов и книги прозы. Член Союза российских писателей.
Светлана КрюковаБыть лишь самим собой
«О, холодно – за каждой строчкой новой
Быть лишь самим собой…»
Игорь Болычев
Болычев И. И. Разговоры с самим собой. М.: Союз Дизайн, 2019 – 108 стр.
27 февраля 2019 г. в Литературном институте им. Горького состоялась презентация изданной в московском издательстве «Союз Дизайн» книги поэта, переводчика, преподавателя Литинститута Игоря Болычева «Разговоры с собой». В ней принимали участие друзья поэта, коллеги и участники Литературной студии «Кипарисовый ларец», руководителем которой является Игорь Болычев. Об Игоре Болычеве можно сказать «замечательный поэт» и ничего этим не сказать. Это – сложный поэт, говорящий простым языком, поэт, филигранно владеющий техникой сложения силлабо-тонических стихов, умеющий передавать многообразие мира в кратких и целостных образах – порою парадоксальных, но выводящих внимательного читателя на новый уровень восприятия и даже уводящих за пределы физики: в метафизику, к основам и первоисточникам знаний. Ольга Татаринова писала: «А Игорь Болычев, прекрасный русский поэт 80-х гг. двадцатого столетия, не исключено, останется последним безукоризненным мастером русской силлабо-тоники, в которой, собственно, и состоялась великая русская поэзия». Пришло время разобраться в простой сложности, искупаться в завуалированной лёгкостью звука загадочной стихии, пришло время сказать поэту: «Спасибо!» Есть стихи, как ребусы: дразнят, намекают, что у них внутри тайна – пытаешься разгадать их, вывести формулу, но семантические окаменелости не пускают внутрь, стоят на страже своих сокровищ. Покрутишься возле них, усомнишься в собственных аналитических способностях и с недоумением идёшь дальше. К сожалению, таких стихов всё больше в современной поэзии. Но есть и иные стихи: их строки прозрачны и просты, разве что какая-то неловкость, шероховатость проскользнёт – пожуришь автора и не поймёшь, что это приём, крючок и тебя элементарно «поймали». Стихам Игоря Болычева присуща рафинированная простота, в них нет лишнего, и любая неловкость работает на определённую задачу: расчётливо, скупо и эффективно. Так, например, «хлопчатые» носки в стихотворении «Любил ли я тебя? – Не знаю…» приоткрывают эмоциональную бурю, «несущую» лирического героя. «Любил ли я тебя? – Не знаю… / Куплю хлопчатые носки / И в них пойду бродить по краю / Свободы, боли и тоски». К чему эти хлопчатые носки, зачем они в лирическом стихотворении? Мне они покоя не давали, пока я не «разгадала ребус». Хлопок, хлопец, хлопоты… Хлопок – простоватость, доступность, намёк на то, что, дескать, стану проще: хлопковые – «простые» носки в народе. Хлопец – простецкий парень, может даже слегка развязный и весёлый. «И в них пойду гулять по краю / Свободы, боли и тоски…» – гулять по краю свободы… край свободы – это и граница, и местность одновременно.
В сочетании всё вдруг приобретает объём и глубину, за бравадой просвечивает разрушенная жизнь (ничуть не меньше), горькая ирония, растерянность. Холостяцкая разудалость, хлопоты, даже «Хлоп!» слышится, слышится звук лопнувшего воздушного шарика. Или воздушного шара, что более вероятно, учитывая масштабы крушения. И всё это стоит за одним «неловким» эпитетом, за одной выбивающейся из строя строкой. Всплеск энергии, выброс разрушительного эмоционального коктейля в мир… такие сложные движения души приоткрыло «шероховатое» слово из сниженной, непоэтической лексики. Вот так, одним, на первый взгляд неуместным, словом развернуть стихотворение в нескольких направлениях… это серьёзно.
Пожалуй, в эту же категорию можно отнести и «тварей» из стихотворения «Не оглядывайся». «Не оглядывайся. За спиною / Давно не на что больше смотреть.
/ На ковчег благонравному Ною / Догружают последнюю клеть. / Уходи, помаши им рукою – / Всякой твари в попарном строю…» Библейские «твари» становятся инвективою, краской, деталью, приобретают ту самую коннотацию, которой и заслуживают спасённые Ноем в данном контексте, но при этом масштаб действа вырастает до размера вселенского катаклизма. Художественный приём – на грани, но… действенный. Не могу сказать, что это особенность поэтики Игоря Болычева, т. к. есть примеры иного использования эпитетов. Так, например, обычный эпитет «свинцовый» в стихотворении «Разговоры тихие вести» работает «вещно», напрямую и вдруг разворачивает стихотворение от природы к науке и прозрениям. «Да следить, как селезень плывет, / Оставляя за собою сзади – / Словно реактивный самолет – / Конус Маха на свинцовой глади…» Вот так Ньютон сидел под тем самым деревом… в сущности, для пытливого ума нет перерыва на обед, он работает всегда и везде, окружающее для него – испытательный полигон. Селезень, оставляющий за собой конус Маха, на фоне свинцовой глади обращается в модель реактивного самолёта, озеро волшебным образом становится то ли конструкторским бюро, то ли местом военных действий – вот-вот взвоет сирена и появятся вражеские самолёты…
В стихотворении «Человеческой жизни не хватит» автору удалось перевернуть мои представления о мире: «Человеческой жизни не хватит, / Притяженья не хватит звезде, / Чтобы мальчик в пальтишке на вате / Научился ходить по воде…» – оказывается, чтобы ходить по воде, нужно притягиваться звёздами и это уже не ньютоново яблоко, это теория относительности… и никаких формул! Такие вот «основы мироздания».
Старое вино – медленное, не сразу действует, нужно подождать, пока проникнет в клетки, разомкнёт их и выпустит на волю всё, что скопилось за жизнь. Вот так и стихи, прошедшие проверку временем, должны пожить в душе, чтобы раскрыть свой букет и достать тебя из одиночества или хандры, из неверия или смятения. «На дорожке овальные лужи, / Человеческой жизни года – / Мельче, глубже, пошире, поуже. / Да, конечно, бывало и хуже, / Но бессмысленнее – никогда…» Лужи-овалы на пути – по ним можно читать жизнь, как по кругам на спиле дерева; нечто судьбой предназначенное, фатализм. Лужи, в которых можно увидеть небо и себя в небе, можно услышать музыку. Когда слова становятся ненужными, когда смыслы растворяются друг в друге, когда непонятно о чём, а потом вдруг понятно, что обо всём сразу – и о тебе, и о краткости жизни, о её невозвратности, о дорогах, уходящих в лужи, уходящих в небо… это поэзия.
Возможно, вопреки ожиданиям самого автора «Разговоры с собой» стали разговором с мирозданием, Богом – так и должно быть, когда ты честен с самим собой. Лгут злодеи, когда утверждают, что русская силлабо-тоника умерла, в лице Игоря Болычева она живёт и здравствует, ищет пути развития. Можно только порадоваться тому, что поэт преподаёт в Литинституте и новые поколения впитывают «болычевский воздух». Трудно перечислить находки и новшества в книге Игоря Болычева «Разговоры с собой», да и нужно ли – у каждого есть возможность сделать открытия самостоятельно. Скажу лишь, что поэту удалось выдержать тональность книги на высочайшей ноте открытости себе и миру. Мне кажется уместным завершить монолог о книге «Разговоры с собой» пушкинским по звучанию стихотворением юного Игоря Болычева.
* * *
Осень, как тусклый бубенчик,
Звенит под высокой дугою.
Небо летит навстречу —
Черное и голубое.
Легкий, воздушный цокот,
Серая, мокрая грива —
Ах, как оно высоко,
Ах, как оно красиво…
Сентябрь 1984 г.
Примечание: Светлана Крюкова, автор книги стихов «Интерактивное небо», интерактивной поэмы «Реликтовый снег», киевлянка, с 2000 года живёт в Москве. Стихи, переводы, эссе публиковались в различных журналах, альманахах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.