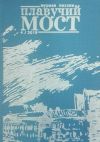Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2019"

Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
«Я воровал березовые чурки…»
Сжимается пространство языка.
Немеет ночь. И лишь твое дыханье
бездомной кошкой бродит у виска
и греет душу, как вино в духане.
Немая улица. Шагреневый язык.
Немые сны на выцветшем диване.
Как будто разлагаются азы
не слов, а самого существованья.
Так вот она, земная благодать.
Вот это слово, что во чреве бьется
и задыхается. И можно не гадать —
оно уже никак не отзовется.
А за окном спокойно, чуть дыша,
самоубийцей снег уходит в лужу.
Зародышем во тьме карандаша
томится стих, не выходя наружу,
безмолвный, словно снимок в паспарту,
или как ратник у истока битвы.
Сидит и ждет, пока я обрету
пространство для любви и для молитвы.
«Да что страна, ее леса и недра…»
Я воровал березовые чурки,
и соскребал с коры сосновый клей,
чтобы в огне обшарпанной печурки
моей осине было веселей.
И словно растревоженные мысли,
где каждая по-своему права,
чернильным дымом из печи, как мыши,
бежали в небо мокрые дрова.
Я жил, нигде не прикипая к месту,
и руки примерзали к топору,
когда, скрипя, торжественную мессу
осины совершали поутру.
Я жил в краях, где из-под ледостава
бездомные ломились топляки,
но злая, подозрительная слава
брела за мной вдоль берега реки
и темным лесом, тропками прошитом,
где, не предав ни Ягве, ни Христа,
я шел снегами Вечным русским Жидом,
и мне во след свистели поезда.
А впереди, отмеривая даты
и километры, плелся зимний лес —
как Моисей, седой и бородатый
и как Христос, вернувшийся с небес.
«Не трожьте лебедя и ворона не ешьте…»
Да что страна, ее леса и недра,
когда с какой ни глянешь стороны —
страна всего лишь продолженье неба,
как небо – продолжение страны.
И только снег, летящий мимо, мимо
чужих домов, где мог бы жить и я,
напоминает о единстве мира,
единстве быта и небытия.
Ведь в сумерках, лишенных дара речи,
так поступь снега сказочно легка,
что от покатых крыш Замоскворечья
почти неотличимы облака.
И кем бы мы ни стали, обессилев, —
вечерней тенью, облаком, золой —
когда-нибудь небесная Россия
соединится с русскою землей.
«Дальний пригород. Ночь холодна…»
Не трожьте лебедя и ворона не ешьте,
а также цаплю, пеликана и удода.
Но прежде – ворона. И ближнего не режьте.
Не режьте ближнего – испортится погода.
Мы жили весело. И ворона не ели.
Стучали в бубны, пировали на поминках,
когда и пули нам свистели, как свирели,
и подрывались наши ближние на минах.
Но заповедал в Книге жизни или смерти
кудлатый выродок, пророк чернобородый:
не трожьте голубя и ворона – не смейте,
поскольку ворон неприемлемой породы.
Сегодня дождь смывает яблоки с деревьев —
как будто души избавляются от плоти.
И просыпается размытая деревня,
перенесенная с сезанновских полотен.
Как неожиданно испортилась погода!
Никто и знать не знал, не думал и не ведал.
Наверно, кто-то человеческого рода
на ужин цаплю или ворона отведал.
И дым клубится по-над выгоревшей нивой.
И скачут лошади, сбежавшие из Трои.
И где-то рядом, за Днестром или за Нилом
уходят в сумерки уставшие герои.
Им было облако и море – по колено.
Кутили заполночь, но заповеди чтили.
Все было б правильно, «когда бы не Елена».
Точнее – ворон. Вот его и не простили.
Бежали месяцы, как кровь бежит по венам.
Мы жили весело, того не зная сами,
что кто-то ворону однажды заповедал
кружить над площадью, усеянной глазами.
«Кругом песок…»
Дальний пригород. Ночь холодна.
Чьи-то тени на белой стене.
Словно здесь не земля, а луна
на обратной ее стороне.
Наизнанку развернутый свет.
Наизнанку развернутый звук.
Это снег. Это новый завет.
Это снова куда-то зовут.
Это манна засыпала двор
и дома, и мою колыбель.
Лишь у мусорной свалки, как вор,
озирается старый кобель.
Это снег. Это новый завет.
Это неба разодранный кров.
Из-под белого снега на снег
проступает ленивая кровь.
По дороге, под топот и лай,
где столбы из асфальта растут,
к заповедной земле, за Синай,
молодые собаки идут
то на Запад, а то – на Восток,
в ерихонские трубы трубя.
Я залаял бы, если бы смог,
да боюсь обнаружить себя.
«Запятые птицами упорхнут…»
Кругом песок.
И лица – как из гипса.
И неба расползающийся шелк.
Наверно, я не вышел из Египта.
А если вышел – так и не дошел
до купины, до истины, до света
и до обломков золотых тельцов.
И без меня святой Ковчег Завета
пылал на спинах новых мудрецов.
Они меня нарочно не пустили
на этот пир, закрывшись на засов.
И мне уже не выйти из пустыни
и не догнать отцов и праотцов.
И я пошел по зимникам, заимкам,
в краю, где мир сугробами зачат,
где в зимнем небе моментальным снимком
тоскует замороженный закат.
Кругом снега.
Замерзшие осины.
И схваченная инеем луна.
И мне уже не выйти из России,
пока в снегах не вспыхнет купина.
«Эта осень расставила все по местам…»
Запятые птицами упорхнут
с пожелтевших страниц, едва
полевая гроза просвистит, как кнут,
перемешивая слова.
Потому что в начале был звук в ночи,
а не слово, не жест, не мысль.
Жизнь рождалась, как яростный треск в печи,
из которой бежала мышь.
И останется только этот треск,
эта мышь из пещной норы.
Ну, а я, дорогая, всего лишь текст,
недописанный до поры.
А еще – собака. Я весь, как есть,
слышу все, чем живет навоз.
Оттого и страсть к перемене мест,
что бежит от тела, услышав весть,
непутевый собачий хвост.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей…
Осип Мандельштам
«На соседней террасе играли на скрипке…»
Эта осень расставила все по местам
и застыла на веки веков.
Потому что кончается век-Мандельштам
и является время волков.
Если все волкодавы сидят на цепи,
ожидая бесплатных костей,
я не чую дыханье сибирской степи
и не жду вороненых гостей.
Только месяц в распахнутом небе страны
золотыми ушами прядет.
Мы давно и настолько уже не нужны,
что за нами никто не придет.
Только бродит по улицам ветер-солист,
спотыкаясь на каждом углу.
И, похожий на сердце, изношенный лист
прилипает к ночному стеклу.
Триптих
На соседней террасе играли на скрипке,
крался месяц из тьмы, как застенчивый вор,
и незваные гости спешили к калитке,
но никак не могли просочиться во двор,
где шуршали под полом пугливые мыши,
где в углу, у колодца, скрипела бадья,
и в темнеющем небе был явственно слышен
на лету застывающий скрип бытия.
Я лежал на траве. Я был плотно укутан
в эту ватную ночь, как в чужое пальто.
И безглазое небо темнело, как купол
опустевшего шапито,
из которого зрителям в строгом порядке,
надлежало по шатким ступеням стекать
в подворотни, где детям, играющим в прятки,
никогда, никого, ни за что не сыскать.
Я пытался понять, что бывает с ноктюрном,
улетающим в ночь за пределы смычка
в переулки, где нищие рыщут по урнам,
и ревет по подъездам собачья тоска,
где циничное время гуляет по паркам,
где уже никого никуда не зовут,
где ребенком, на игры и сладости падким,
я пытался поймать исчезающий звук
и смеялся, и глухо давился зевотой,
убегал и кому-то дерзил сгоряча,
догадавшись, что сам был отыгранной нотой,
жалким звуком, упавшим из рук скрипача.
И дальнейшее было смешно и нелепо.
Но глядело из мрака, дразня и маня,
бесконечное, страшное, черное небо.
Ну чего тебе надо еще от меня?
1
А мне господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где – запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах,
под бесконечным ливнем октября,
по осени, по прошлогодней гнили,
мне черт – не черт,
Вергилий – не Вергилий,
а впереди – ни дна, ни фонаря,
ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.
Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисуя схему жизни на песке.
2
Зачем дорога, если нет конца
дороги?
Для чего в краю осиновом,
играя роли сына и отца,
не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,
ни мастером, ни глиною? Зачем
продрогшим псом под бесконечным ливнем,
изнемогая от житейских схем,
бежать стремглав за журавлиным клином?
Свободы нет!
Незримый поводырь
меняет вечность на часы и годы.
Но горизонт, изъеденный до дыр,
еще таит иллюзию свободы.
3
Как хочется на круге на шестом
или седьмом, когда иссякнет вера,
остановиться, возвратиться в дом
и в дураках оставить Люцифера.
Но нет уже ни дома, ни крыльца
в пространстве, где ни выхода, ни входа.
Как сладостна, как гибельна свобода,
лишенная начала и конца.
Ревет огонь. Изнемогает ночь.
И прямо посреди кипящей бездны,
выламываясь из привычных нот,
безумствует симфония победы.
Анна Трушкина
Стихотворения
Родилась в Иркутске в семье историка литературы Сибири, профессора В. П. Трушкина, окончила филологический факультет и аспирантуру Иркутского госуниверситета, защитила кандидатскую диссертацию в Литературном институте им. Горького по творчеству Георгия Иванова. Публиковалась в иркутской периодике, альманахе «Зеленая лампа», журналах «Грани», «Интер-поэзия», «Новая Юность», «Дружба народов», «Знамя». Живёт в Москве.
«В моей маленькой сумке всякая белиберда…»«черно-белый мир взгляд со стороны…»
В моей маленькой сумке всякая белиберда,
как то: помада, не оставляющая следа,
галчата с открытыми ртами,
телефон со случайными голосами,
салфетки, стирающие следы крови,
карандаш, красиво рисующий брови,
презервативы с истекшим сроком годности
как память об отсутствии гордости,
самоучитель итальянского языка,
до которого не дотягивается моя рука,
паспорт с фотографией какой-то тети,
пропуск в ад и другие документы по работе,
мазь от ушибов, капли от слез и боли,
ключи от рая и записка от брата Коли,
бетонные бусы, чугунные серьги, пластиковая камея…
Omnia mea в сумочке, omnia mea.
«Классики и современники вмерзают в лед в ноябре…»
черно-белый мир взгляд со стороны
в этот колорит хорошо вписываются вороны
с плеером что-то неладно повторы запрещены
на рандоме музыка, а в ушах стоны
жестко шарф кусает в ключицу
резко брызжет дождик респираторный
интернет пророчит всякое может случиться
светофор преграждает дорогу стоп-словом черный
ветер листья вывернул наизнанку платье срывает с липы
как просты желания его и как нелепы
расшвырял облачные простынки и осталось нагое небо
луна не ребус а скорее обычная репа
что же еще ты ищешь в такой глуши
посмотри вокруг это именно то чего ты хотела
как и ожидалось здесь не окажется ни души
ни души моей ни бедного моего тела
«Окружает со всех сторон, ставит флажки зима…»
Классики и современники вмерзают в лед в ноябре.
День переходит в день, и никто не гадает, когда умре.
Что затаилась, хваткая салтычиха-Москва?
Буквы, бутылки, сухие корки – твоя семиотика такова.
Поленова и Пелевина страдальческий симбиоз,
каждый своих тараканищ в подарок тебе привез.
Но как ни пытайся открыть захлопнувшийся гештальт,
будет утро, и закатают тебя в асфальт.
И будут чирикать, не помня беды свои,
над тобой пропавшие в городе воробьи.
«Разбираешь завалы…»
Окружает со всех сторон, ставит флажки зима.
Белым по белому мелкая пыль слепит.
А у меня в душе развеселая хохлома,
А у тебя покой, санскрит и самшит.
У меня под кожей маракасы и гондурас,
Карнавал в Бразилии и ритмы в тысячу герц.
Я смотрю кино, в котором все хорошо у нас,
Но я одна в кинотеатре на двести мест.
Полюса земли нам из центра ее не видны,
Можно чувствовать лишь, как расходятся берега.
Оттолкнет с одной, но притянет с другой стороны,
Пока снег летит, пока длится эта строка…
«Я перестала пить коньяк по утрам…»
Разбираешь завалы.
Убираешься, вытираешь пыль.
Вдруг с полки, откуда-то сверху,
падает книга, ударяет тебя по голове острым углом.
Открытая лежит на полу.
И ты видишь старую дарственную надпись:
«Дорогая моя дочурка, в день твоего восьмилетия дарю тебе эти сказки.
Будь умницей, я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.
Любящий тебя папа».
И ты сидишь, опустив руки, и думаешь:
– Прости, папа. Наверное, я не такая, как ты хотел. Но я еще постараюсь.
И потираешь шишку на лбу.
«Господи, протяни ладони…»
Я перестала пить коньяк по утрам.
Утро – тропик ясности и остроты,
Время лабиринты проходить,
Не гоняя демонов по углам.
В зеркале моргает непроявленное лицо,
манит новостей многостраничный кокон.
Старость моя в позавчерашнем яйце, так всмятку это яйцо.
Расступитесь, дайте дорогу моим порокам.
Я очень храбрая, я выхожу искать.
Полностью мир не спрятался, есть отдушина.
Падаю в неубранный снег, как в разобранную кровать.
Подведите мне веки и выпускайте на волю, в Тушино.
Троллейбуса вывихнутый сустав, дохромай меня до небес,
До голодного дна, проглотившего все мечтания.
Контролер, отстань, мелкий, пыльный бес.
Вот счастливый билет. Я купила его заранее.
«Ad memoriam…»
Господи, протяни ладони.
Дай угадаю, в которой из них январь.
До целого, Боже, до самого верха дополни,
молит каждая наивная тварь.
Холод огня и ветра. Пальцы, где ваша гибкость?
Где ваша нежность, люди? Где моя сложность, век?
В этом пространстве стужи нет ничего от птицы,
Нет ничего от зверя. Гулок пустой ковчег.
«Снег долго шел и вот пришел за…»
Ad memoriam
Из чего будет памятник?
Из просроченных проездных,
никогда не отвеченных писем, порванных вдрызг цепочек,
плачущих смайлов, бьющих поддых
самых любимых строчек,
из пепельниц, наполненных бывшими,
встреча за встречей пройденными до фильтра,
из ласковых слов, плывущих немыми рыбами
из глубины в пустоту квартиры.
Слезы, бьющие из-под земли, —
фонтаны райские до звездной тверди.
Но жизнь стоит этой боли и смерти,
а любовь стоит любви…
«как склоняется ветка в груди у весны, про весну, о, весна…»
Снег долго шел и вот пришел за
мной,
отправились вдвоем по перелескам.
Становится далеким и нерезким
все то, что причиняет эту боль.
Все то, что причиняет эту жизнь,
возьму с собой, скормлю голодным
птахам.
Слепит зима и заметает прахом
пути, ожоги, шрамы, небеса…
Едва заметный след от колеса
напоминает о спешащем мире.
Хрустит под сапогами сахарок,
и дерево, как палочка в пломбире,
само таит в себе свой спящий сок.
Какое странное название «лёд» —
и мёд, и гладкость скованной водицы.
Нельзя умыться и нельзя напиться,
стекла и совершенства ломкий гнёт.
Ладонь моя, замерзший воробей,
скажи спасибо теплому карману.
Я буду проще, выше и мудрей.
Снег перестал, а я не перестану.
«Играем на трех аккордах —…»
как склоняется ветка в груди у весны, про весну, о, весна!
в этом розовом чаде бессмысленном зуде
лицевая объявлена и перспектива ясна
так в метро попадаешься в сети
что твоя ариадна спустившая время с крючка
переходишь с изнаночной тени зрачка
распусти же себя наконец сдерни сон как перчатку
нервно стрелка дрожит хоть и сбит ориентир
тело-компас найдет полюса и отторгнет сетчатку
интуит интроверт пассажир
время кончилось – грубая пряжа
на рогах человека-быка
человека в метро
слепо мчащего по
кольцу до конца.
«Нищий март выставляет свои сугробы, баулы…»
Играем на трех аккордах —
Любовь, смерть, красота.
Жизнь моя, как волос, проста.
Проста и пуста.
Сердце – слепой птенец —
Выпадет из гнезда.
Что остается мне —
Труха, чернота…
Смертна любовь
И красота коротка,
Да и жизнь не длинней:
От глотка молока
До последнего молотка —
Три щелчка, два пинка.
«Девушка пишет записку на бересте…»
Нищий март выставляет свои сугробы, баулы,
Мерзлыми лужами волочет зимнюю депрессуху,
Прячет пыльную мешковину по закоулкам,
Тянет ко мне бесконечно длинную руку.
Мелко бьется зверёк о клетку грудную.
Что тебе еще отдать, март постылый?
Застегну пальто, подниму воротник – продует,
Все тепло ты вытянул из меня, все жилы.
Все ледышки, все камни с души собрал в свой карман дырявый.
Манишь меня куда? Куда я с тобой поеду?
Где хваленые ручейки, сосульки, забавы?
У меня мягкий смех молью подъеден.
Не смотри с укором, не расчесывай шрамы, уходи, не медли.
Чай остыл, окна просят, чтоб их помыли.
Не дыши перегаром зимним, уже последним,
Не проси сострадать тебе, мне уже не по силам.
«Внутренний голос звучит очень тихо – дзынь…»
Девушка пишет записку на бересте.
Новгород. Двенадцатый век.
«Приходи. Приплывай по большой
воде.
Ты прости, аще тон мой задел.
Почему ты покинул меня? Я тебе не
враг».
Строчку ветер прочтет, да
болотный ил,
перескажет лингвист Зализняк.
«А не люба тебе, и меня забыл,
Бог тебе судия».
Добро и Покой плывут, как река,
скрипит березовая кора.
Вокруг нестойкого огонька
века
вьются, как мошкара.
«Третий раз посылаю к тебе,
твой венок еще не завял», —
девушка пишет на бересте
и дублирует в Вайбер и Телеграм.
Он отвечает, как настоящий мужик:
«Будь в субботу во ржи».
Внутренний голос звучит очень тихо – дзынь!
Скинь
суетливые листья, кору, наскучивший плащ.
Волосы путает щебет птичий, невидимый миру плач.
Глупую пудру сотри, – продолжает работать шепот внутри
(он перешел на шепот, потому что мне уже сорок три).
Разлогинься уже, забудь пароль.
Двери открыты. Дыши. Вход и выход себе позволь.
Мелодия очень простая.
Скорее просто ритм.
Ах, лето жаркое, год быстро тает,
сюжет быстро тает, стекает мимо
пальцев. Ловишь губами слова и смайлы.
Читаешь нежность кожей, как текст Брайля.
Сквозь тонкие веки, века и ветки
слушаешь голос внутри. Он поет из клетки.
Грудной твоей золотой клетки.
Сергей Крюков
Жизнь-река
Родился в 1954 г. в Москве, где и проживает. Отец был разработчиком авиаприборов, мать – экономистом. Поэт, прозаик и переводчик, представлен в журналах «Поэзия» и «Проза» МГО СП РФ, «Московский вестник», «Дон», «Плавучий мост», «Перископ» и др. Автор трёх книг лирики. Редактор литературного журнала «Перископ». Один из основателей и арт-директор Клуба «Литературные зеркала» Торгового дома «Библио-Глобус» на Мясницкой.
«А жить бы век – в уединенье кротко…»Лазоревый ангел
А жить бы век – в уединенье кротко,
На берегу, вдали от суеты,
Где лишь одна двухвёсельная лодка
Вмещает все надежды и мечты, —
И стонущим заокоёмным летом,
Едва нагую трепетную высь
Лучи разбудят первородным светом,
Туманом над рекою вознестись…
…Где ты, мой ангел лазоревый?..
Елена Ковалёва, «Каргополь…»
Снегопад
Лазоревый ангел
В лазоревом небе парит.
Кто верит – увидит
И ясно заплачет навзрыд.
А кто-то смеясь отмахнётся
Небрежной рукой —
И облачко нежно
Сольётся с небесной рекой…
Лишь ясному – зренье,
Лишь верному – вера дана.
Моё поколенье…
Судьба его так холодна!
Кто знает, что стало б со мной
И с такими, как я,
Когда бы не ангел
Над бурной рекой бытия…
Когда-то всё сгинет —
И вновь возродится на свет.
Надменной гордыне
В веках оправдания нет.
Но благостен тот,
Кто безудержно плачет навзрыд,
Когда на лазури
Лазоревый ангел парит…
Дны
Кто-то с неба рассевает конфетти.
На лету их ловит мальчик лет пяти.
То припустится вдогонку во всю прыть,
То подпрыгнет, чтоб ладошками схватить… —
И забавней ничего на свете нет.
И не помня, сколько мне сегодня лет,
Я и сам бы с наслаждением пошёл —
Зиму-зимушку подёргать за подол.
Донья бывают лишь у вёдер,
кастрюль и бочек…
Сушь
У реки – два дна
Или больше дон.
Я нырял два дня
Или больше дён.
Я стоял на дне,
Баламутя ил, —
И навстречу мне
Холод бездны плыл.
Я достичь не мог
Нижних дон реки,
А на дне у ног
Били родники.
Так в терзании
Проходили дни —
В непознании
Оставались дны…
Души мечутся
В вечном поиске.
Человечество —
В душном поезде.
Тонет время-ртуть
В пролетевших днях.
Отыщу ли путь
В многослойных днах…
Кукушка
Год выдался безжалостным,
Преступным.
От засухи река почти мертва.
И, сделав заповедное доступным,
Сомкнулись с берегами острова.
Приподнялись береговые склоны,
Протоки обнажились, обмелев.
И ветер иссушает луг зелёный,
Пронзительно стеная нараспев.
Бесстрастно обращая землю в камень,
Лучи из глины черепки спекли.
И даже скорпионы с пауками
От солнца скрылись в трещинах земли…
И всё бы ничего. Пройти смогли бы
Мы по любому Божьему пути.
Но – ни зверью прибрежному, ни рыбе
Теперь от человека не уйти…
Бабочка
Скрылись из виду пушки,
Погрозив на плацу…
В День Победы кукушка
Заходилась в лесу.
Я не ждал и не чаял
В дальнем крике красот.
Но звучал, нескончаем,
Долгих лет пересчёт…
Замерев в миг полёта,
Запускалась опять,
Словно мирные годы
Принималась считать.
И в кукушечьем крике,
Гулко нижущем лес,
Потускневший Великий
День Отчизны – воскрес.
Водопад Гремячий
Четыре лепестка
И крошечное тельце —
Порхает у цветка
Творение умельца.
Но кто тебя создал?
По Божьей ли указке
Вдохнули в твой сандал
Души живые краски?..
Разгадка не близка.
Из тысячи вопросов
Найдёт ли у цветка
Загадочней философ!
В догадках сбился с ног,
Не ведая исхода…
А миром правит Бог
По имени —
Природа.
В холодной купели Гремячих источников
Вода, как в колодце, сиза.
В неё окунуться безудержно хочется.
По брёвнам сочится слеза.
Среди водопадов, свергающих кручею
Святую капель с высоты,
По Божьему замыслу – или по случаю? —
Цветут голубые цветы.
Неделю цветут – мимолётны и выспренни…
О, вспыхнувший разум, остынь! —
Затем ли на склоне – под быстрыми искрами
Пробилась небесная синь,
Чтоб ярко напомнить бродяге беспечному,
Нашедшему рай на скале,
Что в жизни его – даже самое вечное —
Не вечно на грешной земле?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.