Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
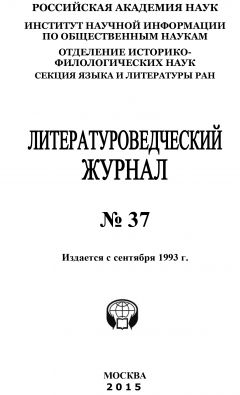
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Поэтому и источник этот называется – Беэр-лахай-рои, т.е. Источник Живого, видящего меня (ib., ст. 14).
Мы уже говорили о «худогласных законодательных устах» в противоположность «велеречивому Аарону», у которого нет своих слов. Вот связь чего с религиозным, религиозностью, с какою-то странною – и тогда не нуждающеюся ни в каких апологиях – тенденциею к религии не может никто отвергнуть. «Прииди и виждь». Самые порицания религии, самые злые на нее изветы, именно и открывают вход к действительному, более не риторическому, не номинальному присутствию того, чтó утвердить, хоть риторически, пытаются все апологии. «Он болен» – не называют имени болезни, гнушаясь – «и от этого религиозен»; самое чувство гнусности есть образ безотчетного затаивания, есть продолжение космического затаивания, о коем сказали мы, что им прикрывается все многозначительное. Почему больной раком – не религиозен? Чахоточный, диабетик – не молится усиленно? Но мы оставляем все это; мы не хотим доказывать; мы открываем только: «прииди и виждь», почти не добавляя даже: «размышляй», почти не желая размышлений. Вот «рана», в которую можно наконец «вложить персты». Пусть те, которые благочестиво относятся к предмету, удержат порицания, что мы начинаем с такого «худогласия» в бытии человеческом; ибо это временно, ибо тут уже бесспорное, открывшаяся «рана», через которую мы поведем в глубины, к чистотам, к святостям, которые прорежут всякую слепоту и приведут в ликующее движение парализованные ноги. Итак, мы перечтем вот эти отрывки; несколько отрывков, несколько требующих внимания штрихов:
…Однажды хозяйка дома нашла его (Гоголя) там в необыкновенном состоянии. Он держал в руке Чети-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда вошедшая А.О. Смирнова заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие такого-то святого (Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», XI, 520).
…………………………………………………………………
Гоголь в этот день молился в своем приходе, у Симона Столпника, где в то время священствовал Алексей Иванович Соколов, некий претопресвитер храма Христа Спасителя. В тот же день он посетил Аксаковых и они заметили, что Гоголь находится под впечатлением этой службы; мысли его были обращены к тому мiру. Он был светел, даже весел, говорил много и все об одном и том же. Он говорил, что надобно посоветовать Хомякову читать самому Псалтирь по своей жене [только что в это время скончавшейся], что это для него и для нее будет утешение, и что тогда только имеет смысл чтение Псалтыря по умершем, когда читают близкие; говорил о впечатлении смерти на людей, о том, возможно ли человека воспитать так с малых лет, чтобы он понимал значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала как будто нечаянность (ib., 531–532).
Теперь несколько слов человека, особенно важных потому, что человек этот недружелюбно посмотрел на «Переписку с друзьями», и вообще практически смотрел на всю последнюю фазу его жизни:
«Гоголь умер… Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мертвых душ», перешло в мученичество, может быть сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела… Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как например Смирнова. Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и который не видывал их до смерти собственных детей, я, постоянно до сих пор боявшийся несколько ночей после смерти каждого знакомого человека – не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением; и, не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал. Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени, и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал и еще в 1844 г., когда он прислал нам подарки309309
С.Т. Аксакову, Погодину и Шевыреву – книжки «Подражание Христу» Фомы Кемпейского.
[Закрыть], написав прежде такое письмо, что я ждал уже второго тома «Мертвых Душ»; я писал тогда к обоим этим Петровичам о своем отчаянии. Долго хлопотали надо мною эти умные… прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава Богу, не сбылось последнее; но зато он ничего не произвел нового и умер… Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей. Но едва ли это будет. Десять лет молчания. Шесть лет пропадания из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец похорон себя в известной книге310310
«Выбранные места из переписки с друзьями».
[Закрыть], ослабили общее участие. Бедный, бедный Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя? Прощайте, друзья мои. Крепко обнимаю и благословляю вас. Отец и друг С. Аксаков». Сбоку приписка: «только одним сыновьям» (т.е. не предназначается для прочтения посторонним). – Барсуков, ib., 541–543.
И, наконец, о его кончине – из письма Жуковского:
«Какое пустое место оставил в этом маленьком мiре мой добрый Гоголь!.. Настоящее его призвание было монашество… Его авторство, по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединялась с резкостью иронии, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорила его с самим собою… Гоголь, стоявший четыре дня на коленях, не вставая, не евши и не пивши, окруженный образами и говорящий кротко тем, которые о нем заботились: Оставьте меня, мне хорошо, – как это трогательно! Нет, тут я не вижу суеверия: это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу в последние минуты, я не знаю: но он молился, чтобы успокоить себя, как молились многие Святые Отцы нашей церкви; и конечно ему было в эти минуты хорошо, как он сам говорил; и путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. Оставьте меня, мне хорошо. Так никому нельзя осуждать по себе того, что другому хорошо по его свойству; и эта молитва на коленях, продолжавшаяся четверо суток, есть нечто вселяющее глубокое благоговение: так бы он умер, если б, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Теперь, конечно, душа его нашла все, чего искала» (ib., 546–547).
И, наконец, голос почти улицы, тревожный в эти же минуты, недоумевающий:
«Гоголь для меня совершенная загадка; видел его311311
То есть вот только что перед кончиною.
[Закрыть] в Москве совершенно здоровым и бодрым, а из прочитанных журнальных статей312312
То есть о кончине Гоголя.
[Закрыть] не видел даже, был ли он наконец болен. Попроси Олю, чтобы она позаботилась отыскать и прислать мне статьи Аксакова, Тургенева, Погодина и письмо Жуковского…» (письмо А.О. Росетт к сестре, в замужестве А.О. Смирновой (ib., с. 547).
Так умер человек, первые строчки которого были следующие:
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака; в поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожжит жаворонок, и серебряные тени летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки, или звонкий голос перепела313313
Если бы отыскать первоначальные рукописи Гоголя, можно предвидеть, что по ним оказалось бы, что все имена как «перепел», «чайка» (кроме, может быть, очень характерного «жаворонка») были вставлены потом, придуманы позднее; и первоначально Гоголю предносилась картина только воздушных токов, только взаимопроницающих звуков, ласкающихся, лобзающихся «под сладострастным куполом»… ну, пусть «океана». Вообще, об образах Гоголя можно заметить, что и все они, генетически, развились из центра к периферии, распустились как цветок из мочки; и нисколько не набраны, не собраны из своих подробностей, там и здесь подмеченных (Тургенев).
[Закрыть] отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которым только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешень, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах… Как полно сладострастия314314
Если бы произвести лексическое исследование, можно бы убедиться, что ранее Гоголя, два раза употребившего это слово в первом, им написанном абзасе, оно вообще не было почти употребительно в нашей литературе; т.е. не было почувствовано – оно и его понятие. Мы не помним этого слова у Пушкина, даже в «Египетских ночах»; чрезвычайную употребительность оно получает у Достоевского. «Страдание» и «сладострастие» у него неразделимы и постоянны; т.е. в лексическом составе его языка.
[Закрыть] и неги малороссийское лето. («Сорóчинская ярмарка», начало).
Когда появились эти строки, все дивясь, чаруясь, подпадая им, не почувствовали, что это совершенно новый язык в нашей литературе, которым никто не смел бы, не умел бы написать страницы. Как ясно видно из слов «подоблачные дубы», «удары лучей», «зажигают массы листьев», «накидывая темную как ночь тень», «изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых», «снопы хлеба кочуют по неизмеримости поля» – автор их не только не имел в виду малороссийского летнего дня, но и никакого определенного: это – фата-моргана его воображения, но столь блистательно-великолепная, что около живого дня, вот положим 27 июня 1844 г. около Глухова, она стоит как равная, ничем ей не уступая и даже, может быть (по крайней мере, по нашему мнению) превосходя ее. Все ново в этой фата-моргане, и главное – нов человек, дух его. В подчеркнутых словах мы ясно читаем сладострастие, но какое-то эфирно-тонкое и гораздо глубже проницающее, равно как и текущее из какого-то более глубокого источника, нежели чувственность грубых слов, фигур и той грязи, которая так обыкновенна в обыкновенной литературе:
Чтобы тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
………………………………….
О, нет…
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.
– эти слова Лермонтова, также многозначительные, также требующие к себе внимания, удивительно выражают дух страницы, по-видимому невинно описывающей малороссийский день и в действительности не имеющей к нему никакого отношения315315
Скелет или, точнее, эмбрион, первичный очерк этой картины, «томительно-долго» «дрожжавший» в глуби воображения Гоголя, был собственно следующий: «Как упоителен, как роскошен… Как томительно-жарки часы… в тишине и зное… Неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в… объятиях своих. На нем ни…; в… ни речи. Все как будто умерло; …только в… глубине дрожжит… и серебряные тени летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, …изредка крик… или звонкий голос… отдается… Лениво и бездумно, будто… без цели, стоят… ослепительные лучи… зажигают…, накидывая… темную, как ночь, тень, по которой… прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты …сыплются над пестрыми… осеняя статными… Располагаются… по неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести… широкие… Небо… зеркало… Река в… гордо поднятых рамах… Как полно [все] сладострастия и неги…» Позднее, – и, кто знает, может быть годами позднее – начав «Сорόчинскую ярмарку» он случайно и без всякой связи с последующим, без всякой для него необходимости, взял этот абстрактно-дивный, космически-чувственный образ, и вставил в него «землю», «небо», «перепела», «дубы», «скирды», «снопы» и пр., чтó все совершенно не лепится собственно к образу и опадает с него как маленькие восковые фигурки сосен или белых медведей, как бы чья-нибудь капризная рука бросила их на раскаленный песок Ливийской пустыни. – Это, собственно, как и все творчество Гоголя – платонизм воображения, в поле которого разбросаны реальные словечки («пришлите мне что-нибудь, какой-нибудь анекдот, описание костюма – из быта, из нравов»). Он молил извне «словечек», сам неустанно создавая, невольно создавая лишь пустынные и плоские равнины, «жаждущие напоения», платонизма».
[Закрыть].
…голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих…
как это напоминает древнюю-древнюю песнь, читаемую – это замечательно, это опять требует внимания – в самый радостный день (Пасху) религиознейшим на земле народом:
«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.
От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мυро, поэтому девицы любят тебя.
Влеки меня, мы побежим за тобою; – царь ввел меня в чертоги свои, – будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!
Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.
Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного виноградника я не стерегла.
Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад твоих?» (Песнь песней, I, ст. 1–6).
Нам хочется теперь вставить выпущенные было строки из Лермонтова:
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток…
В неясности образа, здесь и несколько выше, в образе, с которым мы этот сравниваем, и заключено то безмолвие, «ни речи…», то «худогласие» чувства, где «необузданным потоком» увлекая, оно не объясняет, не обосновывает себя; чуждо сознания о себе, и в другом этого сознания не хочет. Самый сгиб речи, здесь и там – один; в сущности – один образ. Даже «солнце опалило меня…», «удары солнечных лучей зажигают»… Эта маленькая подробность, в оба отрывка замешавшаяся, сплетает, сливает их…
И вот мы в центре глубоких и странных тайн. Гоголь весь сжался после первого же отрывка, нечаянно вырвавшегося и никем в смысле своем незамеченном, – и, как свидетельствуют все, знавшие его, душа его осталась непроницаема316316
С.Т. Аксаков, в обширных своих «Воспоминаниях» (см.: «Сочинения»), не раз говорит, что никто из самых близких людей, долгие годы знавших Гоголя, не имел ключа к разгадке его души; что Гоголь был совершенно и для всех непонятен.
[Закрыть] для самых близких людей. Только в языке его созданий, в структуре художества, мы чувствуем, до чего закон его, сказавшийся в первом же отрывке, сохранился всегда, сохранился до последних дней317317
Уленька – во 2-й части «Мертвых Душ», тождественная в законе своего создания с Аннунциатой «Рима» и с Акакием Акакиевичем «Шинели» – есть тот же абстрактный «упоительный, роскошный день Малороссии». Только «имя» взято из русских Святцев, как «Аннунциаты» – из католических.
[Закрыть]; воспоминания318318
Особенно Вельегорского (в «Русском Архиве»), из самого последнего времени жизни Гоголя, показывающие, как первичная чувственность стала наконец переходить в низменную чувственность фигур и слов.
[Закрыть] свидетельствуют, что и весь он сохранился… Теперь, если в целом мы окинем его фигуру и жизнь, окинем под углом некоторого космического вопроса, мы увидим, что медленно, без перемены в этот день и в этот год, та фата-моргана свежего и светского, легкомысленного и самонадеянного молодого человека, какую он дал нам увидеть первым ударом своей кисти, как-то углубляясь, темнея, проницаясь лиризмом, как-то неуловимо меняя свои краски и поющие в ней звуки, преображается в «купол» же, пожалуй, но уже вечного храма Божия, и под ним мы находим уже не того Гоголя, который приехал, в 30-х годах, в Петербург, но – подвижника, чудный гений которого, погаснув для смеха, лился молитвою, неудержимою, пламенною. Если, пытливо сомневаясь, мы стали бы всматриваться так сказать в состав костей его, в нервы, мускулы – мы ответили бы: да, это он же; и самый грех в нем не умер; но, чудно: из него, от этого самого корня бежит неудержимый и подлинный свет, свет удивительной душевной тишины и радости, свет подвига для ближнего, служения ему… Какое-то странное вѝдение Бога; Его ощущение – в изможденных костях, до того боящихся холода, что, кажется, только солнце Италии еще умело согревать их319319
Письмо его, от 15 сентября 1857 г., к А.С. Стурдзе: «…Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины есть еще в ней что-то ближе родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровье, сколько о том, что в это время бываю неспособен к работе. Последняя зима в Москве у меня почти пропала даром… Обыкновенно работается у меня там, где есть не натопленное тепло… без него у меня голова не свежа и не годится к делу. Но верю, что Бог властен сделать все и Его милосердию нет границ: можно и под суровым воздухом Черного моря, в самой Одессе, все еще холодной для меня, найти свежее расположение духа – и тогда, разумеется, я ни за что не выеду за границу. С радостью проведу несколько месяцев с вами» (Барсуков, XI, с. 516–517).
[Закрыть]…
И вот, этот свет, изнутри исходящий, преодолевает всякое внутреннее сомнение. Мы снова вспоминаем «апологии», так обильно и бесплодно написанные: можно ли представить себе Гоголя, читающего для удостоверения в бытии Божием – «Бог в природе» Ульрици; для оживления веры – красноречивые труды Фаррара; или, для неколебания веры – воздерживающегося от чтения Штрауса. Бог ему открыт – это мы ясно чувствуем; он Его ощущает – с твердостью дня, свет которого видит, в лучи которого выставляет холодеющие руки. «Апологии»… – это все – в «том» мiре, «лжеименного разума», который доказывает себе и себе не верит, и с которым, собственно, нет даже средств общения у этого иного и нового мiра, который ему медленно, десятилетиями открывался. «Совершенно очевидно было, что ему нет никакого и ни до кого дела» (свидетельство С.Т. Аксакова); мост общения, средства соприкасания душевного были разрушены; и все, что он мог, без этих средств, сделать для человека, так страстно (см. «Переписка с друз.»), нежно, так «свято» (свидетельство того же С.Т. Аксакова) им любимого – это опубликовать документы своей частной жизни («Выбранные места etc.»), показать, так сказать, реликвии, среди которых он молится, вериги, которые он носит (авторская исповедь и завещание), несколько раньше – переслать по почте томики «О подражании Христу». Слова, слова… но тайна услышанной им, где-то в недрах существа своего, апологии – он ее не раскрыл, бесспорно – дивясь, чудясь, смущаясь320320
Не от этого ли, т.е. от какой-то недосказанности, и притом о главном, колорит все-таки притворства, фальши, лицемерия, который лежит на всех его последующих трудах и не без причины всеми (и С.Т. Аксаковым) был почувствован: как ни правдивы, и точно преднамеренно сгущены, ограничены, прерваны молчанием эти его слова, где, конечно, он «горе имел сердце…»
[Закрыть].
Те – до известной степени – мистические сосцы, от которых напояет великий человек народы, и народы, чуя под ними духовное молоко, ищут их, припадают к ним, в противоположность Пушкину мы находим у Гоголя. Удивительно, несмотря на необозримое богатство и красоту Пушкина перед Гоголем, ни потомство, ни современники не припадали к нему, всегда и любовались им только как художником; Пушкин заканчивает, но ничего не начинает; он весь обращен к прошлому, и ни одним утренним лучем – к будущему; это – вечер литературного (пожалуй – и вообще жизненного) движения, от Петра и до него; осень, прекраснейшая чем лето, полная душистых плодов, хлеба, осыпающихся зерен, но без весеннего цвета, без плодотворной несущейся по ветру пыльцы и тайн завязи и рождения, которые из нее следуют.
…Еще надеясь жить, готовясь умереть
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком
Под черным куколем с Распятием в руках
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа,
И что подлунный мiр не стоит ни гроша.
С ним бледный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джульетой занимался.
Отшельница вошла: мир вам! Etc. (Анджело).
Это – душистая груша-«бессемянка», соком которой упивается наш рот, но когда вкусовое ощущение прошло, нам остается только надписать: «съедена такого-то числа»321321
Гоголь есть до известной степени феномен всемiрной истории: изумительно, до чего мы можем у него отыскать формулы всякого отрицания, относящегося к тому мiру, который для него умер.
[Закрыть]; тут – мы перечитываем стихотворение еще раз – именно нет «купола сладострастно согнувшегося над землей и сжимающего прекрасную в воздушных объятиях своих», после чего земля, конечно, понесет плод:
«Плетнев в общем не любил Гоголя. Он говорил о нем: «Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самонадеянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприятную тень на его характер». Однако Переписка, эта «высочайшая книга нравственности», по выражению Плетнева, заставила его безусловно преклониться перед Гоголем. – «Начнем-ка, – пишет он Як. Гроту, – мы с тобой литературу новую, живую, насущно-необходимую, истинную, по образу и подобию той, что я усматриваю в письмах Гоголя. Это не искусство, а ощущения. Помнишь того шведа, что любил сочинять письма? То был умный сочинитель, а Гоголь – трепетный жилец, вопиющий не о законах изящества, а о том, что благо, душеспасительно и неизбежно, да вопиющий не оратором, а как велел Христос поучать земнородных. Да, я чувствую, что с этой книги в Европе станут вести летоисчисление появления в мiре русской литературы. До сих пор мы бродили около жизни, а он в нее врезался» («Переписка Як.К. Грота», Сб. 96 г.).
Вот «земля, понесшая плод в нее вложенный» и совершенно противоположный тому, какова ее собственная природа; пожалуй – «груша-бессемянка», в которую через длинный яйцевод опущено зернышко ей непонятной и чуждой жизни каким-то насекомым, после чего в себе она гибнет, а к концу лета из нее вылетает крылатое существо… Замечательны слова «земнородный», «по образу и подобию»: это после
А в сердце милою Джульетой занимался
есть, конечно, «vita nuova»322322
«новая жизнь» (ит.).
[Закрыть] в оплодотворенной женщине, которая не помнит ни дня, ни ночи, с которых она «понесла» и стала говорить новым, ей самой непонятным, языком.
Узкоуродливый Гоголь, Гоголь как художник, не сумевший нарисовать ни одной женской фигуры и, чтó хуже и примечательнее, нарисовавший такие искаженно-передернутые óбразы, как «Уленька» (пожалуй, и «Аннунциата») и, кажется, в лучших и ясных своих созданиях не сказавший человеку ничего, кроме горького издевательства, имеет около сосца своего тысячи тех самых ртов, которыми он так, по-видимому, пренебрег; и обильно льющееся, какое-то неиссякающее молоко мы все и желая и не желая пьем; отраву или нектар – равно пьем. Его «Переписка с друзьями», говорят – «безумие»; но почему же о всем Пушкине так не спорят, как об этом «безумии»? Чтó есть в ней – но, очевидно, есть, даже для отвергающих – интересного и многозначительно? Во всяком случае, в противоположность подсыхающему323323
С этим связана его чистота, то изумительное целомудрие мысли и фантазии, несмотря на игривость «Руслана и Людмилы», «Графа Нулина» etc. Чистота бедности, мы скажем, т.е. имея в виду грязь весны. Игра с семинаристом «прекрасной Солохи» («Ночь перед Рождеством») в ужимках своих, конечно, многозначительнее, и потребовала более грязного воображения, нежели напр. страдания Черномора около Людмилы, которые, в своем роде –
А в сердце милою Джульетой занимался, как и все однородное у Пушкина.
[Закрыть] Пушкину, это – мутно-мощная весна, с семенами несущимися в грязи бурных потоков, с оплодотворяющей пыльцею в воздухе; и, как мы окончательно формулируем свою мысль – сосец «юродивого», который вечно в странствованиях, не умеет прокормить себя, вечно помещается у кого-то, и «на время», то «в антресолях» Погодинского дома, то в «Абрамцево» у Аксаковых и, в сущности, всегда маясь не на свои деньги:
Завет Предвечного храня
Мне тварь послушна там земная
И звезды слушают меня
Лучами радостно играя
Не это ли Гоголь, которому «как очевидно было для всех – ни до кого не было никакого дела».
И вот – в пустыне я живу
Как птицы – даром Божьей пищи.
Относительно же научения, опять какое сходство:
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока
и о периоде «Переписки с друзьями» –
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья
И тоже внешняя судьба именно в этот период «любви», «Уленьки» и «Костанджогло»:
– ближние мои
Бросали бешено каменья.
Фигура русского литератора вся входит, не оставляя пустот, не оставаясь какою-либо частью своею и вне, в художественный образ, который, однако, начертан был с предносившегося мысли ветхозаветного пророка: и, что для нас особенно значительно, был начертан ранее, чем выявился и прошел свой жизненный путь Гоголь.
XXII«Божий человек», «юродивый», «себя прокормить не умеет, а людей поит» и как не зрячее облако над пустынею вело Израиль – ведет народ свой к каким-то нужным точкам впереди, и все за ним следуют, хотя и знают хорошо, что оно «видит» менее, чем каждый из «следующих»… Зрение не по земным способам, не земных точек и, собственно, каким-то неземным взглядом. Мы его, обертываясь, находим еще у двух – Толстого, Достоевского.
«26 января он был, по-видимому, совершенно здоров, но хотел поздороваться с докторами на счет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Точнее привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Якова Богдановича фон-Бетцеля. Уже при нем, часа через 1½ после первого кровотечения, произошло второе, более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника, он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше.
Весь день 27 января кровотечение не повторялось и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник Писателя» вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты.
28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять полила кровь и Федор Михайлович очень ослабел.
В это время к нему заехал А.Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.
Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А.Н. Майков уехал домой обедать.
Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и стать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было: Матф. гл. III, ст. II: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь – «не удерживай», – «значит я умру», и закрыл книгу. Предчувствие вскоре оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде» (Биогр. и письма, изд. 82 г., I, с. 323–324).
Не правда ли, это смерть, которою не сумел бы, и, может быть, не захотел бы умереть Тургенев, Гончаров, Писемский. Совершенно не этою, совершенно иной смертью, хоть полной героизма и великодушия, но земного, но только человеческого, умирал прекрасный Пушкин324324
Господствующий колорит в смерти Пушкина, наиболее остающийся в памяти, это – забота, чтобы жена не услыхала его стонов и не забеспокоилась.
[Закрыть]. Луч с неба, как мы его отвергнем здесь, в совершенном и исключительном колорите этой кончины, и, да позволено будет выразиться – в музыке этой кончины, в тайной, не слышимой и не зримой, мелодии…
«А Евангелие передайте Феде»; «ты слышала: не удерживай – значит я умру». Материнство какое-то; какое-то «касание мiров иных» сплелось в этих двух его последних полупрощальных ли с землею, полуобращенных ли к небу, фразах. Кстати, – о «мiрах иных»:
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное и сокровенное ощущение связи нашей с мiром иным, горним и высшим; да и корни мыслей наших и чувств не здесь, а в иных мiрах. Вот почему сущности вещей на земле постичь нельзя. Бог взял семена325325
В самых способах сравнения в образах сравнивания и параллелизма – какое материнство.
[Закрыть] из мiров иных и посеял на сей земле и взростил сад326326
То есть опять представление о земле, об истории, человечестве вовсе не в форме сухих хлопот, но скорее «травы сеющей семя свое по роду ее» (Бытие, 2).
[Закрыть] Свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством сопрокосновения своего таинственным мiрам иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взрощенное в тебе; тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее» («Бр. Карамаз.», изд. 82 г., с. 357).
Едва потеряв жену, он женится вторично, сейчас почти, без промедления; это какой-то израильтянин в нашей литературе, который как Иов мог бы повторить о себе, если бы кажется был также поражен проказой:
«Дыхание мое опротивело жене моей и я вынужден умолять ее ради детей чрева моего» (20, ст. 17).
В его кончине, которая по спокойствию327327
Гоголь почти не принимал пищи в течение 1½ – 2 недель перед смертью, и хотя, конечно, дико и неверно сказать, что «уморил себя», но в жажде отойти к Богу допустил вмешаться преднамерению и рассуждению.
[Закрыть] своему неизмеримо выше кончины Гоголя, есть опять чисто израильская безбоязненность смерти: «Бог дал, Бог взял – да будет благословенно имя Господне» (Иов, I, ст. 21). И какая радость несения жизни: «живуч как кошка»; но мы приведем полнее:
«О, друг мой, я охотно бы пошел в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять спокойным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т.е. из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из-за детей задавила и съела меня.
И все-таки для начала мне нужно теперь 3 тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, – иначе погибну! Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок – один, прежних и прежнего, сорокалетнего нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть» (письмо к А.Е. Вронченко, см. «Биогр. и письма», отд. I, с. 282).
Не правда ли, это какой-то жидок из Вильны, который, перебиваясь с хлеба на воду и обсеменяя жену, кричит: «есмь и буду». Общее эта неиссякаемая жажда бытия, и опять бесспорно по внутреннему самоощущению, вылилась в знаменитом восклицании Митеньки Карамазова, т.е. вложенная ему в уста:
«В корче мучусь – но есмь, в тысяче мук – но есмь»
– далекий, едва через туман тысячелетий распознаваемый отзвук дивного и непостижимого в простоте своей, а также без сомнения и в своей глубине самоопределения Божия:
«Аз есмь Сый…»
которое, конечно, должно отразиться сходным же самоощущением и в том, кто «по образу, по подобию»328328
Сюда примыкают и этою аналогией разъясняются, оправдываются все соображения Ив. Карамазова о том, что «нужно жизнь полюбить раньше, чем смысл ее»… «это непременно»; о «клейких листочках»; о «чисто карамазовской безудержности бытия», и пр. Вообще «Карамазовы» если, с одной стороны, представляют некоторую причину нашей расшатанной действительности, то, при другой точке зрения на них и, может быть, более истинной они представляют выражение глубочайших мистических идей Достоевского о бытии, о корне бытия и жизни на земле.
[Закрыть]. Творчество Достоевского, опять как не похоже оно на осторожные создания Гончарова, Тургенева:
«Вот утроба моя, как вино неоткрытое: она готова прорваться подобно новым мехам;
поговорю – и будет легче мне, открою уста мои – и отвечу» (Иов, 32, ст. 19–20)
– эти слова Елиуя, приготовляющегося возражать трем друзьям страдальца, удивительно выражают собственно всего Достоевского.
«Я полон речами, и дух во мне теснит меня.
На лице человека смотреть не буду и ни какому человеку льстить не стану» (ib., ст. 18 и 21).
Все родовое, родственное, родовитое сильно и как-то цепко в нем: без всякой личной необходимости он принимает на себя огромный долг брата, чтобы только не легло на его память сомнительное пятно; заботится, и горячо, внимательно, о пасынке; и, бежав за границу от долга, живет здесь уединенно с женою, и, вместо того чтобы искать здесь литературных знакомств, делит время между рулеткою, обещающею разом снять с него многогодовую петлю долга, и колясочкою первого родившегося у него ребенка – девочки; потеряв его что-то на 11-м месяце жизни, через несколько лет поменяет маршрут заграничного путешествия, чтобы заехать в Женеву, и посетить там могилку его. В «Дневнике писателя», мешаясь в текущие судебные процессы, он вступается или за женщин, или за истязуемых детей. Начало детское, начало женственное, и, в последнем анализе, то, что мы выше назвали coit’альным чувством к мiру, выражено в нем бурно и страстно:
«Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что Петербургскому его научить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте» («Бр. Кар.», II, 468, изд. 82 г.).
Это – совершенно новая квалификация человека, новое мерило его мудрости и глубины суждения (о купце с медалью, в составе присяжных, которые будут судить Карамазова).
Отсутствие женских фигур есть глубоко родственная черта у Достоевского с Гоголем; женщины у него мелькают среди огромной толпы богато разработанных мужских фигур; и, замечательно, среди продолжительных монологов этих последних или исполненных многозначительности диалогов, оне или молчаливы, или бессмысленны и, во всяком случае, краткословны:
Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его (Митю) и всю жизнь на тебя молиться буду («Бр. Кар.», II, 482).
Так говорит «Грушенька», эта финикиянка, перебегающая между молитвою, терзанием и всегда несущая у себя на хребте самца – типичнейшее из созданий Достоевского, вдруг вырезавшееся среди бледно-зеленых ундин нашей литературы, как Лиза Калитина, и все бесчисленные «Катерины», «Веры», «Елены» Тургенева и Гончарова:
«Смугла я, солнце опалило меня… Виноградника своего я не устерегла.
……………………………………………………………………………….
Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.
Мирровый пучек – возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает» (Песнь песней, I, 5, 8, 11, 12).
Все ранее им созданные женские образы не имеют ничего индивидуально разнородного с этим, и суть только его эмбрионы; даже походка, темп речи – у всех один: Дуни («Преступл. и наказ.»), Настасьи Филипповны и Аглаи («Идиот»), Лизы («Бесы»), Нелли («Униж. и оскорбл.»):
«В комнату внезапно, хоть и совсем тихо, вошла Грушенька; никто ее не ожидал» (ib., II, 482).
Она вся полна затаивания, и вместе – порывистости, отчего поступки ее сплетают узор неожиданного:
«Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него.
Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.
Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало… Я искала его и не находила; звала, и он не отзывался мне» (Песн. песн., V, 4–6).
Она вся в легенде о «луковке спасения», которую рассказывает Алеше; олицетворение сладострастия329329
Без всякой похотливости, конечно, которая есть след sexual’ной слабости (Федор Павлович; «мы все Федоры Павловичи» – «Записная книжка» Д-ского), и в свою очередь она ведет за собою холодность темперамента, остывшую кровь.
[Закрыть], как высшей настороженности sexual’ного внимания к мiру, как тяготения обнявшего и покорившего ее всю, без свободы для спокойного поступка, для обдуманного решения:
«Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду просить милостыни» (ib., II, 40).
Это, даже по внешности жестов, какая-то сидонянка, что-то из финикийского Тира, о котором несколько расходясь с привычными для нас понятиями, сказал некогда подлинный человек Божий:
«И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! Плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.
Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней…
Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего» (Иезекииль, 28, ст. 13–14).
Конечно, это могло быть отнесено только к духу этих, к духу аналогичных, подобных слов:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































