Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
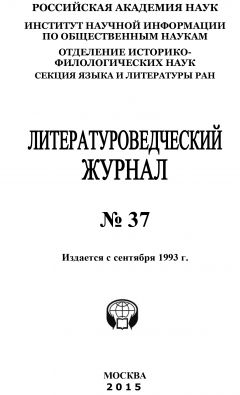
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
«Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул… Пожалел он меня первый, единый… Зачем ты, херувим, не приходил прежде… Я всю жизнь такого, как ты, ждала; знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верно, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам» (ib., II, 40).
Отчего и в Песни песней сплетаются два эти определения:
«Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя» (I, 8).
И –
«единственная – она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей» (VI, 9).
И еще, пожалуй, как дополнение, как объяснение этих определений:
«Половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими» (VI, 7).
Гранатовое яблоко, вследствие чрезвычайного обилия в нем зерен, было символом в древнем Востоке рождения, плодоношения; стих хочет сказать, что даже и то, что никакого отношения, казалось бы, к рождению не может иметь, у «единственной», «отличенной» у «матери» как бы насыщено рождением, или, как уже чудно было сказано:
С рук моих капала мирра, с пальцев моих мирра капала…
Или, как в неприведенном еще стихе:
Сосцы у меня как башни: буду в глазах его как достигшая полноты (Песнь песней, VII, 10).
Заметим, что «Грушенька» есть первая и единственная женская фигура, которая хочет (потому что роман не кончен и даже, собственно, он только начат) играть какую-то роль, которая не подает только немые реплики мужским фигурам, но, оставаясь затаенною, немою, – входит в толпу их как мощное я, как властительный темперамент, который соотносится со всеми Карамазовыми и, собственно, соотносится с «карамазовщиною», есть необходимое ее дополнение, без коего она «не достигла бы полноты». Таинственное, мистическое движение, которое проходит по роману и мы его ясно чувствуем, в сущности есть coit’альные сопрягания этих двух, определенно мужского и определенно женского, начал; и идея Карамазов в точности обнимает полноту жизни, чем и объясняется эпиграф, взятый к ним, и который, чуть-чуть перефразировав в форме, мы могли бы прочесть так: «Истинно, истинно говорю вам: пшеничное зерно, если бы оно не пало в землю и не умерло, осталось бы одно; а павши и умерев – приносит многий плод».
Травку выманила к свету
В солнце хаос развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила.
Вот идея Карамазовых, в этом гимне Церере, который читает Митя, и который сольется с «гимном из-под земли» Богу (II, 293), о котором он же уже заговаривает, его идею постигая.
Чтоб из низости душою
Мог подняться человек
С древней матерью землею
Он вступил в союз навек.
Это – то же, чтό и в эпиграфе; та мысль и почти те же слова.
Душу Божьего творенья
Радость вечная почти
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит.
…………………………..
У груди благой природы
Все чтό дышет – радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастьи
Гроздий сок, венки Харит
Насекомым – сладострастье…
Ангел – Богу предстоит.
См. Карамазовы, I, с. 122–123. Достоевский, в замыслах этого романа, в самом деле хотел сорвать покров с тайны жизни, успев только поднять руку; может быть, случайно-загадочно-роковая смерть постигла его, прервав эту именно работу, потому что, прильнув лицом к таинственному покрову, он все-таки не окончательно рассмотрел черты скрытого под ним. «Не убо прииде час…»
XXIIIПервая же значительная, им выведенная, мужская фигура как бы раздвояется в лице своем: это близнецы Раскольников и Свидригайлов. Вполне замечательно, что и все его последующие фигуры, насколько оне не были бытовою рисовкою, а идейным выражением художника, представляют развитие этого двулицего образа, но с различною судьбою: лицо, выраженное в Раскольникове, это лицо мысли, теоретизма – суживается, беднеет, сохнет; роль его переходит к Петрам Верховенским («Бесы»), по существу тем же занятым, чем был и он занят; и, наконец, в «Братьях Карамазовых» оно смарщивается в вечно рассуждающую фигуру Смердякова, с его «контроверзами»:
«Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды – на четвертый: откуда же свет-то сиял в первый день?» (I, 141).
Вот в какую карикатуру могучий и действительно несколько злобный гений сжал некогда любимый свой образ. В подробностях этой фигуры мы собственно наблюдаем все черты Раскольникова, но только подвергнувшиеся какому-то обратному развитию, дегенерации:
Надменен был и, как будто, всех презирал… Рос мальчиком диким и смотря на свет из угла… Все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности… Женский пол так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно… Иногда в доме же, или хоть на двери, на улице случалось останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут; физиономист, вглядевшись в него, сказал бы, что тут нет ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. Есть одна картина, у Крамского, под названием Созерцатель: изображен лес зимою, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужиченко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем это он стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги и он наверное их копит, неприметно и даже не сознавая – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может быть, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может и село родное вдруг спалит, а может быть случится и то и другое вместе. Вот одним из таких созерцателей был и Смердяков… («Бр. Кар.», I, 141–144), –
это – Раскольников, в его мотивах развития, с его характером, вопросами, но только состаревшийся до эмбриона. «Из банной мокроты зародился», характеризует Григорий своего приемыша; и чуть-чуть ведь если не из «мокроты» и уж конечно не «банной», а из чудной морской пены, то однако по этому же закону и все-таки не из семени женского зародился и Раскольников, с его также «контроверзами», очень напоминающими в существе дела дилемму о том, был ли и мог ли быть очень грешен в отречении от Христа и крещения тот русский солдат, у которого этого требовали захватившие его в плен азиаты под угрозою содрать с живого кожу («Бр. Кар.», I, 145–150). – Напротив, второе лицо, «худогласное», той же фигуры, Свидригайлов не только не исчезает, не сходит на тень, но ширится, раздвигается; речи его, почти как речи женщин Достоевского короткие и афористические в «Преступлении и наказании», распутны, увиваются обилием, и в «Братьях Карамазовых», в знаменитой «Легенде о Великом Инквизиторе», мы в сущности слушаем вовсе не целомудренного, не познавшего женщины Раскольникова, но раскрывшегося во всю глубину свою, во всех своих зияниях, тогда еще чуть-чуть брезжавших (т.е. в «Прест. и наказ.»), Свидригайлова:
Из всех трех братцев вы именно на папашу больше всего походите. Красоту женскую очень любите; деньги тоже любите, чтобы комфорт и покой…
– говорит перед смертью Смердяков Ивану Карамазову; или, как полнее он себя определяет:
Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, – а я все-таки захочу жить и уже как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю (I, 258).
Конечно, это Свидригайлов, как Смердяков, конечно, есть Раскольников; самое понятие «карамазовщины», могуче введенное Достоевским в литературу нашу есть в сущности понятие «свидригайловщины», членораздельно о себе заговорившее:
Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду… не знаю куда.
Мы припоминаем, при первом же свидании с «Родей», приведшее последнего в трепет рассеянно-задумчивое замечание Свидригайлова о «том свете», что «там наверно пауки, и ничего больше…».
Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, – всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мiре такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, т.е. опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки – моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе (Алеше Кар.) она тоже непременно сидит, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь первые свои молодые силы любишь… Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? Засмеялся вдруг Иван.
– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, – прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда я только и смысл пойму. Вот что мне уже давно мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине и ты спасен.
– Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть! А в чем она вторая твоя половина?
– В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.
– Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие professions de foi330330
Символ веры (фр.).
[Закрыть] вот от таких… послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?– Правда. Мой старец меня в мiр посылает.
– Увидимся еще, стало быть, в мiру-то, встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне… хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом… Но до семидесяти подло, лучше до тридцати (I, 258–260).
Так говорит эта Тирская Ашера в современных нам панталонах; «живуч как кошка» – припоминаем мы; «в корчах мучусь, но есмь»; «и не будут тебе бози инии разви Мене». Но как Тебе имя, Господи, если о нем у меня спросят
«Аз есмь Сый…».
Припоминаем зерна Цереры:
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит
и «половинки гранатного яблока» Песни песней – помним и их. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно падши в землю не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
XXIV– Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, Карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось в свою карьеру, избивая целые семейства в домах, в которые забирался по ночам для грабежа, зарезать заодно несколько детей. Но сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить к нему под окно и тот очень сдружился с ним… Ты не знаешь, для чего это я все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит и мне грустно.
– Ты говоришь с странным видом, с беспокойством, – ответил Алексей: точно ты в каком безумии… («Бр. Кар.», I, 264).
Этою эпизодическою вставкой в «Легенду об Инквизиторе» всего удобнее начать ряд странных полупризнаний, полунаблюдений Достоевского. «“Характер тоски”, испытываемой им по временам, состоял по собственным его словам в том, что он чувствовал себя каким-то преступником; ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство», записал Н.Н. Страхов («Биография и письма», отд. I, с. 214).
«Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы?»
– читаем мы, уже узнавая распущенно-твердый тон Свидригайлова, хотя говорит его эмбрион.
«Это впрочем, было ужасно давно, в златые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы поверите, чтό тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками… Да уж вы не гримасничаете ли? О, молодой мой друг? Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и – чтό там!331331
«Отойду (через 30 лет)… не знаю куда»; замечательно, как эта гримаса Свидригайлова по ту сторону гроба, повторяется в его предварительных очерках и последующих развитиях.
[Закрыть] Ну, так вот-с и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичек. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты… Умер он у меня в больнице… У меня ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей, – великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился: филантропом был; ну, а мужика чуть не засек за жену… Ну, чтό вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Все это прошло. Это я сделал когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать… в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком… и что-ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и оттого что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, – решился ничему не верить и не поверил; т.е. факту не поверил и 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ха, ха, ха! Ну, да это все вздор! Выпьем, мой юный друг. Послушайте же, любите вы женщин?Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уже начал вторую бутылку.
– А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одною M-lle Philiberte, – а? как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите… гм!
Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал.
– Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы называете меня в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый332332
«Все, все Федоры Павловичи» (Карамазовы), собственноручное записание Достоевского в Записной книжке, посмертно изданной. Параллельные места мы будем указывать, дабы читатель не остановился на мысли, что это Достоевский только рисует быт, что он объективно, а не субъективно, как мы утверждаем, правдив здесь.
[Закрыть] из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать лучшим своим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе333333
«В эти минуты (перед расстреляньем) некоторые из нас, я знаю положительно (т.е. только по себе это можно знать), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, – может быть и раскаивались в иных тяжелых делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести», и т.д. («Биогр. и письма», I, 120).
[Закрыть], то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо задохнуться334334
В «Дневнике писателя» (где-то) есть выражение: «Лицемерие есть дань, которую порок отдает добродетели».
[Закрыть]. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль – не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, т.е. изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других, и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде… Это я скверно делаю, но я теперь так хочу……Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины…
– Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных… стремлений.
– Гм… да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь; а впрочем хоть бы и так, без всяких проблем; вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном взрыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг высказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдиться перед ним. Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну, так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него, и с важной величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотришь, – человек как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтобы кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя… во всем чистосердечии335335
Это – болезнь, известная в медицине под именем «флагеллоитства». Интересна однако почва, на которой она возникает. Ибо даже на завтра разрушающееся здание строится на каком-нибудь все-таки «песце»?
[Закрыть]. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя, важно, плавно, как тень в Гамлете. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло все его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидал этого…– Ну, так то был сумасшедший, а вы…
– Себе на уме?
– Да.
Князь захохотал… Вы отбили меня от предмета. Bouvons, mon ami, позвольте мне налить. А я только то было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней: была она не первой молодости, а так лет двадцати семи – восьми; красавица первостепенная: что за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосягаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость, в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, – уж так она себя поставила в обществе, – боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый… И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего понятия; только одна ее прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле, – каким образом, я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней научиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении, – была его таинственность и наглость обмана336336
Из строк этих, очень слабых, видно, что пока здесь, во всем приводимом отрывке, полунаблюдение, полуразмышление. Нельзя, в самом деле, предположить форму извращения ради наслаждения посмеяться, без Ding an und für Sich <вещь в себе и для себя (нем.)>.
[Закрыть]. Эта насмешка над всем, что графиня проповедывала в обществе как о высоком, недоступном и несокрушимом, и наконец этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать – и все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить, – вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен337337
Все это – очень слабое место.
[Закрыть]. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений, она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот, и сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь, при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?– Фу, какая низость, отвечал я, с отвращением выслушав это признание.
– Вы бы не были молодым моим другом, если бы отвечали иначе. Я так и знал, что вы это скажете. Ха, ха, ха! Подождите, mon ami, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого: эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.
– Да зачем же доходить до такого зверства?
– До какого зверства?
– До которого дошла эта женщина и вы с нею.
– А, вы называете это зверством, – признак, что вы еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но… будем говорить попроще… ведь согласитесь, что все это вздор?
– Что же не вздор?
Не вздор – это личность, это я сам338338
Отсюда начинается «самоутверждение» Карамазовское.
[Закрыть]. Все для меня и весь мiр для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее синильная кислота339339
Писано в 61 г. замечательное предварение учения Гартмана.
[Закрыть]. Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт, а я простой человек, и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы толкуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело, тем больше тут эгоизма. Люби самого себя – вот правило, которое я признаю. …Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов… и en somme340340
В общем (фр.).
[Закрыть], я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно добродетельнее (курс. Д-го), я бы, может быть, без нее не обошелся, как тот дурак философ (без сомнения немец). Нет, в жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель; огромную ставку в карты (ужасно люблю карты!). Но главное, главное – женщины… и женщины во всех видах341341
Бр. Карамазовы: «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чорт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, – только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего… да где вам это понять! Даже вьельфильки и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва наперво удивить…» etc. I, 155.
[Закрыть]; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия… Ха, ха, ха! Смотрю я на ваше лицо: с каким презрением вы смотрите на меня теперь!– Вы правы, отвечал я.
– Ну, положим, что и вы правы, но ведь во всяком случае лучше грязнотца, чем синильная кислота. Не правда ли?
– Нет, уж синильная кислота лучше.
– Я нарочно спросил: «Не правда ли?», чтобы насладиться вашим ответом: я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье, и знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что живу в обществе пустом: но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мiр существует. Весь мiр может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем на верх. Кстати, посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи342342
См. выше – Ив. Карамазов об отце; но тоже и вообще можно повторить о «карамазовщине»: «В корчах мучусь, но есмь».
[Закрыть]; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе, хе, хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет343343
Фед. Павлов. «До восьмидесяти».
[Закрыть]. Я смерть не люблю – боюсь ее. Ведь черт знает еще, как придется умереть! Но к чему говорить об этом! Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию. Buvons, mon cher! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы?» («Униженные и оскорбленные», стр. 244, изд. 82 г. в «Сочинениях»).
Вот еще неясный, «бе яко туман вод», лепет о предмете, который позднее поглотит столько внимания Достоевского. Тон недоумения разлит по всему монологу, где мы очень мало слышим субъекта автора, и только – любопытствующий его взгляд. Отношение к предмету вполне и только отрицательное. Строки этих рассуждений, однако, вкрадываются позднее в монологи Свидригайлова, лица, к которому отношение автора уже совершенно иное, чем к князю Вальковскому «Униженных и Оскорбленных», и, наконец, в диалоги всех почти Карамазовых. Достаточно вспомнить «неутолимую жажду жизни», «нас охраняет какой-то закон природы», «до 90 лет», и, наконец, «созерцательный мистицизм» странной женщины, в который уже по крайней мере впала она не для злорадства над обществом, как несколько по-детски объяснил он весь факт ее поведения, чтобы понять, что мы имеем в приведенных страницах еще не очерк, но указание на явление, на котором потом почило столько дум его.
Фигура Свидригайлова так известна, самый роман – так любим, что мы не будем на ней останавливаться. Только разве несколько строк. В монологе князя Вальковского чувственность выражена в самой ее общей форме, без указания на какой-нибудь частный ее вид; напротив, начиная с «Преступления и наказания» мы постоянно будем встречать почти одну только ее форму, и ее имея в виду мы взяли слова Ивана Карамазова, вставленные эпизодически в «Легенду об Инквизиторе»:
«…жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы иногда очень любят детей… Ты не знаешь, зачем я это говорю?.. У меня голова болит и мне грустно».
В «Преступлении и наказании» замешана фигурка Полечки, девочки лет девяти, сестры Сони Мармеладовой, и целомудренный Раскольников как-то пристально на нее глядит, слишком принимает ее в мысленное свое внимание:
«…Это была Поленька; она бежала за ним (выходившим из квартиры Мармеладовых) и звала его: “Послушайте! Послушайте!”
Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое видимо ей самой очень нравилось.
– Послушайте, как вас зовут?.. а еще: где вы живете? Спросила она торопливо, задыхающимся голоском.
Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, – он сам не знал почему.
– А кто вас прислал?
– А меня прислала сестрица Соня, отвечала девочка, еще веселее улыбаясь.
– Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня.
– Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: “Поскорей беги, Поленька!”
– Любите вы сестрицу Соню?
– Я ее больше всех люблю! С какою-то особенною твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.
– А меня любить будете?
Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.
– Папочку жалко! – проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы; – все такие теперь несчастия пошли, прибавила она неожиданно, с тем особенным солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят говорить вдруг как “большие”.
– А папаша вас любил?
– Он Лидочку больше всех нас любил, продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно как говорят большие, – потому любил, что она маленькая и оттого еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и Закону Божию, прибавила она с достоинством, – а мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование.
– А молиться вы умеете?
– О, как же, умеем! Давно уже; я, как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва “Богородицу” прочитают, а потом еще одну молитву: “Боже, прости и благослови сестрицу Соню”, а потом еще: “Боже, прости и благослови нашего другого папашу”, потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся.
– Полечка, меня зовут Родион; помолись когда-нибудь и обо мне: “и раба Родиона” – больше ничего.
– Всю мою будущую жизнь буду о вас молиться…» (etc., изд. 84 г., с. 172–173).
Эти строки как бы просятся на страницы Священного Писания: до того это чудно, до того высоко, до того трогательно и, наконец, прямо свято. По крайней мере списывая, т.е. в каждую букву и медленно вникая, почти невозможно удержать слез: конечно – это «касание мiрам иным», без коего «жизнь свою возненавидишь»; «Бог насадил в землю семена свои»… Но мы исследуем; и вот alter ego344344
Второе я (лат.).
[Закрыть] Раскольникова, имеющий с ним «какую-то общую точку касания», умирает с странным сновидением.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































