Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
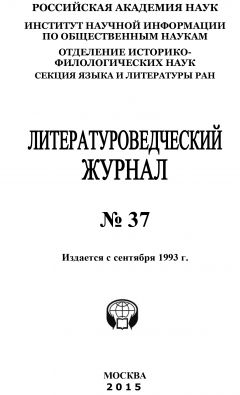
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
«Он ходил (т.е. это ему видится) по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко крикнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечей и увидел ребенка – девочку лет пяти не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем, нет-нет, и вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное; она окостенела от холода, но – “как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь”. Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про “мамасю” и что “мамася прибьет”, про какую-то чашку, которую “лязбила” (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в нумер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмаченки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем в головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался.
“Вот еще вздумал связаться!” – решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. – “Какой вздор!” В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскивать во что бы то ни стало оборванца (хозяина гостиницы) и поскорее уйти отсюда. “Эх, девчонка!” – подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся, еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щекам. Но странно: эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. “Это лихорадочный румянец”, подумал Свидригайлов, это – точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут, но что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то не детски-подмигивающий глазок, точно девочка не спит, и притворяется. Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку, кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться, это уже смех, явный смех; что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются… Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. “Как! Пятилетняя!” прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, “это… что ж это такое?” Но вот уже она совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки… “А, проклятая!” вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку… Но в ту же минуту проснулся» («Преступ. и наказ.», изд. 84 г., с. 466–467).
Сны – часто ответы на наши желания, на те «тайные и глубокие желания, в которых мы не смеем сознаться не только другу или брату, но и себе самим», как, кстати, вспомнил Достоевский (см. выше) и о минуте своей на эшафоте, перед расстрелянием; и это собственно Свидригайлов протягивает руки к девочке, и ему брезжилось, что она ответно протягивает к нему свои, «с бесстыдно раскрасневшимися щеками…» Он не мог вынести, и проснувшись – пошел и убил себя. В одном месте он говорит, почему не любит отлучаться из России:
«За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтобы, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь – и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь…» (ib., с. 261).
Вот «точка общения», роднящая его уже не с Раскольниковым, но с Достоевским; один раз, в художественном сновидении, он бросил украдкой взгляд на Полечку, в котором мы видим угол внимания, с которого и Свидригайлов посмотрел «на пятилетнюю». Дело было у Сони:
«Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.
– А копить нельзя? На черный день откладывать? спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.
– Нет, прошептала Соня.
– Разумеется нет! А пробовали? Прибавил он чуть не с насмешкой.
– Пробовала.
– И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!
И опять он пошел по комнате.
– Не каждый день получаете-то?
Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.
– Нет, прошептала она с мучительным усилием.
– С Полечкой наверно то же самое будет.
– Нет! Нет! Не может быть, нет! как отчаянная громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. – Бог, Бог такого ужаса не допустит» (ib., с. 293–294).
Последний, молчаливо-бесстыдный диалог, прошедший между Свидригаловым и девочкою, не только подобен и аналогичен, но он есть собственно повторение первого диалога, прошедшего между девятилетнею Полечкой и Раскольниковым: это – две чаши качающиеся, но каких-то одних весов, с какою-то мистическою стрелкою наверху, показывающею цифры отклонения. К концу романа Раскольников почти забывается, и выступает гораздо шире Свидригайлов; заключительный эпизод в каторге – искуствен, скомкан; обещанное возрождение главного героя почти названо только, а не описано, во всяком случае нисколько не объяснено. Время возрождения, минута возрождающих догадок, скажем мы уже от себя – еще не наступила для автора романа, и он, конечно, правильнее сделал, когда, вместо того, чтобы рисовать фальшиво незнакомые ему состояния, устремил (во второй половине романа) испытующее око в те бездны, которые почувствовал в другом лице той же единичной, собственно, фигуры, одно лицо которой назвал Раскольниковым. «Две чашки качающиеся», с мистическою стрелкою наверху: в самом деле, в этих двух видениях, из которых одно только переписав мы невольно назвали святым, другое и очевидно генетически родственное не только грешно, но и представляет как бы зияние ада. Ад и рай… вот уже два древние имени, два космические намека. Мы понимаем, почему он бросил Раскольникова, с его «социологическими» рассуждениями о «бедных» и «богатых», «дозволенном» и «недозволенном», «героических» в истории фигурах, как Наполеон, и человеческом «стаде» вокруг их: одна сцена с Полечкою, святым колоритом своим, уже в сущности содержит более новое и колоссальное, нежели все победы и походы этого «бронзового человека», который под конец оказался такою «глиной». Все это, т.е. все терзания и сомнения Раскольникова, как-то поверхностны; они ясно «от мiра сего»; и великий мистик, очевидно носивший «небесное семя» в себе (см. «Из поучений старца Зосимы»), рассеянно забывает их, чтобы приникнуть ухом туда, где может быть и «не от мiра сего», где уже по странности мы узнаем «не от мiра сего»… Кстати, начало стиха о Церере, приведенное в «Братьях Карамазовых», и который представляет многословное повторение эпиграфа (к роману) из Ев. от Иоанна, читается так:
Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен бегал по лесам…
Горе брошенным волнами
К неприютным берегам!
С Олимпийския вершины
Сходит мать-Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.
Плод полей и гроздьи сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит –
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.
(«Бр. Кар.», изд. 82 г., I, 122).
По отношению к приведенному ранее светлому концу этого стихотворения, это его начало о «глубоком унижении человека», «дикого», «нагого», без следа в нем «богопочтения», в своем роде есть то же, что страшное видение, от которого в ужасе просыпается Свидригайлов, к тому другому святому видению, которое так напоминает эти тоже почти святые строки, уже цитированные нами:
Душу Божьего творенья
Радость вечная поит.
……………………..
У груди благой природы
Все, что дышет – радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет (ib.).
Образы, так отчетливо и выпукло, так членораздельно вырисовавшиеся у Достоевского, каким-то общим очерком прошли и в воображении Шиллера, и в сущности они прошли в той же связи во всем древнем мiре, создавшем замечательный миф о Церере:
Насекомым – сладострастье
Ангел – Богу предстоит.
Почти трудно предположить, чтобы две последние строчки принадлежали Шиллеру, а не составляют прибавку Достоевского. Но мы возьмем еще две, и уже очень короткие, цитаты из «Преступления и наказания»:
«…С этою-то Ресслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У ней жила дальняя родственница, племянница кажется, глухонемая, девочка лет пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился донос, что ребенок был… жестоко оскорблен Свидригайловым… Благодаря, однако, стараниям и деньгам Марфы Петровны, все окончилось этим слухом и дело было замято» (изд. 84 г., с. 273). Свидригайлову, в самом деле, снится перед смертью, но только не этот, а еще какой-то другой гроб, и в странном окружении почти «клейких весенних листочков», о которых заговаривался Иван Карамазов: «Он ни о чем не думал, да и не хотел думать; но грёзы вставали одна за другою. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший перед окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание, – но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день…»
Не правда ли: только читать бы:
Душу Божьего творенья
Радость вечная поит.
…богатый, роскошный, деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная лестница устланная роскошным ковром, обставленная редким цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и нежных нарциссов, склоняющихся на своих яркозеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежею накошенною травой…
Мы особенно тут припоминаем «клейкие зеленые листочки…
XXV…окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми к груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, волосы светлой блондинки, были мокры; венок из роз обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то не детской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца, – утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски-чистую душу и вырвавшего последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер… (изд. 84 г., с. 464–465).
Но нам, делая эти ужасные выписки, полугрезы, полусознания, полухудожественные, полудействительные, давно пора оградить себя словами святого Псалма:
«Господь прибежище мое – кого убоюся?»
Ибо мы в самом деле спускаемся в какую-то челюсть Вельзевула, где цветы и грóбы, жизнь и смерть странно перемешиваются.
«Господь – Пастырь мой…
……………………………..
Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня» (псалом XXII, 1 и 4).
Так подписал Давид, перед пятидесятым псалмом которого читается краткое историческое надписание:
«Начальнику хора. Псалом Давида
когда приходит к нему пророк Нафан, после того как Давид вошел к Вирсавии» (Пс. 50, 1–2).
Эта не умерла; но супруг ее, друг и раб святого царя, бездыханен лежал на поле брани, когда Псалом, три тысячи лет утешающий человеческие сердца, коснулся впервые и стал перебирать не вещественные струны душевной арфы Пророка и Государя.
После приведенного видения, цветов и гроба, Свидригайлову и привиделся сейчас почти последний сон-порыв «к пятилетней», после которого он умер; Раскольников – не в видении, но в действительности – перед убийством процентщицы шел по одному из петербургских бульваров и встретил сцену, т.е. в художественном видении она приснилась Достоевскому:
«Шагах в двадцати он заметил впереди себя идущую женщину, но сперва не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших перед ним до сих пор предметах… Однако в идущей женщине было что-то такое странное и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться, – сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она должно быть женщина очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи, платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок оторван и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но дойдя до скамейки, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже может быть только пятнадцати, – маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице»345345
Это – только что опоенная и растленная, по вероятным и правдоподобным догадкам Раскольникова. Рассуждения последнего о % таких уже специфически принадлежат последнему, его «социологическому» направлению. Только цвет волос, одинаковый с «лежавшею в гробу», и лета, даже с каким-то усилием к «пятнадцати», как-то не хотящие остановиться на шестнадцати, показывают нам, что в сущности это один образ, имеющий или имевший в себе что-то мучительное и дразнящее.
[Закрыть] (etc., с. 45–46).
Из всех этих сопоставлений мы видим, что как-то и почему-то факты из жизни Свидригайлова текут в существе по одному закону, чтó и творчество Достоевского; имеют какой-то параллелизм направления; потому Достоевский и оглянулся, каким-то кривым взглядом, на Свидригайлова так пристально, и, как у Раскольникова в приведенном отрывке, «внимание его начало приковываться, сначала нехотя и как-то с досадой, а потом все крепче и крепче»… к этой фигуре, что…
Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее (с. 261),
как улыбаясь объясняет Свидригайлов Раскольникову в заключение первого с ним разговора…
Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь и как-то грустно. Всего противнее, что ведь в самом деле грустишь… На родине лучше, тут себя оправдываешь (с. 261).
«– А у вас бывают привидения? – спросил Раскольников». Тот странно объяснил сперва несколько похоже на старца Зосиму, и даже до буквы совпадая:
«Привидения… это – клочки и отрывки других мiров, их начало… Чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме – тотчас и начинает сказываться возможность другого мiра, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим мiром больше». Раскольников возвращает его к себе, к минуте текущей и лицу говорящего:
«– Нам все представляется вечность, – поправляется Свидригайлов, – как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится» (с. 265).
«Точно ты в каком безумии», – мог бы ему этими словами Алеши Карамазова Ивану ответить Раскольников. Верно и отеческая земля не всегда «облегчала». Раскольников, однако, отвечал что-то другое и развеселил Свидригайлова:
«Нет, вы вот чтó сообразите», – закричал он: «Назад тому полчаса мы друг друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами не решенное дело есть; мы дело-то бросили и эвона в какую литературу заехали! Ну, не правду ли я сказал, что мы – одного поля ягода» (с. 265). – «Другим одно, а нам, желторотым, другое: нам прежде всего надо предвечные вопросы решить… Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные, то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мiровых…», etc. как говорит, перед Легендой об Инквизиторе, Иван Алексею («Бр. Кар.», изд. 82 г., с. 263). Мы видим, что беседа Свидригайлова с Раскольниковым переходит, без перерыва и изменения тона, в этот проникновенный диалог, где Достоевский вылил свою душу в тех гранях, в том окончании, до какого сам он достиг.
«Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее… Да не беспокойтесь, я не надоедлив; и с шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне г-же Прилуковой сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на Сенной в старину ночевывал, и на шаре, с Бергом, может быть полечу…» («Преступл. и наказ.», с. 268). Разнообразный был человек; но черточки эти, здесь названные, мы вдруг видим разбежавшимися по всем главным фигурам Достоевского.
«…Вышел в отставку, в Скворешники не приехал, к матери перестал совсем писать. Узнали, наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что стало быть это ему нравится» («Бесы», с. 41).
Так, в 71-м году Свидригайлов снова появляется именно в том романе, где социально-политическая тема опустилась до последнего уровня, и на этот раз Валаамова ослица заговорила более внятно:
– Знаете ли вы, – начал Шатов почти грозно, пригнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх перед собою (очевидно не примечая этого сам), – знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ «богоносец», грядущий обновить и спасти мiр именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова… Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?
– По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский…
– И вы уже смеетесь, о, племя! – рванулся было Шатов.
– Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.
– Ждали в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова?
– Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ-«богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго перед вашим отъездом в Америку… По крайней мере, сколько я могу теперь припомнить…
– Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.
– Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество346346
Социально-революционное, с Петром Верховенским во главе.
[Закрыть] и только потом уехали в Америку.– Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти… Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак… Но семя осталось и возросло. Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть не читали вовсе?
– Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю и кроме того было проглядел середину347347
Черта поразительного сходства, т.е. поразительного сродства, о которой, конечно, не думал, т.е. не подумал, не заметил ее Достоевский (иначе бы сейчас уничтожил ее, затер) и Печериным и его отношением к Максиму Максимовичу, которого он, по тонкой характеристике Ап. Григорьева, точно «боится» обнять…
[Закрыть]. Впрочем, я все собирался…– Э, все равно, бросьте, к черту! – махнул рукой Шатов. – Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как вы могли их тогда выговорить?.. Вот что давит меня теперь.
– Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас, – загадочно произнес Ставрогин.
Струйка удивительного, глубочайшего атеизма, прорезывает воспаленный диалог… Мы ее еще увидим, как и поймем ее смысл.
– Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним… несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в то же самое время, даже может быть в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом… Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления…
Мы опять видим странное сочетание как бы намека, разбегающегося в противоположные стороны; двух чаш колеблющихся, с стрелкою отклонения наверху… Мысль о каком-то равно могущественном распоряжении святым и грешным, истиною и ложью, и, в последнем анализе, лучем из рая и другим – из ада, брежжет нам. И опять – мы это и еще встретим; и слова – и это поймем.
«– Во-первых замечу вам, что Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время почти верно, ну, и что же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал».
С великой упругостью, с великой сосредоточенностью Достоевский указывал, что «…в одно время», как, в сущности, и Полечка, и «пятилетняя» – прошли в одном воображении, одна – святым лучем, и другая – греховным. Кстати, мы припомним слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю: если кто из вас соблазнит единого из малых сих – лучше было бы ему, если бы жернов мельничный был повешен на шею его и пучина морская поглотила его…» «Лучше было бы»…
«– Вы атеист? Теперь атеист?
– Да.
– А тогда?
– Точно так же, как и тогда.
– Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом, вы бы могли понять это, в негодовании пробормотал Шатов.
– Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смиренно отвечаю на ваши вопросы и… крики, стало быть, не нарушил еще к вам уважения.
Шатов прервал, махнув рукой:
– Вы помните выражение ваше: “Атеист не может быть русским”, “Атеист тотчас же перестает быть русским”, помните это?».
Мы это помним… из тысячи мест «Дневника писателя»…
«– Да? – как бы переспросил Николай Всеволодович.
– Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть! Я напомню вам больше, – вы сказали тогда же: «Не православный не может быть русским…»
Таким образом, не через целомудренные уста Раскольникова, но через «худогласные», исполненные всякой «скверны», гробов и цвета, осени и весны, «падшего в землю и умершего зерна» уста прорываются слишком нам знакомые, запомнившиеся во всей русской земле слова, это «новое» и странное «слово», уподобленное (см. выше) «ключам жизни». Конечно, наше внимание настораживается, и мы пытливее отселе будем всматриваться в лицо говорящего.
«– Я полагаю, что это – славянофильская мысль.
– Нет, нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласи Христа поддавшегося на третье дьявольское искушение…».
Здесь мы вступаем в цикл идей «Легенды о Великом инквизиторе».
«…И что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мiр. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню ваши разговоры».
Ну, да это страницы… это уже издыхая лепетал в «Дневнике писателя» любопытный каторжник и пророк нашей земли; и снова – единственное, чтó нас теперь занимает, это – что не уст Раскольникова, но ему обратных по положению уст… И снова мелькнуло, как уже однажды и раньше, слово о «новом» Боге? понимании Бога? чувстве Бога? «Народе»-богоносце?: странная идея народа, носящего Бога; человека, Его несущего? в устах только? на языке? риторически? Где же? Достоевский на это не отвечал, и даже об этом еще не спросил себя. Мы припоминаем струйки ледяного атеизма, режущие раскаленный воздух беседы; оне сейчас же, тут же еще раз повторяются.
«– Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь…».
Но он и не не верует.
«– Я не лгал348348
Здесь, для объяснения всего этого, нужно привести маленький диалог между Кирилловым, в вечер его самоубийства, и Петра Верховенского, дожидающегося этого самоубийства:
«– Ставрогина тоже съела идея, – не заметил замечания Кириллов, угрюмо шагая по комнате.
– Как? – навострил уши Петр Степанович, – какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил?
– Нет, я сам угадал: Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» («Бесы», с. 557, изд. 82 г.). Этот коротенький диалог вообще чрезвычайно важен для понимания всего ряда теперь нами исследуемых фигур, равно приложимый к этим всем, с вариациями.
[Закрыть], говоря как верующий, очень сердечно произнес Николай Всеволодович. – Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать.
– Если бы веровали? – вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. – Но не вы ли говорили мне, что если б математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы лучше согласились остаться со Христом, нежели с истиной».
То есть это имеет тот смысл, что есть «истинна» не «математическая», сверх «математическая» и что она-то и есть главная истина, большая истина, вся истина; но это не значит, чтобы, перестав быть «математическою», Христос и вообще, во всех смыслах перестал быть «истиною» – вера в Него сохранялась даже при сознании, что Он – «ложь». См. в «Легенде об Инквизиторе» об «Эвклидовском», «земном» уме.
«– Говорили вы это? Говорили?
– Но позвольте же и мне наконец спросить, – возвысил голос Ставрогин, – к чему ведет весь этот нетерпеливый и… злобный экзамен?
– Этот экзамен пройдет на веки и никогда более не попомнится вам.
– Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени…».
Он пытается отвлечь диалог в сторону кантианства, и вообще куда-нибудь на старую тропу от той новой, по которой нудит повторительно пройти его Шатов.
«– Молчите, – вдруг крикнул Шатов, – я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль… О, только десять строк, одно заключение.
– Повторите, если только одно заключение…
Ставрогин сделал было движение349349
Еще гадкий печоринский жест, не замечаемый, т.е. по связи именно с Печориным, Достоевским.
[Закрыть] взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.
Шатов принагнулся опять на стуле и, на мгновение, даже опять было поднял палец.
– Ни один народ…»
Вот это profession de foi, и, действительно, одно из глубочайших исторических прозрений, перед которым лепет Фауста, с его черепом и книгами, есть только бедный лепет «мальчика в панталонах», который Щедрину – чуть-чуть, «бе яко туман вод» не без основания – показалась целая Германия; это – правда «ключи жизни и нового слова»:
«– Ни один народ, – начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, – ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума350350
См. «Записки из подполья», и там – критику рационалистической идеи устроения человечества.
[Закрыть]; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм уже по существу своему уже должен быть атеизмом351351
Мысль, развиваемая и в «Дневнике писателя» и вообще одна из основных у Достоевского.
[Закрыть], ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно352352
«Религия человечества» (т.е. человечества, чтимого как бога) Конта, да и вся его «Philosophie positive» есть невольно и почти уже провиденциально возникшая, после революции 89–93 гг., как замещение живого Бога для человека – бумажным манекеном, «богом» отпечатанным в типографии, такого-то числа и в такой-то улице. Отсюда почти теургический характер, которым Philosophie positive заканчивается, и который существеннейшим образом связан с ее мыслью, ее raison d’être <смысл (фр.)>. Едва ли нужно доказывать, что она есть умственная, теоретическая, логическая сторона исторического движения, практическая сторона которого выражена как социализм экономический. Кстати, приведем эпиграфы к книге этого в своем роде «длиннорукого Шигалева» (см. Бесы) «Republique occidentale», Paris, 1848 (мы соблюдаем его орфографию): 1) «Reorganiser, sans rien ni roi par le culte sistematique de l’Humanité»; 2) «Nul n’a droit qu’a faire son devoir».
<1) «Преобразовать, несмотря на бога и короля, неуклонный культ человечества»; 2) «Кто исполняет свой долг, не нуждается в праве»>.
[Закрыть]. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков353353
Это – изумительно. Всей глубины этих слов и Достоевский еще не прозревал: т.е. у него не было еще более глубоких, чем обычная скука книжностью, оснований сказать эти проникновенные и мистические, эти «валаамовой ослицы» слова; ибо о «худогласных устах» эта «ослица» ничего еще не уразумела…
[Закрыть]. Народы слагаются и движутся силою иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо354354
Таким образом, он вводит нас в догадки; «поднимает к покрову руки», как выразились мы выше, очевидно бессловный и неумелый еще приподнять покров.
[Закрыть]. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая355355
То есть то, чему через 10 лет он найдет имя в понятии «карамазовщины»; «бездна вверху и бездна внизу».
[Закрыть]. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения356356
«Не правда ли, живуч как кошка…» «В тысяче мук – я есмь, в корче мучусь – но есмь…» «Сый есмь Аз».
[Закрыть] своего бытия и отрицания смерти357357
«Жизнь полюбить раньше, чем смысл ее…» «Разуверься я в любимой женщине, разуверься в людях… все вы – держит сила карамазовская…» «До 90 лет» (см. Вальковский), «до 80 лет» (Федор Павлович).
[Закрыть]. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением358358
«Бе яко туман вод», т.е. догадки в пытующем уме художника.
[Закрыть] которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы359359
Ну, философы именно об этом и именно «в этом роде» ничего не говорили, и ссылка на них показывает, до чего для Достоевского собственные его слова были еще «яко туман вод».
[Закрыть], начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание Бога», как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного360360
Конечно, замечательно, что идея «пантеона» (всех и всяких богов мирное сожительство в одном храме) явилась у практического, земного, безрелигиозного творца juris naturalis, gentium et civilis <естественное, родовое и гражданское право>; и даже, еще беднее, эта идея явилась только у римского правительства. Напротив, Иегова, «Бог Израиля», «Сый» есть именно и только Сый в Израиле и для Израиля.
[Закрыть]. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца361361
То есть Бог вот в этом понимании Его; или, что то же – вот этот угол зрения на Бога выражает синтетически личность народа, от зачатия его (напр., Израиля в лоне Авраама) и до могилы.
[Закрыть]. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был один общий362362
То есть Бог конечно есть один, но Икона Его – у каждого народа своя, и народы этих Икон не смешивают иначе как смешиваясь, умирая. Каждый ему данную Икону несет и выранивая ее – умирает, ибо Ею, по таинственной с Нею вязи, жил.
[Закрыть] Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее363363
Все эти идеи, очевидно все представления юдаизма высказываемые, собственно распространяют понятие юдаизма на все народы; несут всем народам главную мысль Моисея, как ап. Павел пронес «новое благовествование» всем народам.
[Закрыть] его бог. Никогда не было еще народа без религии364364
Древние, как Плутарх и еще Геродот даже (кажется) заметили, что в какую бы страну и к какому бы племени путешественник ни приходил, – ожидая найти у них всякую странность он одного у них никогда не встретит: это – отсутствия религии. Факт этот многозначителен действительно тем, что показывает нам, что человек есть действительно седалище Бога, ибо от этого только теистическое чувство могло бы быть всюду где есть человек. Объясним грубою параллелью: запах сыра может быть только там, где есть сыр.
[Закрыть], т.е. без понятия365365
Это – ужасно недостаточно, ужасно бедно: понятие о добре и зле не покрывает религии (не исчерпывает) и есть частность, даже не самая важная в ней.
[Закрыть] о добре и зле. У всякого народа есть собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум366366
Здесь опять монолог этот сливается с идеями «Легенды о Великом Инквизиторе».
[Закрыть] не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные… Все это – ваши слова, в них я не изменил ничего, ни полуслова.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































