Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
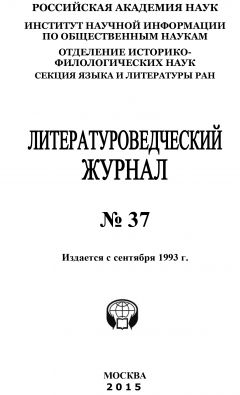
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– Не думаю, чтобы не изменили, осторожно заметил Ставрогин; – вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уже одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута367367
Народ знает начертание Бога, одну из Икон Его, которая будучи истинна, т.е. отвечая некоторым действительным и истинным чертам Его единого Лика, не выражает всю полноту этого Лика. Понятие «атрибута» здесь неправильно, как нельзя сказать, что «хоругвеносец» есть атрибут хоругви.
[Закрыть] народности…
Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.
– Низвожу Бога до атрибута народности? – вскричал Шатов, – напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело368368
Все это пока не становится полною истиною, остается чистою фразеологиею, как и Бог «без перста вложенного в рану» есть все-таки идея Бога, от которой до «Живого видящего вслед меня» (см. ранее) – еще непроходимая бездна. «Народ – тело Божие», почему это не угроза как и «vox populi – vox Dei» <глас народа – глас Божий>, как тысяча горделивых демократических формул, в которых слышится собственно одна низкая и атеистическая мысль: «аз есмь бог и не будут бози тебе инии разве мене» нового и плоского демократизма, заблудившегося стада человеческого. Но полной истины очевидно Достоевский не видел и отсюда в нем струйки ледяного атеизма.
[Закрыть] Божие. Всякий народ до тех только пор и народ369369
Все это место вообще, т.е. вообще весь этот удивительный диалог, который допускает безмерно высокое себе толкование, допускает и толкование безмерно плоское: на него можно взглянуть как на способ, как на попытку отстоять разрушающуюся свою народность (русскую) и даже отчасти свое литературное, политическое и наконец редакционное credo (идея «почвы» «Времени» и «Эпохи», отождествления «почвы» с «народным телом» и указание, что особый Бог ее охраняет и пока в особливости своей этот Бог жив, т.е. в особливостях своих жива народность, и «почва» до тех пор не будет покорена «языками и народами». Это напоминает вынесение перед ворота дома образа, когда окрест пожар пожирает дома, причем выносится образ равно древнего или нового письма, чудотворный или не чудотворный. Но и последний, по вере нашей, творит чудо защищения «почвы» – «дома» от окружающего всемiрного пожара (эклектизма наций и национальных историй). С этой точки зрения все данное место представится ледяною струйкой атеизма, как и все религиозные места у Достоевского имеют эту оборотную в себе сторону не полноты веры, не уверенности в вере. «Николай Всеволодович когда верует, то он не верует, что верует; а когда не верует, то не верует, что он не верует» (см. выше).
[Закрыть], пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мiра всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие370370
Вот здесь мы и находим глубочайшую слабость у Д-го: Бог ad majorem gloriаm plebis aut rei publicae <к вящей славе народа или республики>. – «Живый Видящий вслед мене» – не возносится, не возносит: «Агарь, ты беременна… возвратись в дом госпожи твоей Сары»; «Живый» к смиренным и в смиренную щель бытия их входит, а не говорит с форума, не обращается к народам. «Живый» не блистает в одеждах сенаторских, худовиден, худогласен: у Него Вселенная.
[Закрыть] народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества371371
Все это исторически верно и тем более ослабляет Д-го, указывая источник речей его – от «разума», от «науки», которая «позорно ошибалась». Ибо внушает подозрение о Боге для «отметки», для «печати на челе народа об его избранничестве», и, в силу избранничества, уже не могущего быть отведенным на задний двор истории. «Аd majorem gloriаm…». Не таков «Живый».
[Закрыть]. Против факта372372
И это показывает, что именно факт, простая «наука», до-Бэконовская inoluctio per enumerationem simpliсem, ubinon reperitur instantia contradictoria <внушение путем простого перечисления доводов, лишенных противоречий> есть или может быть принимаемо за источник удивительного в истине своей, но в истине не прозреваемой Д-ким, монолога.
[Закрыть] идти нельзя. Евреи жили373373
Но ведь это в истории был вечно бегущий с поля битвы Гораций: Авраам предавал юную Сару два раза на ложе чужеземцев «страха ради иудейска»; и везде, на всех страницах Библии – «страх иудейский». Бытие их было, с внешней стороны, щелью на задней стороне того великолепного фронтона, на котором великолепно же вырисовывались «инии бози» – Jupiter, Zeus, фантомы человека, не живые.
[Закрыть] лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставить мiру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали мiру свою религию, т.е. философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция374374
Все это, все эти примеры показывают, до какой степени идея Бога, все-таки ведь не слитого с историею, если бы даже в нее и замешанного, у него не отделяется и даже прямо сливается с простою историческою линиею.
[Закрыть] в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, но единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ и верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический375375
История народов до известной степени и есть история побивания «Живым» этих бумажных манекенов, которых на Его место ставили и им поклонялись как своим историческим миссиям; «бумажность» побиваемых становилась так очевидна, что народы не могли хранить в них веру… и вот история потери народом своих «миссий», причем мы очень мало можем осуждать за это самые народы.
[Закрыть] матерьял, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту376376
Все это достаточно для какой-нибудь «Великой Армении», т.е. для поднятия ее самочувствия напр. в XIX в., когда она пытается возродиться; по-видимому в целях подобного поднятия «самочувствия» в своей «почве» слова эти сказали и здесь. Но слова Руфи Ноемини, предлагавшей невестке вернуться по смерти мужа в свою землю – «твой народ будет моим народом и твой бог будет моим богом» – как многоценнее они всех громоздких фактов этих историй.
[Закрыть] веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» – это Русский народ и… и… и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, неистово возопил он вдруг, – который уже и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех377377
Почти нельзя сомневаться, что идея народа-«богоносца» возникла у Д-го вследствие (и вероятно непосредственно вслед за) чтением известной книги Кельсиева о русском сектантстве (4 части, изданные в Лондоне), где ряд собранных и напечатанных официальных документов показывает такую силу напряжения теистического чувства в русском народе, что слова: «народ-богоносец» невольно шепчутся всяким внимательным читателям. Что Достоевский знаком был с этою книгою и вероятно познакомился приблизительно во время писания «Бесов» – на это есть намек (на стр. 378, упоминание об Иване Филипповиче, бог-«Саваоф» хлыстов) в романе. – Но, затем, идея народа-«богоносца», с особенною и исключительно-значительною миссией, есть только лучше, чем у славянофилов выразившаяся, но славянофильская идея; как и идея русского народа, как народа-«примирителя» (Пушкинская речь), есть также не его исключительно идея, но только у него достигшая высшей красоты выражения (народ-«эхо» у Пушкина уже и Белинского, и даже в смысле реформы Петра, Piter’а). Собственно оригинален, нов и единствен Достоевский не в этих двух идеях, с которыми обычно сливают его умственное лицо, но в понятии напр. «карамазовщины», им впервые введенном в литературе; он велик и нов в «Записках из подполья», «Легенде об Инквизиторе», «Сне смешного человека», и т.д. Можно без преувеличения сказать, что его личность одна – более жизненна и содержательна, чем целая славянофильская школа, и ничего к ней не прибавляют некоторые из славянофильских идей, им заимствованных.
[Закрыть] московских славянофильских мельницах, или совершенно новое378378
Ничего нового в той политическо-национальной окраске, какая особенно второю (беднейшею) половиною диалога придана ему; ничего даже замечательного, если бы было и ново.
[Закрыть] слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения и… и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!..
Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.
– Напротив, Шатов, напротив, – необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, – напротив вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно смелых воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что оне были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить все, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но…».
Диалог прерывается в своей слабой части, он и вообще изменяется в течении мысли и вступает вдруг в такие глубины «худогласия» человеческой природы, какие не были доступны еще никому, кроме Достоевского, и куда за ним не осмелился последовать ни один мыслитель; ни один писатель не решился даже цитировать страшных слов:
«– Но вам надо зайца?
– Что-о?
– Ваше же подлое выражение, злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять; чтобы сделать соус из зайца – надо зайца, чтобы уверовать в Бога – надо Бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрёв, который хотел поймать зайца за задние ноги».
Великий и грустный скиталец в родной земле, омочивший землю свою благороднейшими слезами, какие когда-либо пролиты были из человеческих глаз, Достоевский не хотел остановиться на роли религиозного самозванства; идея «ложного» бога, «бога» как фикции, бога «нужного», «по нужде», для целения наших «ран»379379
Отсюда и «Легенда о Великом Инквизиторе» начинается с приведения слов Вольтера, что «если бы Бога не было – Его нужно бы выдумать».
[Закрыть] гнела его до конца жизни, и, задушаемый ею, он был так открыт, и, наконец, так верил, что «чрез квадральон лет» (см. «Кошмар Ивана Федоровича» в «Бр. Кар.») найдутся же средства осязать Живого, – что не захотел утаить от миллионов читателей своих, что он и пока не имеет ничего для них кроме этой фикции, ничего еще для утешения оскорбленной и измученной души своей… Он в самом деле не догадался, что, как выше мы выразили сравнением – если есть запах сыра (мистицизм) – ищите в направлении его бóльшей концентрации и вы найдете в самом деле сыр; или, переводя это на его сравнение: «заяц» в самом деле существует, он – не диалектика, не реторика, не политика наших забот, дел, химер, а след. и «соус из зайца», т.е. не реторическое богопочитание – возможен не как проблема, а как действительность.
Робок, наг и дик скитался
Троглодит в пещерах скал…
но, этот период «скал» и «пещер» еще не прошел для Достоевского.
«– Нет, тот именно хвалился, что уже поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?
– Не смейте меня спрашивать такими380380
Грубость сравнения, конечно, течет из великой грусти (из нее же и весь тон порывистого сарказма, в котором ведется диалог); с другой стороны, однако, следует заметить, что ощущая Живого уже не избегаешь и не боишься никаких вульгарных сравнений, ибо и всякая солома, при сравнивании с Ним, крепится, и всякий навоз, на который при уподоблении падает Его луч – как бы расцвечивается в чудный сад. В мiре нет более гадкого, когда есть Живой.
[Закрыть] словами, спрашивайте другими, другими! – весь вдруг задрожал Шатов.
– Извольте, другими, сурово посмотрел на него Николай Всеволодович; – я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?
– Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово. – Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… – залепетал в исступлении Шатов.
– А в Бога? В Бога?
– Я… я буду веровать в Бога».
Вот глубочайшая поправка к предыдущим слабым местам диалога; расседаясь в ледяной атеизм, он обнаруживается как правда сердца, и все иллюзии «богоносничества» обнаруживают себя как реторту. Теперь вы можете растоптать это сердце, но оно уже не обманывает; оно пусто – но не лгущее. «Сердце чисто созижди во мне, Боже…» Сердце атеиста, будучи, правда, только пустою оболочкою, не есть, однако, «повапленный гроб, полный мерзостей» обмана: и именно в него, именно в момент сознания совершенной пустоты и может войти «Живый видящий вслед меня» – снова по закону: «если падшее в землю зерно не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
«Ни один мускул не двинулся на лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его взглядом.
– Я ведь не сказал же вам, что не верую вовсе! – вскричал он наконец; Я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест… Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне… Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал… Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя».
Какая ошибка в слове действительно бесталанного, хоть и доброго, до трогательности доброго Шатова: как будто можно, как будто нужно поднимать «знамя» религии; как будто понятие религии уже не исключает всякой идеи «знамени» и «поднятия». Авраам после завета, т.е. услышав Бога, обрезался, обрезал домочадцев, а выздоровев выгнал в пастбище скот свой, а не «поднял знамени» обрезания и завета. Все это – «миссии» и, в конце концов, все это около реторики, обмана, «не пойманного зайца».
«Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову».
Сейчас диалог вступает в новую, центральную фазу: лицо Ставрогина, т.е. уже бесспорно высказавшего, в обоих вариациях своих, интимнейшую мысль Достоевского в ее глубочайших содроганиях, сливается с лицом Свидригайлова – позади, и впереди – с лицом всех Карамазовых. Это та часть диалога, о которой мы сказали, что ее никто не смел процитировать; и сам Достоевский, выписав свою мысль, «пав в землю мертвым зерном», не сумел дальше пойти, чего-то сделать, о чем-то догадаться, и «не ожил… в многом плоде».
– Я вам только кстати замечу, как странность, – перебил вдруг Ставрогин, – почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», – тоже его слова.
– Как? – спросил Шатов, – «по необыкновенной способности к преступлению»?
– Именно.
– Гм. А правда ли, что вы, злобно ухмыльнулся он, – правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу. Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, вскричал он совсем выходя из себя, – Николай Ставрогин не может лгать перед Шатовым, бившим его по лицу!381381
За несколько дней до диалога, и притом публично, за двойное обольщение и сожительство – с сестрою его (Дашей) и женою (Марья Николаевна, в конце романа разрешающаяся ребенком от Ставрогина).
[Закрыть] Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!– Я эти слова говорил; но детей не я обижал, произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел и глаза его вспыхнули.
Мы снова припоминаем, перед аналогичным диалогом Ивана Карамазова с братом: «Подивись на меня – я ужасно люблю деточек; до 8, до 5 лет – это как бы другое создание»… «Плотоядные, карамазовцы постоянно любят детей… мне грустно и у меня голова болит». – «Ты точно в каком безумии, брат».
«– Но вы говорили, продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз. – Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?
– Так отвечать невозможно… я не хочу отвечать, пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.
– Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, что ощущение этого различия стирается и теряется у таких, как вы…» Etc. («Бесы», с. 224–231).
Затем следует опять падение мысли; указание, что «достать зайца», т.е. пробудить в себе религиозную веру, можно «трудом» и преимущественно «мужицким» (с. 232), «единством с народом», и все эти бедные мысли, из круга которых Достоевский не смог вырваться до конца жизни (см. «Пушкинская речь»). «Дух веет, где же хощет»; и несчастная мысль, что веру можно «добыть» есть в сущности мысль, что ее можно сделать в себе, т.е. что она есть нечто делаемое, изготовляемое, и, таким образом, есть в сущности продукт его деятельности; т.е. что вера есть человеческая, есть дело рук человеческих, поднимается с земли и протягивает руки к пустому небу, а, напротив, не нисходит с небес и наполняет пустое сердце человеческое.
Робок, наг и дик скитался
Троглодит в пещерах скал…
Нам нужно, в целях исследования, привести еще один диалог из того же романа: опять Ставрогина, но с Кирилловым, «несчастным маньяком, мысль которого он отравил атеизмом в то же почти время, как в Шатова насаждал веру в Бога и народ свой» (см. выше). Личность Кириллова – одно из трогательнейших и удивительнейших созданий Достоевского, игра фантазии, сотканной из таких сочетаний теней и света, тайна которых была только на палитре этого художника, этого одного во всемiрной литературе. Это – unicum. Уже вне целей нашего исследования и лишь для того, чтобы бросить луч света на общее этой фигуры, мы приведем вставочно его разговор перед самоубийством:
«Не застрелится, – тревожился382382
Кириллов, ставший на идее, что главный атрибут Бога – своеволие, и будучи уверен, что того Бога – нет, решил стать сам Богом, для чего ему надо предварительно выразить «высший пункт своеволия», каким не без основания он считал разрушение себя, самоубийство, «так себе», «без причины», как простое выражение свободы и автономности воли своей. Петр Верховенский воспользовался этою довольно правильною оценкою понятий и попросил у него «день», т.е. попросил право себе и в своих целях назначить, когда ему застрелиться. Задумав в ночь убить Шатова, и желая убийство свалить на мертвого Кириллова, он в вечер дня пришел к этому последнему требовать самоубийства. Мы приводим маленький отрывок из их поразительного диалога.
[Закрыть] Петр Степанович».«– Кому узнавать-то? – поджигал он. – Тут я да вы, Липутин что ли?
– Всем узнавать; все узнают. Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным. Вот Он сказал.
И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился.
– В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампаду зажгли; уж не на «всякий ли случай»?
Тот промолчал.
– Знаете чтó, по-моему, вы веруете пожалуй еще больше попа.
– В кого? В Него? Слушай, – остановился Кириллов, неподвижным, исступленным взглядом смотря перед собой. – Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал383383
<нет ссылки>
[Закрыть], что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: «Этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей быть. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть самые законы планеты ложь и диаволова водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?» (с. 553).
Никогда, в целой всемiрной литературе никогда – не отрицание, но разлившееся в человеке и проникшее до последних его фибр чуство <так у Розанова!> отрицания – не доходило до такой глубины и почти религиозного же экстаза. Перед зажженной лампадой, коленопреклоненный перед Ликом, в своем роде «один человек», так много и безумно плакавший перед «Чудом земных законов» как бы прощается с Ним, – за человечество, за всю землю прощается с своею фикциею, которая, однако, только одна и давала силы жить; чтобы встать наутре хоть и плюгавеньким, но уже подлинным и не фиктивным (для себя, но впрочем и для природы) богом. Кстати, если того Бога нет, то высшее, т.е. опять же Бог есть конечно человек, и тогда совесть, как упрек себе, как себя поправка – умирает. «Все позволено» – как индивидуумом себе: отсюда образы Раскольникова и Ивана Карамазова, убийцы и отцеубийцы; так «все позволено» и обществу над индивидуумом: отсюда идея «шигалевщины» («Бесы»), «Легенды об инквизиторе», в обоих случаях с страшным и насильственным погашением личности в человеке, задушением человека ради «коллективного» вечного и окончательного покоя. Таким образом, идейное и даже художественное (образы) творчество Достоевского все представляет собою «соус без зайца» и лишь «под его именем»: вариации, мучительные начинания «Легенды об инквизиторе», но наконец, почти перед издыханием, вылившиеся в это колоссальное по уму и фантазии создание. Но там также не было «зайца»; и чтó сообщает Достоевскому черты истинной праведности, мы дерзнем сказать – святости, это то, что он не утаил того от человека – до того возлюбил человека, до того поверил человеку, и в конце концов, каким-то тайным и далеким ведением поверил даже и бытию пробудившего такие страшные сомнения в себе «зайца», но только… «через квадральон лет странствия» («Кошмар Ив. Фед.»). Но мы приведем нам нужный диалог, забыв этот вставочный:
«Бледный, почти нищий, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями.
– Вы все еще в тех же мыслях? – спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностью.
– В тех же, коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие.
– Когда же? – еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.
Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.
– Это не от меня, как знаете; когда скажут, пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностью отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел не отрываясь, своими черными глазами без блеска, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.
– Я, конечно, понимаю застрелиться, – начал опять несколько нахмурившись Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания; – я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство, или главное стыд, т.е. позор, только очень подлый и… смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «один удар в висок и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?
– Вы называете, что это новая мысль? – проговорил Кириллов, подумав.
– Я… не называю… когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.
– Мысль почувствовали? – переговорил Кириллов, – это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу».
Поразительно… Новый угол воззрения на старую, всегда бывшую, мысль иногда действительно является родником целых бездн нового мышления и заново понимания целой природы. Мiр, т.е. как тот, на который мы смотрим, так и тот, который мы думаем, похож в сущности на смешные детские рисунки, озаглавливаемые: «Где казак» или «Отыщите Наполеона», и представляющие ужасную путаницу линий, моток теней и линий без всякой в нем мысли. Вы ищете «козла», ищете «Наполеона» и при всех усилиях – не находите; даже их собственно нет, потому что ведь глаз вас не обманывает же и фигуры животного и Императора вам хорошо известны. Тогда автор рисунка, или кто-нибудь более вас подвижный глазом или мыслью, может быть просто более вас счастливый указывает вам на некоторые определенные линии в этой путанице, на сочетание ствола корявого и сучьев дерева, и вы вдруг совершенно и очевидно видите «Наполеона», который прямо на вас смотрит из этого дерева, и даже собственно кроме этого «Наполеона» и нет почти ничего на рисунке; остальное – ретушь, задрапировывающие «истину» подробности. Таким образом, открытие ваше состояло не в какой-нибудь перемене рисунка (старая природа, «старая мысль»), но в перемене вашего угла зрения на него; в том, что вы розняли ваше внимание и, оставив одну часть его на рисунке, другую убрали, т.е. одне части рисунка оставили под вниманием, другою заснули: т.е. забыли, не видите другие запутывающие части рисунка. История всех открытий есть в сущности история нахождения таких «козлов» в мотке мiроздания; и как много их еще не усмотрено – об этом легко догадаться.
«– Положим, вы жили на луне, – перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, – вы там, положим, сделали все эти смешные пакости… Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать384384
У вас есть что-то на душе ужасное, грязное и кровавое, и… и что-то такое, в то же время, что ставит вас в ужасно смешном виде – к тому же Ставрогину («Бесы», с. 469). Очевидно, тут говорит действительность, и очевидно эта действительность – не мимолетная, но характерная, главная же из главных черта.
[Закрыть] на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?
– Не знаю, – ответил Кириллов, – я на луне не был, – прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.
– Чей это давеча ребенок?
Входя к Кириллову, Ставрогин нашел его перед старухою, у которой на руках был 1½ годовалый ребенок, «в одной рубашенке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклокоченными волосками, только что из колыбельки; он, должно быть, недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся рученками, хлопал в ладоши и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал мя! мя!, Кириллов ловил “мя” и подавал ему, а тот бросал его своими неловкими ручонками». Ставрогин говорил об этом ребенке.
«– Старухина свекровь приехала; нет, сноха… все равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячем. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить; укрепляет спину. Девочка.
– Вы любите детей?
– Люблю, – отозвался Кириллов, – довольно, впрочем, равнодушно».
Чистый Кириллов играет с ребенком, но его не пронизывает таким вниманием, не оглядывает с такою зоркостью к подробностям, к «белым волосикам», «короткой рубашечке», и пр., с какою, наверно, оглянул бы его Ив. Карамазов и также тот странный «разбойник», о котором так странно и вне целей диалога вспомянул он.
«– Стало быть и жизнь любите?
– Да, люблю и жизнь, а что?
– Если решили застрелиться.
– Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.
– Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
– Нет, не в будущую вечную, а здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минуты, и время вдруг останавливается и будет вечно.
– Вы надеетесь дойти до такой минуты?
– Да.
– Это вряд ли в наше время возможно, тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. – В Апокалипсисе Ангел клянется, что времени больше не будет.
– Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
– Куда же его спрячут?
– Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
– Старые философские места, одне и те же с начала веков, с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.
– Одне и те же! Одне и те же с начала веков, и никаких других никогда! – подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.
– Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
– Да, очень счастлив, ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
– Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?
– Гм. Я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист».
Мы припоминаем Карамазова и, можно бы сказать, «карамазовщину» с его тяготением к «клейким листочкам» и настораживаемся вниманием:
«– Видал.
– Я видел недавно желтый385385
Удивительное проникновенье в природу, со-дыхание с нею, если припомнить слова Ивана Карамазова: «нам ведь, желторотым, что…» и т.д. Понимание природы в том чистом оттенке, где она напоминает и как бы сливается с частным же в человеке оттенком. Конечно, речи Ставрогина и Кириллова берутся еще в одном месте «Подростка» и в «Сне смешного человека».
[Закрыть], немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
– Это что же, аллегория?
– Н-нет… зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.
– Все?
– Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тот сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется. Я вдруг открыл.
– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?
– Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо386386
Мысль удивительной глубины и не подозреваемой истины, но именно только «почувствованная».
[Закрыть], но пока они не знают, что им хорошо, то им будет не хорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!
– Когда же вы узнали, что вы так счастливы?
– На прошлой неделе во вторник, нет в среду, потому что уже была среда, ночью.
– По какому же поводу?
– Не помню, так; ходил по комнате… все равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.
– В эмблему того, что время должно остановиться?
Кириллов промолчал.
– Они не хороши, начал он вдруг опять, – потому что не знают, что они хороши387387
Опять – какая глубина.
[Закрыть]. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.
– Вот вы узнали же388388
Здесь опять падение мысли, показывающее, до какой степени Д-ий только сердцем проходил около великих идей.
[Закрыть], стало быть вы хороши?
– Я хорош.
– С этим я, впрочем, согласен, – нахмуренно пробормотал Ставрогин.
– Кто научит, что все хороши, тот мiр закончит.
– Кто учил, Того распяли.
– Он придет и имя ему человекобог.
– Богочеловек?
– Человекобог, в этом разница.
– Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
– Да, это я зажег.
– Уверовали?
– Старуха любит, чтобы лампадку… а ей сегодня некогда, – пробормотал Кириллов.
– А сами еще не молитесь?
– Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.
Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным». Etc. (с. 213–216). – Чуть-чуть этот диалог продвинут дальше в следующем монологе Кириллова, обращенном к Шатову, на минуту к нему заглянувшему:
«– Бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?
– Знаете, Кириллов, вам нельзя больше не спать по ночам.
Кириллов очнулся и – странно – заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил; видно было, что он давно уже все это формулировал и может быть записал:
– Есть секунды, их всегда зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда389389
<нет ссылки>
[Закрыть] мiр создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это – не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите, о – тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно – такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, когда цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресеньи не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит?
– Кириллов, это часто приходит?
– В три дня раз, в неделю раз.
– У вас нет падучей?
– Нет.
– Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал. Что именно так падучая начинается. Мне один эпилептик подробно описывал это предварительное ощущение перед припадком, точь-в-точь как вы; пять секунд и он назначал и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин – это те же пять секунд; слишком напоминает вашу гармонию, а Магомет был эпилептик» (с. 538).
Если мы вспомним, что собственно эпилепсия не есть вовсе и никакая болезнь, а в точности секундное потрясение человека, не разрушающее его, не грозящее смертью, не выражающееся анатомическою болью при ужасающей бурности ее течения, – мы если и примем ее в обыкновенном смысле как «паталогический дефект», то осветим этот смысл уже бесспорно приложимым сюда соображением Свидригайлова о «болезни» как начале «иного мiра», как состояния, когда особенно возможно «касание мiрам иным». Кстати, есть аналогичное по красоте приведенному монологу выражение Магомета: «больше всего в жизни я любил прекрасных женщин и ароматы, но истинное наслаждение находил всегда только в молитве».
Слова Кириллова так похожи на молитву; мы, впрочем, забываем о нем и сосредотачиваемся вниманием на Достоевском, ибо ведь это именно он нашел такой язык для этих мыслей; нашел и самую мысль такого колорита. Мы запоминаем, около каких это точек. Как мало здесь «Кириллова» и «эпилепсии», вот бормотанье одной идиотической – «хромоножки», из этого же произведения:
…Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне, – etc. …Тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь? – «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого»… «Так, говорит, Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоить слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». – Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать; сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я бывало на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к Востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к Востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг погаснет. Тут я и начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумрака… («Бесы», с. 133).
Достоевский знал тайну религиозных слез, вот все, что мы отсюда видим. Так окончательно, как бы за все человечество и от всей земли простившись с Ликом, разбрызгав «соус», где нет «зайца», – странно он остался столь же глубоко и даже до последних периферий бытия своего пропитанным запахом этого «зайца»; мы хотим сказать – теистическим чувством, поднимающимся – мы судим по языку – до безгрешного, до святого. Вот синтез его души, которого никто не оспорит, который очевиден: космический атеизм, космический теизм; при полном незнании Кому бы поклониться, факт поклонения. Запах соусного зайца, т.е. уже изготовленного и именно из «зайца», не только был вокруг него, он был как бы облит этим соусом, пропитан в «бедном пиджаке» небесного-«Приживальщика» (см. «Кошмар Ив. Федор.»), но никогда по следу этого запаха не дерзнул двинуться, и отверг, не понял, что если есть святое (как было в нем это чувство) – есть и Святый, если рвется с уст молитва – силен Вихрь, ее срывающий с наших губ. – Одна подробность: «длинные тени», и также скользящие «по глади вод» до «пересечения с каменным о-вом» – это тень Везувия, пролагающегося через Неаполитанский залив до маленького каменного островка Капри. Ее никогда не мог, как и заката солнца, видеть Свидригайлов, и от этого предпочитал оставаться в отечестве. «Тут, по крайней мере, себя не винишь».
Комментарии
С. 298. «Бога никто же нигде же видел» – 1 Ин 4, 12.
Это было в 88 году – речь идет о поездке Розанова в декабре 1888 – январе 1889 г. в Петербург к Н.Н. Страхову и знакомстве с поэтом А.Н. Майковым.
С. 299. Восторг внезапный ум пленил – М.В. Ломоносов. Ода на взятие Хотина 1739 года (1751).
С. 300. О, Иерусалим, Иерусалим! – Лк 13, 34.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































