Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
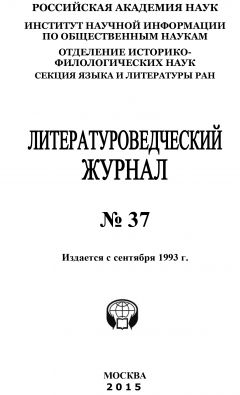
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Возвращаясь к мысле-образу, мы видим в центре перед собой Аристотеля, вплетенного в плотную сеть множества комментариев и предстающего в образе «махровой бабочки». Воспользовавшись семантической неоднозначностью этой фразы, мы можем позволить себе некоторую степень произвола и текучести, для того чтобы собрать ассоциации, которые управляют актуальным комментарием «Разговора». Давайте подробнее рассмотрим бабочку, а именно обратим внимание, в частности, на ее своеобразную и впечатляющую окраску (и здесь мы последуем наиболее поэтическому подходу Набокова, который построил свою интерпретацию «Превращения» Франца Кафки на энтомологическом предположении о том, что Грегор Замза превратил себя в жука). Так, следуя за онтологической рифмой нашего комментария, «махровая бабочка» может оказаться хорошо известной по любой популярной энциклопедии чешуекрылых закатной бабочкой Madagas (Chrysiridiar-hipheus). Этот освещенный закатом мотылек укладывается в контекст настоящего комментария из-за особого, так сказать, онтологического статуса его расцветки: она не имеет собственной онтологии, но есть эффект оптической интерференции света, вызванный отражениями его прозрачных крыльев.
Таким образом, для Мандельштама в «Разговоре» (как и в «Путешествии в Армению») цвета избегают собственного онтологического статуса, являются своеобразным приближением к недостижимым объектам. Цвет – это не что иное, как «чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем»220220
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 326.
[Закрыть], как пишет Мандельштам в «Путешествии в Армению». Так, Аверроэс, комментатор, выбран для обозначения красочного арабского орнамента, который является косвенным приближением к Аристотелю – фигуре ядра, первоначальному слову, которое воплощается в материале. (NB: В четвертой главе цветные узлы – орнамент на коже Гериона – также сравниваются или трансформируются в четкий рисунок – «мешки с деньгами», как будто намекая на Аристотеля пера Данте, который в типичном Средневековье подходил под анекдотичную характеристику лысых и богатых.) Мандельштамовский урок о цвете через образ Аристотеля – бабочки Данте – получает дальнейшее развитие в четвертой главе через взаимодействие света и цвета (из комментария Аверроэса), выстраивая отношение к качеству цвета в целом, так как он понят в неокантианской ветви европейского модернизма. Беньямин, другой современник Мандельштама, в своем раннем диалоге «Радуга» (1914–1916), отвергая цветовые феноменологии Гёте на основе полярности, разрабатывает свое понимание цвета в связи с его мыслями о природе опыта, которые совпадают с теми, что разворачиваются в «Разговоре». Таким образом, в понимании Беньямина, цвета не могут быть созданы, они могут только восприниматься. Они не являются ни пространственными, ни временными. Что же такое опыт цвета в таком случае? Беньямин сказал бы, что это – бесконечность, и что мера цвета – его насыщенность. Так, цвет представляет некую бесконечность, которая наполняет объекты конечности221221
Cм.: Fenves P. The Messianic Reduction. Walter Benjamin and the Shape of Time. – Stanford, 2011. – С. 76–103, 247–256.
[Закрыть]. В некотором смысле собственно модальность бытия цвета – это его вневременность и непривязанность к месту, то же самое, что и комментарий, который также является своего рода бесконечностью в конечном. Для Мандельштама дальнейшие превращения этой модальности перетекают в посреднические формы искусства: музыку или каллиграфию как важные темы в «Разговоре».
Так, фигура Аверроэса, обрамляющая Аристотеля, красочная бабочка – филологическое и философское ядро этого комментария, указывающее на статус самого комментария, который является, по мнению Мандельштама, просто собранием преломлений или приближений к недостижимому филологическому ядру (и, следовательно, вне пределов досягаемости комментатора). Каталог философов Данте, что особенно заинтересовало Мандельштама, начинается с неназванного Аристотеля, ядра и заканчивается комментатором Аверроэсом, обрамляющим арабески; каталог также оформлен тем недостижимым филологическим ядром и комментариями, что также оформлены в мембраны, куда стекаются все соображения и мысли автора. Таким образом, изображение становится еще более динамичным: его центр – Аристотель, который сравнивается с ночью или днем (или, может быть, сумерками) в образе бабочки, которая помогает Данте создать окаймление, которым он отделяет центр композиции от полей – арабский орнамент Аверроэса; они оба расположены на мембране крыла одной и той же бабочки. Схематически это изображение состоит из трех концентрических фреймов: комментария Аверроэса, каталога Данте и эссе Мандельштама.
Как бы эти образы могли выглядеть на странице средневековой рукописи, иллюстрирующей нам идею Розанова о комментарии? Маленький прямоугольник текста, почти исчезающий в густом обрамлении орнамента комментария. За рамой этого орнамента можно найти следующий, принадлежащий переписчику, и так далее. Но тогда за границей орнамента находится то неуловимое, то, что все время стремится к недостижимому центру, арабскому орнаменту. И именно поэтому Мандельштаму пришлось прибегнуть к современной физике и топологии в «Разговоре о Данте». Таким образом, мы можем вернуться к розановскому Левитану и его визуальному эквиваленту – литературным пропилеям, «входу в себя». «В пейзажах Левитана, – пишет Розанов, – не существует ни цвета, ни человека». Что важно для данного аргумента, и что мы можем наблюдать в статье Розанова, который, кажется, в милях от чувствительности Мандельштама, мы наблюдаем то же самое движение между материальной и нематериальной сторонами; между цветом и взаимодействием света и тени; в недостижимости филологического ядра и комментария. Розанов называет искусство Левитана и филологию Гершензона греческими пропилеями, которые дематериализуют объект искусства. Так, комментарии Гершензона более направлены не на признанных классиков, а на новаторов, которые подвешены в состоянии между фактическим и потенциальным, как, например, Левитан писал картины на грани материального и нематериального, словно застывшую в воздухе игру тени и света. Розанов завершает свою статью, обращаясь к «поправке», которую Гершензон вносит в теологию и онтологию Тютчева, заменяя его Христа (воплощение) «эллинским» ожиданием и онтологическим приостановлением «пока еще» пропилеев (комментарии). Эта филолого-теологическая операция является неожиданным регрессом к семитскому поиску ядра и исключением возможности диалектического синтеза христианства (найденного в эссе «Место христианства в истории»).
Комментарий как остаток
Путем обмена с нашим гипотетическим гостем «Разговора о Данте» Розановым Мандельштам открывает вопрос об Отце «творческого начала», неком ядре, и поэтично растворяет «монотеистический» «перводвигатель» (Аристотеля – в сети его поэтических ассоциаций) в идее «спонтанного генезиса». В данном случае и экспериментальная традиция, и неоламаркский натурализм, которых Мандельштам придерживается, справляются с этой задачей. Перед лицом этого экспериментального учебно-апокалипти-ческого коллажа шестой главы «Комментария» Мандельштама мы можем связать два имени философов, которые особенно тесно связаны с комментариями Аверроэса на аристотелевские «De Anima», «Физику» и «Historia Animalium», в частности в том разделе, что посвящен спонтанному поколению, в котором Аристотель лихо сравнивает бабочку с душой. Аристотель рассуждает на тему появления бабочки в качестве примера самопроизвольного зарождения, «спонтанного происхождения», по словам Аристотеля, т.е. поколения существ, которые не приходят в бытие через совокупление животных, но появляются на свет из гнилой земли и трухи: «Эти существа, которые приходят в мир из гнилостной земли и остатков, – пишет Аристотель, – считаются спонтанно генерирующимися из этой материи, а не родившимися от существа того же вида»222222
Treatises of Aristotle / Ed. T. Taylor. – London, 1808. – P. 371.
[Закрыть]. Так, гусеница переходит в стадию куколки (становится «Нимфой» – еще один известный термин, придуманный Аристотелем), которая похожа на личинку. В гусеничном этапе она питается и производит продукты жизнедеятельности, но ни одно из этих событий не происходит во время окукливания. Мотылек, следовательно, получается из остатков гусеницы, будучи совершенно другим животным; согласно Аристотелю, это можно объяснить только процессом спонтанного зарождения.
Образ самопроизвольного зарождения никогда полностью не отвергался в XIX в. натуралистским движением (в том числе и неоламаркистским), что соответствует поэтике комментария Мандельштама и орнаментальным ассоциациям, как мы можем увидеть в примере последовательности в четвертой главе, где мы следуем за чередой спонтанно зарождающихся образов. Здесь каждое изображение зарождается из остатка предыдущего; генеалогическое продолжение не имеет значения. Комментарии, которые мы можем применить к этому «эксперименту», ориентированы на образность Данте, и те, которые соединяют космогоническую и библейскую поэтику Розанова с «его» Аристотелем, развиваются из размышлений о библейской генетике в шестой главе.
Комментарий как творение без деторождения
Какая ассоциация может скрываться за жестом Мандельштама в сторону Розанова, если он действительно приглашен в этой главе «Разговора»? Мы уже поэкспериментировали с одним из возможных толкований, но за ним кроется еще одно, которое привносит более обобщенный онтологический контекст «Разговора»; это объясняется во второй главе, которая, как мы признали, рассказывает не только о поэзии, но и о философии – поэзии и философии «на ногах». Ассоциации спровоцированы изображением бабочки в работах Мандельштама, что похоже на использование этого же образа Розановым223223
О фигуре бабочки у Розанова в литературном и философском контексте подробно писал Александр Медведев. См.: Медведев А.А. Бабочка // Розановская Энциклопедия / Сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 1266–1269; Медведев А.А. Энтелехия // Там же. – С. 2331–2332; Медведев А.А. Культура, икона и энтелехия в творчестве В.В. Розанова и П.А. Флоренского: К проблеме преемственности // Вестник Костромского госуниверситета им. Н.А. Некрасова. Серия «Культурология»: Энтелехия. – Кострома, 2005. – № 11 (80). – С. 107–111.
[Закрыть]. Восьмистишия, включающие стихотворение «О бабочка, о мусульманка» и написанные почти в то же время, что и «Разговор», могут быть восприняты как поэтическая реализация образа.
Нэнси Поллак тщательно отследила тематику «араба» и «бабочки» в обоих произведениях – «Разговоре» и «Восьмистишиях» как проявление проблемы, которую сам Мандельштам обозначил как «Иудейские заботы»: отношения между бессознательной и сознательной умственной работой, которая приводит к уходу поэта от множественности и трехмерного пространства. В чтении Поллак именно это восьмистишие проливает некоторый свет на присутствие Аверроэса в образах, что зарождаются в наших умах. «В контексте древнейшей ассоциации души с бабочкой, – пишет она, – представление Авероэсса как отголосок аристотелевской бабочки напоминает, в частности, комментарий Авероэсса на “De Anima” Аристотеля и его дискуссию на тему, поднятую Аристотелем по поводу бессмертия души. Мандельштам взывает к этой проблеме, называя бабочку “жизненочкой и умиранкой”»224224
Pollack N. Mandelshtam the Reader. – P. 66.
[Закрыть].
Важность этого образа для Мандельштама была отмечена гораздо раньше Надеждой Мандельштам, которая в своих воспоминаниях отмечает, что «бабочка всегда служит для О.М. примером жизни, не оставляющей никакого следа: ее функция – мгновение жизни, полета и смерть»225225
Мандельштам Н. Третья книга / Сост. Ю.Л. Федин. – М., 2006. – С. 347.
[Закрыть]. Имея это в виду, Михаил Гаспаров отмечает, что стихотворение «О бабочка, о мусульманка» из восьмистиший изображает бабочку в ее «становлении», когда она, рождаясь из куколки, как будто выходит из разорванного савана. Может быть, метафизическое чешуекрылое Аристотеля, окаймленное арабским орнаментом Аверроэса в «Разговоре» и в «Восьмистишиях», указывает не столько на бессмертие души, сколько на энтелехию – переходный процесс, который передается через маршировочный ритм преломления второй главы, а также в результате всего эссе, написанного в духе аристотелевской метафизики.
Но что бабочка, представленная метафизическим парафразом Розанова-«натуралиста», делает весь день? В любом случае она, вне всякого сомнения, совокупляется. Это означает, что «мир будущего» [«жизнь за гранью смерти»] преимущественно определяется «совокуплением». В «Разговоре», принимая тему Розанова как еще одну деталь конструктора, Мандельштам полемически отделяет идею совокупления и творческого акта от «великой тайны брака», т.е. от деторождения. На кону стоит движение, порожденное нагромождением комментариев, которые направлены в будущее, а это означает комментарии в Futurum. «Десексуализация» Розанова Мандельштамом позволяет нам увидеть его чистую онтологию и апокалиптику, с ее основным концептом энтелехии и ее филологическим эквивалентом – комментарием, в контексте других модернистов.
В аристотелевской энтелехии Розанова потенциальное бытие, которое стирает смерть с нашего горизонта, очень похоже на марксистско-аристотелевский концепт Эрнста Блоха «бытия пока еще нет» [нем. Noch Nicht Sein]. Блох называет этот опыт «тьмой прожитого момента», в котором мы «существуем» из самой глубины ядра [нем. Kern] нашего существования. Это звучит как мистика – и так это и есть. Ибо в своей первой книге «Дух утопии» [нем. Geist der Utopie], опубликованной в 1918 г., в том же году, что и «Апокалипсис» Розанова, Блох уже говорил о «тьме живого Бога». В понимании Блоха, ядро нашего существования – это самый интимный элемент нашего бытия, чистая «бытность нашего бытия». Оно остается темным и бессознательным внутри нас, потому что не может быть определено. Мы не можем «иметь это», потому что мы и есть «это». Так, и для Розанова, и для Блоха смерть разбивает существующую скорлупу нашего существования, но не может достичь «как-еще» [нем. noch-nicht] нереализованное ядро нашего существования, потому что оно «пока еще не пришло к бытию». Это ядро остается экстерриториальным в отношении к смерти.
Так, апокалиптическое событие может проецироваться только на будущее. У Блоха (и Розанова) ядро существования, таким образом, окружено защитной сферой «пока еще не жизни». Это не потому, что оно лежит в более высокой, непереходной сфере, как в платоническом дуализме, что, поскольку оно еще не «стало-этим» и находится в конфронтации со смертью – все еще в будущем; т.е. оно не может быть уничтожено, что приводит к вечной жизни без смерти. С этой последней надеждой мы имеем надежду на жизнь здесь и сейчас: «Там, где существующее приближается к своему ядру (нем. Kern), начинается постоянство, не окаменелое, а содержащее Novum без бренности (нем. ohne Vergänglichkeit), без тленности»226226
Bloch E. Das Prinzip Hoffnung – Kapitel III, 43–55. – Frankfurt, 1999. – Р. 1391.
[Закрыть].
Комментарий как орнамент
Апокалиптическая метафизика Розанова (и Блоха) приближена к поэтической онтологии Мандельштама и онтологии поэзии в целом. Даже возвращение Мандельштамом орнамента как отдельного вида искусства, как чистой медиальности («эйдос неэйдетического, эйдос меональности как таковой»227227
Лосев А.Ф. Самое само: Сочинения. / Сост. А.А. Тахо-Годи и П.В. Троицкий. – М., 1999. – С. 713.
[Закрыть], по выражению А.Ф. Лосева), рифмуется с эссе «Произведение орнамента», которое открывает «Дух утопии» (Geist der Utopie) Блоха. В случае Розанова надлежащая форма, которая захватывает сферу потенциального бытия, является тем, что находится в стадии эмбриона, как он называл свой первый сборник рукописных фрагментов. Таким образом, эта форма была вовлечена созвездием мандельштамовских образов. Если мы рассмотрим отрывок из «Разговора», о котором я говорил ранее, и стихотворение «О, бабочка…» через игровую полемику с Розановым (и ассоциации, которые Розанов вызвал в данном комментарии), мы также можем обнаружить, что она разворачивается в сложную поэтическую онтологию, которая выходит за рамки поэтики, касаясь космологических вопросов, которые Розанов и Блох ставят в эсхатологическом контексте, к которому и Мандельштам не был равнодушен. Здесь мы видим, что понятия неэмпирической реальности Розанова, Блоха и Мандельштама совпадают. Хотя Мандельштам и Розанов разделяют с Блохом идею имманентной целесообразности: рост в представлении эмбриологии, особенно во второй главе «Разговора» и в третьей главе «Путешествия в Армению»; расхождение в том, что у Мандельштама неуловимое ядро бытия не проецируется на утопическое видение. Его образ раскрывается в орнаменте и управляется «демонами интермедиальности», которые, как Олег Грабарь напоминает нам, «существуют и реально».
Так, слово «кайма» и ее определяющее прилагательное «арабская» не столь служит культурной, этнической и даже философской генеалогии Аверроэса, но, скорее, создает поэтику Арабески и самого орнамента и, следовательно, представленного ими комментария. Арабеска также является ключевой фигурой в четвертой главе, которая разворачивается из орнамента на коже Гериона: «Речь идет [в семнадцатой песне “Inferno”] о расцветке кожи Гериона. Его спина, – пишет Мандельштам, – грудь и бока пестро расцвечены орнаментом из узелков и щиточков. Более яркой расцветки, поясняет Данте, не употребляют для своих ковров ни турецкие, ни татарские ткачи»228228
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 171.
[Закрыть]. А позже в этой захватывающей поэтической последовательности нам еще раз напоминают, что главной задачей комментатора является открытие собственных координат, которые могут понять движение орнамента: «Ориентация потеряна. Ничего не видно. Впереди только татарская спина – страшный шелковый халат Герионовой кожи»229229
Там же. – С. 172–173.
[Закрыть]. Читая все эссе полностью с разделением глав лишь по нумерации, мы сталкиваемся с ощущением ускорения: Мандельштам не дает нам и секунды отдыха на чтение названия главы и подготовку к следующему шагу; мы должны следовать по траектории зигзагов орнамента, не останавливаясь.
Чтобы остаться в более широком контексте модернизма, и модернизма с розановским «эффектом», который мы по-прежнему пытаемся определить и описать, мы можем увидеть подобную заинтересованность в арабских сочинениях в «образах-мыслях» Беньямина, которые также корректируют мандельштамовские и розановские страницы богатым орнаментом комментария и неуловимым ядром первичного текста. «Если он [арабский трактат] формируется по главам, – пишет Беньямин в “Улице с односторонним движением” (1928), – у них нет словесных названий, но есть цифры. Поверхность его обсуждения не оживляется картинками, но сплошь покрыта множащимися арабесками. В декоративной плотности такой манеры презентовать материал различие между тематической и эксцентрической экспозицией исчезает»230230
Benjamin W. Selected Writings. T. 1. Ed. M. Bullock and M.W. Jennings. – Cambridge, 1996. – P. 428.
[Закрыть].
Эссе Мандельштама имеет аналогичную топографию, так как даже заголовки не способны тематически разбить непрерывность орнамента: тематические, эксцентрические и поэтические элементы переплетаются, составляя цельный эклектичный орнамент. Здесь греческий антемион сливается с арабеской. Таким образом, для Мандельштама комментарий является украшением и системой преломления волн звука и света. «Орнамент строфичен»231231
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 157.
[Закрыть], как отмечал ранее Мандельштам. В отличие от узора, который просто пересказывает, орнамент «сохраняет следы своего происхождения, как разыгранный кусок природы»232232
Там же.
[Закрыть]. В другом месте, в письме к В. Шкловскому, Мандельштам определяет орнамент мыслью: «Книжка моя говорит о том, что глаз есть орудие мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о “вещах”»233233
Там же. – Т. 3. – С. 509–510.
[Закрыть].
Так, в своем эссе Мандельштам пытается восстановить форму комментария, которая имеет, во-первых, как стилистическую функцию (в том, как слои комментария формируют орнамент), так и онтологическую; во-вторых, комментарий, как определенное украшение, откладывая в сторону сам объект, отражает его надлежащую модальность в контексте поэтического текста, неполноту рукописи. Усилия Мандельштама по введению комментария, особенно если учесть, что он был введен через фигуру семитского Аверроэса, – могут быть связаны с еврейской темой, одной из главных нитей его поэтической прозы 1930-х годов.
Поэзия и философия на колесах
Комментарий, который мы развернули из диалектического напряжения между греческим (Аристотель) размышлением о происхождении и семитской (Аверроэс) промежуточностью, как видно через скрытую поэтическую полемику с Розановым, приходит к еще одной нити, ведущей к Розанову, который является одним из основных концептуальных персонажей в эссе «О природе слова» (1922). В этом эссе Мандельштам противопоставляет внимание Розанова к греческой филологии и слепоту Петра Чаадаева к греческой телеологии русского языка, как и Андрея Белого, говорящего о подчинении языка спекулятивной мысли. Розанов, как поэтически утверждает Мандельштам, стремится к сохранению привязки России к слову, т.е. к филологической культуре – проявлению эллинской природы русской речи.
Данный возврат к филологии можно рассматривать как возвращение к внедискурсивному языку или описание языка как сам факт, что кто-либо говорит или пишет. В качестве литературного аналога такой филологии можно привести гоголевского Петрушку и его модель чтения из «Мертвых душ». «Что он любил – не то, что он читал, – рассказчик говорит, – а чтение само по себе, или, лучше сказать, сам процесс чтения; факт, что из букв всегда возникает какое-нибудь слово, обозначающее черт знает что»234234
Гоголь Н.В. Соч. в 5 т. – СПб., 1893. – Т. 4. – С. 17.
[Закрыть]. Смысл такого отношения заложен в том, что Поль де Ман, а затем и Джорджо Агамбен называли опытом материальности языка, который блокирует доступ к суждению. Язык Розанова (и способы его выражения) достигает того, что является «концом языка». Он сводится к графическим рудиментам, где задается исконное значение языка. Таким образом, можно утверждать, что, называя Розанова «самым бесполезным и бесплодным писателем», Мандельштам на самом деле был далек от какой-либо негативной критики, которую мы воспринимаем по первому впечатлению. Говоря о бесполезности Розанова как писателя (не как поэта), и особенно глядя на него сквозь призму «Разговора о Данте», Мандельштам имел в виду скорее определенное отношение к языку, которое находится за рамками его восприятия. Мандельштам воспринимает своеобразный лингвистический опыт Розанова как поиск неуловимого ядра; Розанов в образе, представленном Мандельштамом, в поисках ядра, разбивает каждое слово как орех, каждое высказывание, оставляя нам только пустые скорлупки. Наше понимание отношений комментария и прокомментированного оригинала аналогично. Хотя ядро и сам исходный текст всегда оставались у Розанова в защитном поле «пока еще не-бытия» (Noch-Nicht-Sein), говоря термином Блоха, – он продолжал изучать все глубже и глубже, умножая комментарии, как ореховые скорлупки, которые формировали опыт языка в его материальности. Что касается языка, результат деятельности может быть прослежен пустыми скорлупками комментария. Если говорить в контексте онтологии Розанова, это – еще одна форма опыта чистой потенциальности, в данном конкретном случае, сама идея литературы как культурологии, филологии, т.е. опыт чистого представления, или, по-другому, потенциальность репрезентации. Розанов, если он является своеобразным номиналистом и ищет имена, которые всегда находятся под видимой поверхностью, то он всегда ищет истинное значение этого слова, но никогда не достигает его. Мандельштам в качестве примера такого филолога-материалиста, кто пытается достать слова из скорлупы комментария, исследуя субъективные тени, преддискурсивного слова, связывает «проблемы» Розанова со словом «смерть». «Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого – “смерть”». Мандельштам затем продолжает: «Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Достаточно ли это как основание для называния? Имя уже определение, уже “что-то знаем”. Так своеобразно Розанов определяет сущность своего номинализма: вечное познавательное движение, вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что его никак не разгрызть»235235
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 72.
[Закрыть]. Розанов был не слишком заинтересованным в достижении «невыразимого» в языке, а скорее, как Беньямин, принимал его пределы, т.е. не веря в возможность нахождения ядра, трансцендентной сути, но вместо этого стремился к новому открытию его исконной чистоты. Следы субъективного опыта языка – «отметки резкой ногтей» могли бы быть найдены прямо на полях в тексте комментария. Таким образом, в диалектической модели Розанова в контексте эллинско-семитского культурного наследия хранитель эллинского филологического ядра является также семитским комментатором, потерянным в музыке цитат и комментария, является тем, кто несет в себе следы дыхания Бога, его непосредственный опыт чистой потенциальности. Если мы будем продолжать читать этот отрывок из эссе «О природе слова», мы придем к фигуре комментатора, который одновременно философ, филолог и поэт «всегда на ногах» или, возможно, учитывая мещанство Розанова, на колесах брички, такой явилась бы поэтическая поправка, сделанная Мандельштамом: «Критик должен уметь проглатывать томы, отыскивая нужное, делая обобщения, Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в строчке Некрасова “Еду ли ночью по улице темной” – первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание – вряд ли сыщется другой такой русский стих в всей русской поэзии»236236
Там же.
[Закрыть]. Розанов-Петрушка, по-видимому, еще один поэтический двойник Данте, который не актуализирует свои слова на гербовой бумаге, но вместо этого держит их вечно нереализованными в виде рукописей, литературных «эмбрионов», и никогда не завершенных комментариев. Через эти формы «бесформенности» – «на правах рукописи» – Розанов реализовал свой проект «рукописности души», литературной энтелехии как в поэтическом, так и в онтологическом смысле этого слова. (NB: Мандельштам посвящает начало пятой главы понятию рукописи.) При проведении этого поэтическо-онтологического проекта образ Розанова, как изобразил его Мандельштам, был, как и образы Аристотеля, Ницше, Данте и Баратынского (который постоянно пребывал в поиске «новых подошв», подвешенный между феноменальным и вечным), в постоянном движении, но, в отличие от других поэтических персонажей в работе Мандельштама, он находится на «колесах», «на ночном извозчике». Таким образом, даже мещанство Розанова, в котором он был обвинен многими, в том числе Николаем Бердяевым, раскрывается в трудах Мандельштама, с другой стороны, показывая его поэтическим и космогоническим деятелем и сторонником творческого движения, движения в тени пропилеев (комментариев), что спускается в неоднозначность языковой материи – ее потенциала репрезентации.
Перевод с английского Маши Гилиной
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































