Текст книги "Литературоведческий журнал №37 / 2015"
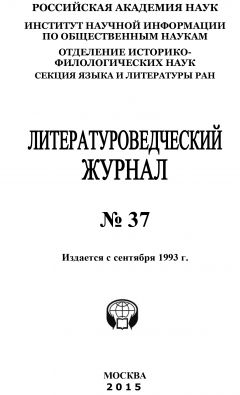
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
* * *
Разговор о жизнеописаниях Данте в русской культуре первых пореволюционных десятилетий закономерно подводит к сопоставлению двух типов целостного восприятия создателя «Комедии», явленных, соответственно, Д.С. Мережковским и А.К. Дживелеговым. Сюжет этот в некотором смысле провокативный. Сама постановка такой проблемы нуждается в оправданиях. Прежде всего потому, что Мережковский и Дживелегов представляют принципиально антагонистичные модели взгляда на культуру как таковую.
Один из исследователей-биографов, Мережковский, – художник-символист, тотальный мифологизатор, сделавший борьбу с позитивистским каноном «приземленного» восприятия культуры главным объектом своих филиппик еще в 1890-е годы и этому боевому кодексу хранивший верность до конца своих дней. Другой, Дживелегов, его вроде бы прямая противоположность. Противоположность во всем. И политически: между идеологией «религиозной общественности» Мережковского 1900–1910-х годов и леволиберальным кадетством Дживелегова – дистанция вполне впечатляющая. И, само собой, «культурологически»: Дживелегов – блистательный позитивист, один из наиболее последовательных представителей социологической школы в российской и советской историографии.
Однако у этого антагонизма просматривается общая почва, общая предпосылка эпистемологических систем, которая, собственно, и позволяет сравнивать между собой двух культуртрегеров. Проще говоря, Мережковский и Дживелегов, конечно, фигуры очень разные, но их – и это особенно примечательно – интересует общий круг проблем, их внимание привлекают очень близкие, зачастую одни и те же темы. Порой кажется, что Дживелегов следует прямо по пятам Мережковского – романиста и биографа, создавая, к примеру, работы об Александре I, Леонардо, Микеланджело и Возрождении в целом198198
См. монографии и сборники статей А.К. Дживелегова: Александр I и Наполеон. – М., 1915; Леонардо да Винчи. – М., 1935; Микеланджело. – М., 1938; Начало итальянского Возрождения. – М., 1908; Очерки итальянского Возрождения. – М., 1929 и др.
[Закрыть]. Впечатление, конечно, ложное. Но за внешним тематическим сходством, оттененным принципиальной контроверсивностью интерпретаций интересующих сюжетов, неизбежно кроются интересные, порой и неожиданные, и красноречивые точки глубинного схождения. Эти интерпретации друг другу противостоят по самой своей природе. Но тем интереснее не только обозначать разломы между метаописательными стратегиями Мережковского и Дживелегова в книгах, скажем, на ренессансные сюжеты, но и выявлять в них неожиданно общее.
Работы о Данте – особо благоприятный материал такого рода. Книги Мережковского и Дживелегова уже потому соблазнительны для сравнения, что это две единственные развернутые биографии создателя «Комедии» в первой половине XX в., написанные по-русски. Они выходят приблизительно в одно и то же время – в 1930-е годы (Дживелегова – в 1933-м, Мережковского – в 1939-м). Но выходят в совершенно разных социально-политических и идеологических контекстах: одна – в эмиграции, в Брюсселе, другая – в СССР, в московской серии «ЖЗЛ». Диалектика сходства и различий здесь работает едва ли не на всех уровнях.
Вначале о различиях. Они лежат на поверхности. Книга Мережковского о Данте – труд ангажированный, но с обратным дживелеговскому знаком.
Творческая история работы писателя-символиста над биографией итальянского поэта воссоздана в публикациях Т. Пахмусс199199
Pachmuss T. Merezhkovsky in exile. The master of the genre of biographie romancée. – N.Y. – Bern – Frankfurt/M – Paris, 1990. – Р. 183–196; Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Данте. Борис Годунов: Киносценарии. – Нью-Йорк, 1990. – С. 7–21.
[Закрыть], Н. Каприольо и Г. Шпенглера200200
Caprioglio N., Spengel G. Dmitrij Merezkovskij e Dante Alighieri // Dantismo russo e cornice europea. – Firenze, 1989. – Vol I. – P. 341–351.
[Закрыть], М.-Л. Додеро Кос-та201201
Додеро Коста М.-Л. О книге Мережковского «Данте» // Д.С. Мережковский: Мысль и слово. – М., 1999. – С. 82–88.
[Закрыть], автора этой статьи202202
Полонский В.В. Д.С. Мережковский – писатель и политик // Вестник истории, литературы и искусства. – М.: Собрание; Наука, 2008. – Т. 5. – С. 253–264; Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX – начала XX века. – М., 2008. – С. 237–259.
[Закрыть]. Поэтому позволим себе не повторять сказанного.
Собственно фигура Данте у Мережковского-биографа сугубо функциональна. Писателя он интересует не как полноценная индивидуальность, но прежде всего как потенциальный святой церкви третьего завета, который всю жизнь нес в себе желание избавиться от символистской антиномии духа и плоти, спасения и проклятия и т.п. в «тайне трех», грядущем откровении Святого Духа, откровении свободы, в результате которого свое окончательное завершение должны были обрести Ветхий завет – завет закона, и завет Новый – завет любви. Все это задает тотально символизированное пространство биографии Данте, в которой даже совершенно казалось бы чуждые неорелигиозным материям реалии истории Флоренции рубежа XIII–XIV вв. подчинялись логике мифогенеза, заложенной Мережковским в образ Данте.
Так, по Мережковскому, обуявший Данте после смерти Беатриче «бред безумия», в результате которого поэт пишет «Послание всем государям земли», – это не что иное, как вещее предвиденье историософских таинств, чуть ли не «астральных» вихрей. Вследствие этих вихрей и закончились мир и благоденствие во Флоренции, где место конфликта между гвельфами и гибеллинами заняли столкновения между «белыми» и «черными». Иными словами, конфликт между «белыми» и «черными» – следствие мистической драмы личной жизни Данте, потерявшего Беатриче.
Ясно, что у Дживелегова – биографа Алигьери – всё прямо наоборот. В его книге, с точки зрения литературной, кстати, написанной гораздо более крепко, интереснее для читателей, история жизни Данте тонет в мастерски темперированной социологии Флоренции эпохи перехода от феодальных форм коллективистско-вассального самосознания к ярко выраженной индивидуальности пополана – буржуа эпохи раннего этапа накопления капитала.
Данте Дживелегова – плод тектонических общественно-политических сдвигов города на этапе постепенного врастания в грядущее Возрождение. Флоренция Мережковского – это экстраполяция духовных драм, переживаемых Данте, их выведение в пространство внешней истории. Но в обоих случаях биографическая задача в сущности подчиняется целевой установке, совершенно внеположенной биографизму как таковому – и в советской книжке, изданной в серии «ЖЗЛ», и в символистском эмигрантском сочинении, которое вроде бы создавалось как роман. В случае с Данте сочинения в жизнеописательном жанре, рожденные по разные стороны железного занавеса, оказались в равной степени далеки от канона biographie romancée – едва ли не господствующего жанра эпохи пресловутого конца романа в европейской литературе межвоенной поры. В этом смысле жанровое мышление неорелигиозного символиста-мифологизатора и культуролога-позитивиста в глубинных механизмах смысло-порождения во многом сходно.
Не случайно при портретировании Данте оба автора превращают в цитатный лейтмотив одни и те же слова из «Пира»: «Есть в душе моей разделение между знанием и верой». Концепт внутренней раздвоенности, противоречивости личности и культурной роли Данте интегральный и у Мережковского, и у Дживелегова. Другое дело что, по Мережковскому, это раздвоенность ищущего грядущего духовного синтеза утопического сознания, а, по Дживелегову, – конфликт между самоидентификацией Алигьери как убежденного «гибеллина» в поздний период жизни, сторонника средневекового рыцарско-аристократического этоса, и его объективным самосознанием как пополана, в котором volens nolens проговаривает себя дозревшее до возрожденческих реформ мироощущение буржуа.
Такой антиномии изоморфно у Дживелегова и противоречие, свойственное «Комедии», с одной стороны, как энциклопедии цельного католического средневекового миросозерцания, а с другой – как художественному факту принципиально новой природы, открытой к психологической достоверности, натуралистической точности выражения и неожиданности метафорических решений, порожденных развитым индивидуалистическим сознанием предренессанса. И даже такое несходство между Дживелеговым и Мережковским изнутри несколько размывается. Пусть советский ученый пренебрегает (по вполне понятным идеологическим причинам) упоминанием Ландино о том, что Данте в юности был послушником-францисканцем (Мережковский на этом строит очень многое в биографии духовного бунтаря Данте) – эту лакуну Дживелегов покрывает с лихвой акцентированием ересей, понимаемых очень широко – от разного рода манихейских систем (катаров, альбигойцев и т.п.) до идей того же Иоахима Флорского, столь любезного сердцу Мережковского, и даже францисканства. Для него ересь – естественная форма жаждущей выхода креативности в сознании позднесредневекового западноевропейского города на пороге ренессансной перестройки своей социальной структуры. И по сути, такой социологизм лишь льет воду на мельницу хилиастского символизма Мережковского с его еретиком Данте, «беременным» Святым Духом.
Примеров, иллюстрирующих несходство подходов к Данте Мережковского и Дживелегова, можно привести очень много. Но, если приглядеться, то в технологии решения биографической задачи общего в них будет гораздо больше, чем различий. При этом Дживелегов, конечно, сильнее и интереснее как ученый и даже писатель, Мережковский – как интерпретатор «Комедии», литературовед и критик, способный на глубокие, хотя и слишком вольно-эссеистские ассоциативные броски от Данте к пространствам русской и мировой культуры, в результате чего двойниками автора «Комедии» артистично представлены, скажем, и блаженный Августин, и Гоголь, и Иван Карамазов. Но в обработке собственно биографического материала оба они – и Мережковский, и Дживелегов – чистые функционалисты, мастера эпохи «больших идеологий», которая очень часто редуцировала неповторимую личность к внеположенной ей как таковой задаче, и не очень важно, какой природы была эта задача – религиозно-утопистской или позитивистско-социологической.
Железный занавес в сфере культурной типологии порой оказывался едва ли не фикцией.
Поэтическая онтология комментария: диалог с В. Розановым в «Разговоре о Данте» О. Мандельштама
М. Оклот
Аннотация
Данная статья посвящена комментарию к «мысле-образу» из второй главы «Разговора о Данте» (1933) О.Э. Мандельштама (1891–1938). Рассматриваются три концептуальных аспекта комментария: историософский, онтологический и эпистемологический; последний из упомянутых также раскрывает вопрос о поэтическом образе. Выявляется объединяющая эти аспекты завуалированная, игровая полемика Мандельштама с В. Розановым (1856–1919), чье присутствие открывает возможность для «онтологической» интерпретации образов Мандельштама.
Ключевые слова: О.М. Мандельштам, В.В. Розанов, Э. Блох, Данте, комментарий, онтология.
Oklot M. Poetic Ontology of Commentary: Conversation with Rozanov in «Conversation with Dante»
Summary. This article is a commentary on one «thought-image» from Section Two of Osip Mandel`shtam’s (1891–1938) «Conversation about Dante» (1933). According to the regime of the proposed commentary, Mandel`shtam introduces in his image three conceptual dimensions of the commentary itself: historiozophical, ontological, and the epistemological; the last mentioned also opens the question of the poetic image. The question of what unites these dimensions of the commentary is answered on the inter-textual plane, which includes a hidden, playful polemic with Vasilii Rozanov (1856–1919), whose presence opens a possibility of the «ontological» interpretation of Mandel`shtam’s image.
Комментаторство – глубоко русская, национальная черта – «отметка резкая ногтей».
В.А. Мордвинова
Чудо близости какой-то ноуменальной.
В.В. Розанов
Zaś co do działania przezprzybliżenie (approximative), te – wydawa mi się być najbardziej doniosłym atrybutem ducha ludzkiego.
В 1908 г. молодой О. Мандельштам написал из Парижа своему первому литературному наставнику В.В. Гиппиусу, что прочел В.В. Розанова и «очень полюбил его, но не то конкретное культурное содержание, к которому он привязан своей чистой библейской привязанностью»204204
Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. – М., 2010. – Т. 3 – C. 358.
[Закрыть]. Это раннее примечание важно для большего понимания тонкого текстуального союза Мандельштама с Розановым, к которому он испытывал неизменную симпатию, стараясь смотреть за пределы его идеологических и политических убеждений, или же смотрел на них сквозь призму карнавального духа и присущей ему буффонады, что было несколько отталкивающим даже для тех, кто имел с ним некое интеллектуальное сходство, как, например, Д.С. Мережковский. Подобно Андрею Белому, Михаилу Кузьмину или Алексею Ремизову, Мандельштам в создании своего собственного, сокровенного образа Розанова и его творчества руководствовался скорее логикой искусства и поэтического дискурса, чем идеологическими принципами. Отношение Мандельштама к Розанову сформировалось прежде всего из чувства едва уловимой поэтической близости. Так, для того чтобы понять симпатию Мандельштама к Розанову, нам необходимо воссоздать игровой и завуалированный диалог Мандельштама с Розановым, при этом рассматривая его как вид поэтической полемики или, другими словами, ритмичный ответ на создаваемые им образы.
Главная идея этого эссе состоит не в том, чтобы исчерпать все возможности, посеянные демоном сравнения, а скорее проследить завуалированное присутствие Розанова в «Разговоре о Данте» (1933), в котором Мандельштам использует фрагменты из произведений Розанова, тем самым вовлекая его в скрытую полемику сквозь призму поэтических ассоциаций. Мы также можем смело предположить, что весь текст «Разговора о Данте» представляет собой сложный поэтический комментарий, аналогичный многослойным деталям комментариев Розанова, что само по себе подразумевает наличие как поэтической, так и философской интерпретаций. Раскрывая эти вопросы, в процессе мы также попытаемся максимально приблизиться к поэтическому и онтологическому пониманию комментария в модернизме.
Что эти три фигуры – Мандельштама, Данте, Розанова – имеют общего? У представленных Мандельштамом образов Данте и Розанова появляется один и тот же помощник в их опытах – Иоанн Богослов, автор последней библейской книги «Откровения». Важное значение для нашего понимания имеет то, что в диалоге со своим Розановым Мандельштам, как сам Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» (1916–1917), ссылается на «Апокалипсис» «ветхозаветного» Иоанна Богослова («вся библейская космогония с ее христианскими придатками»), подчеркивая тем самым его творческий потенциал. «В двадцать шестой песне “Paradiso”, – пишет он, – Дант дорывается до личного разговора с Адамом, до подлинного интервью. Ему ассистирует Иоанн Богослов»205205
Там же. – Т. 2. – С. 182.
[Закрыть]. «Апокалипсис», как и в случае с Розановым, оказывается комментарием к книге Бытия.
Комментарий и его образ
Во второй главе «Разговора о Данте», экспериментируя над вопросом природы поэтической эрудиции, Мандельштам собирает особый образ в следующих тропологически смешанных предложениях:
«Аристотель, как махровая бабочка, окаймлен арабской каймой Аверроэса: Averrois, che il gran comento feo (Inf. IV, 144).
В данном случае араб Аверроэс аккомпанирует греку Аристотелю. Они компоненты одного рисунка. Они умещаются на мембране одного крыла»206206
Там же. – С. 159.
[Закрыть].
Данный образ как нельзя лучше справляется с поставленной задачей; он также провоцирует появление вопросов, обращенных к тексту и за его пределы, – вопросов, касающихся розановской онтологии комментария. Мандельштамовские стратегии «склеивания» и «сборки», которые, как мы надеемся, продвинут нас на шаг дальше в сторону понимания логики онтологических образов Розанова и траектории собственных поэтических ассоциаций Мандельштама в этих трех предложениях, кажется, являются оплотом органического подхода к построению комментария.
Каталог философов Данте является частью этого образа и возможным ответом на вопрос о природе эрудиции Данте, или же, в общих чертах, вопрос цитирования и комментария. Такое парное сочетание вопроса и образа, отвечающего на него в творчестве Мандельштама, – не единственный случай, который может быть прочитан и проанализирован именно как совокупность образов различной формальной сложности и концептуальной плотности.
В тексте каждый образ уникален, являясь при этом самостоятельной единицей и в то же время выступая частью динамичной поэтической структуры. В модернистской манере целый раздел оформлен космогонически: начинается с погружения в поэтическую материю – в метапоэтические истоки, и заканчивается поэтической программой, которая вырисовывает фигуру «живой медицины», задача которой – проникнуть в многочисленные состояния поэтической материи. Филологический эквивалент имманентной силы, которая управляет этим космогонико-поэтическим процессом – это традиция комментария.
Много было написано о поэтике комментария Мандельштама, в первую очередь Нэнси Поллак, которая в своей книге «Мандельштам-читатель»207207
Pollak N. Mandelshtam the Reader. – Baltimore, 1995.
[Закрыть] дает через призму взглядов «читателя» характеристику Мандельштама. Здесь, однако, мы должны ограничиться смелой идеей о том, что в данном конкретном отрывке Мандельштам отвечает Розанову.
Комментаторы новейшего издания собрания сочинений Мандельштама, при обсуждении образа Аристотеля, с которого мы начали, предполагают его сходство (в простой причинно-ассоциативной модели и без дополнительных объяснений, увы) с тем образом, который используется Розановым для объяснения его аристотелевской энтелехии в «Апокалипсисе нашего времени» (1917–1919)208208
См.: Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2 – С. 544.
[Закрыть]. Давайте попробуем закончить начатое, дабы более интенсивно заняться этой, бесспорно одной из наиболее плодотворных троп, сосредоточив внимание на четырех элементах, которые составляют образ, представленный вначале: арабская кайма, Аверроэс, Аристотель и бабочка. С помощью этих четырех фигур Мандельштам вводит три концептуальных аспекта в комментарии: историософский, онтологический и эпистемологический; последний из упомянутых также раскрывает вопрос о поэтическом образе.
Зацепка: Что есть розановский комментарий?
В одном из своих интервью Джорджо Агамбен жаловался, что примечания, кавычки, библиографические ссылки, разнообразные «см. также…» и т.п. характеризуют предмет познания как чревовещатель, расположившийся за якобы говорящим предметом. «И по этой причине, – как говорит Агамбен, – сегодняшняя академическая проза так часто разочаровывает, отделяя “аутентичный языковой опыт” от “знания”»209209
См.: Agamben G. Un’idea di Giorgio // Reporter. – № 9–10. – Nov. – 1985. – P. 33. Цит. по: Leland de la Durantaye. Giorgio Agamben: A Critical Introduction. Kindle Edition. Kindle Locations 1796–1798.
[Закрыть].
Это не означает, что Агамбен отвергает комментарий. Наоборот, создается впечатление, что он находит свою работу в этой же нише в своем постхайдеггеровском проекте по сохранению познания языка и изучения его отношения к самому бытию. «Вместо того чтобы называть имена мастеров, – говорит Агамбен, – я хотел бы назвать две существующие модели, которые постоянно вдохновляют меня: это средневековый комментарий, а также краткие и эрудированные заметки великих филологов XIX века»210210
Agamben G. Un libro senza partia: Giorgio Agamben intervista di Federico Ferrari. – EUtropia. – 2001. – P. 45. Цит. в Leland de la Durantaye, Giorgio Agamben: A Critical Introduction. – Ibid., 1800–1801.
[Закрыть]. Согласно монографии по исследованию творчества Агамбена аннотация является основополагающим элементом в организации его работ. В конце «Младенчества и истории» Агамбен приводит в качестве признака кризиса нашей культуры «потерю комментария и аннотации как творческих форм»211211
Agamben G. Infancy and History. On the Destruction of Experience / Trans. L. Heron. – London, 2007. – P. 144.
[Закрыть]. Этот комментарий может вызвать удивление, учитывая, что мы не склонны сегодня думать о комментарии и аннотации так, как будто они когда-то были творческими формами. Касательно стороны терминологических разъяснений, они кажутся типично нетворческими.
И позже судьба направляет розановские комментарии точно в этом же направлении; по мнению Мандельштама, он, однако, заинтересован не столько в творческом вводе комментария в текст, сколько в восприятии комментария как самостоятельной творческой единицы. И таковым является подход к комментарию у самого Розанова. В рецензии на книгу Д.С. Мережковского «Толстой и Достоевский» он называет автора комментатором в глубоком смысле этого слова и видит его истинную натуру в комментарии. «Свои собственные мысли Мережковский, – пишет Розанов, – гораздо лучше высказывает, комментируя другого мыслителя или человека; комментарий должен быть методом, способом, манерой его работы. Как только он остается один, без имени и факта около себя, – он мутен, неясен. Чтобы бульон очистить, нужно опустить сырое яйцо в него. В мышление Мережковского нужно опустить кого-нибудь, не Мережковского, и тогда Мережковский становится прозрачен»212212
1900-й год в неизвестной переписке, статьях, рассказах и юморесках Василия Розанова, Ивана Романова-Рцы и Петра Перцова / Сост. А.П. Дмитриева. – СПб., 2014. – С. 367.
[Закрыть]. В более поздних концептуальных работах Розанов, как и Мережковский, относит или, скорее, даже возводит свои пути обхода (а именно комментарии и лирические вставки) в сноски и разнообразные «см. также», которые становятся динамическим центром его текстов, например в «Литературных изгнанниках» или еще ранее в «Темном лике». Следовательно, то, что попытался сделать Мандельштам в своем комментарии к эклектичной поэме Данте, которая стоит на пересечении платонических, стоических, перипатетических, неоплатонических и схоластических традиций, – это попытка возрождения творческой силы комментария и аннотации.
Комментарий как образное мышление
Мандельштам пишет в четвертой главе «Разговора», представляя читателю основной поэтический, семантический и структурный блок «Божественной комедии»: «Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное мышление»213213
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 170.
[Закрыть]. Мышление в образах, которое охватывает динамичные отношения поэзии, философии и физиологии, в первую очередь напоминает концепцию образа Бергсона, которая остается актуальной также и относительно Розанова. Напомним, что Бергсон при обсуждении невозможности искусства захватить «абсолют», под которым он подразумевал чистую и исчерпывающую самопрезентацию изнутри самого рассматриваемого объекта, приводил инструкции для достижения идеальной формы художественного образа, который в большей степени являлся бы не репрезентацией, а презентацией.
В понимании Бергсона образ «касается всех тех материалов, которые представлены в нашей нервной системе с помощью органов чувств. В их представлении нам, эти вещи буквально прикасаются к нам»214214
Uhlmann А. Samuel Beckett and the Philosophical Image. – Cambridge, 2006. – P. 7.
[Закрыть]. Таким образом, в искусстве выстраивания образа мир сотворен, а не изображен; изображения не отсылают нас в мир за подтверждением, а формируют часть нашего мира. Так, образ, по словам Бергсона, «держит нас в конкретности». Его ассоциативный ряд ощущений, пойманных словами, рассказами, концепциями и поэтическими образами, тоже определяет «интимное» у Розанова, если следовать за интуитивным образом Розанова в этом эссе; Мандельштам как нельзя ближе к этой «конкретной» эстетике.
Но теория образа Мандельштама также имеет и церебральный аспект. Чтобы увидеть его более ясно, мы можем связать его «мышление в образах» с «мыслью-образом» (нем. Denkbild), с понятием образа, которое Теодор Адорно однажды отнес к художественной прозе и к эссе современников Мандельштама – модернистов Вальтера Вениамина и, косвенно, Эрнста Блоха. Концептуальная и эстетическая взаимность мысли-образа показывает трудности, которые Адорно диагностирует в своей «Эстетической теории» вокруг того, «что искусство нуждается в философии, и интерпретирует ее для того, чтобы сказать то, что она не может выразить словами, в то время как только искусство в состоянии сказать все без единого слова»215215
Adorno T. Aesthetic Theory. – Minneapolis, 1998. – Р. 30. Цит. по: Richter G. Thought-Images. Frankfurt School Writers’ Reflections from Damaged Life. – Stanford, 2007. – Р. 2.
[Закрыть].
Однако, по Мандельштаму, в образном мышлении концепт всегда вторичен, а на первый план выступают превращаемость и конвертируемость поэтического материала, характеризуемые той же напряженностью, что и «мысль-образ». «Образное мышление у Данте, – пишет Мандельштам, – так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью»216216
Мандельштам О.Э. Цит. соч. – Т. 2. – С. 173.
[Закрыть]. Тем не менее последовательность образного мышления во второй главе включает в себя как философию, так и поэзию. Завуалированное присутствие Розанова напоминает нам, что второй ответ на вопрос образованности дает отмашку в сторону философии. Поэзия, особенно если рассматривать ту, что представлена во второй главе «Разговора о Данте», идет рука об руку с философией; они сходятся в динамическом блоке, который подвергается ассоциативным, а также концептуальным преобразованиям, таким, как рассматриваемые здесь образы. Таким образом, формулировка этих динамичных отношений может быть обобщена «эстетической задачей художника», которая, как пишет Д.Х. Лоуренс, заключается в соединении метафизики, теории бытия, ощущения самого бытия. Метафизика, однако, «должна всегда поддерживать художественную цель помимо сознательной цели художника»; и если она выступает на переднем плане, то это всегда усилие, призванное покрыть художественное фиаско. Не всегда апокалиптическая критика романа Мандельштама вдавалась во все тонкости этого отношения.
Розанов как апокалиптический писатель (таким его видел Шкловский) также избегал остенсивной метафизики, выхода из философского дискурса; но, в отличие от Мандельштама, Розанов оставлял свой поэтический дискурс в зоне «пока еще не» (нем. Noch-Nicht-Sein). Вернемся к нашим образам, которые почти в каждом пункте стремятся ускользнуть от внимания и отправить нас по направлению декоративных, интерпретирующих обходных путей. Образы Аристотеля и Аверроэса, кроме того что составляют орнаментальное обрамление произведения, как и любой элемент «Разговора о Данте», открыты для новых ассоциаций. Эти два образа производят некоторый избыток смысла, тем самым сохраняя текст в дискретных пределах метафизики, в движении между «теорией бытия» и «самим бытием».
Поэтика и синтаксис предложения, в котором Мандельштам цитирует Данте, представляет собой также и образ «цитатной оргии»217217
Там же. – С. 160.
[Закрыть]; это соединение эпического тропа, а именно сравнения («Аристотель, как махровая бабочка») и метафоры в родительном падеже («окаймлен арабской каймой Аверроэса»), которую Уго Фридрих идентифицирует как особенно характерную для модернистской поэтики (Мандельштам идентифицирует то же соединение в третьей главе «Разговора о Данте»). «Что симптоматично для такой метафоры – так это то, что она в большей степени, чем другие поэтические тропы, допускает семантическую дисгармонию и волшебное объединение взаимно чужеродных вещей»218218
См.: Friedrich H. The Structure of Modern Poetry: From the Mid-Nineteenth to the Mid-Twentieth Century / Trans. J. Neugroschel. – Evanston, 1974. – P. 168.
[Закрыть]. Этот образ и тропологически, и филологически смещен, что ведет к диалектическому диссонансу в некотором смысле, когда прошлое, настоящее и будущее вспыхивают на секунду созвездием, в отличие от герменевтического образа, в котором они взаимно и непрерывно освещают друг друга. Вместо того чтобы служить в качестве иллюстрации или представления прошлых событий, диалектическое мышление создает среду, которая преподносит прошлое, настоящее и будущее в новых отношениях, всегда ориентированных в будущее. Как пишет Мандельштам в пятой главе, песни Данте «требуют комментария в Futurum».
Комментарий как семитская модальность
Сравнительная модальность как мера существования в поэтической онтологии Мандельштама подсказывает нам, что возможно найти и «эмпирические» доказательства диалога Мандельштама с Розановым в «Разговоре о Данте». И действительно, в очаровательно-подражательном гегелевском эссе «Место христианства в истории» (1901; 1904), одном из самых популярных в свое время из всех написанных Розановым, мы находим мысль, которая полемически связывает Розанова с прокомментированным здесь образом Мандельштама; нас интересует не столько логика историософского аргумента, сколько структура поэтических ассоциаций.
Эссе Розанова о христианском синтезе греческой и семитской чувствительности включает в себя ссылку на Аверроэса в качестве примера архетипического комментатора. Как и у Мандельштама, Аверроэс посещает эссе Розанова через «Божественную комедию»: «Аверроэс, о котором с таким уважением вспоминает Данте в “Божественной комедии”, носил в Средние века прозвание “великого комментатора”. “Аристотель объяснил природу, а Аверроэс объяснил Аристотеля”, – говорили о нем с гордостью арабы. И во всём этом, чем гордились арабские ученые и за что прославляли их другие народы, видно одно – это отсутствие инициативы, недостаток творческого начинания во всём»219219
Розанов В.В. Собр. соч.: Религия и культура. Статьи и очерки 1902–1903 гг. / Cост. А.Н. Николюкин. – М., 2008. – С. 12.
[Закрыть].
Трудно представить себе более прочную основу для аргумента присутствия Розанова в работе Мандельштама, чем поразительное сходство и взаимодополняемость этого отрывка и мандельштамовского образа. В «Апокалипсисе нашего времени» Розанов вернулся к этой мысли в главе «Надавило шкафом» (которая следует за главой «La Divina Commedia» [sic!]). Но в этот раз он видел в семитском импульсе и христианской цивилизации цепи застывших и тяжелых комментариев, которые не могут производить ничего, кроме стонов комментатора, раздавленного их тяжестью. Таким образом, «стоны» «маленького еврея из Шклова» указывают на апокалиптическое соединение семитской апокалиптической чувствительности, которую определяет непосредственное ощущение дыхания ветхозаветного Бога, с эллинско-христианской чувствительностью. Как он напишет позже: «Апокалипсис – космический суд над христианством». Таким образом, используя арабскую кайму Аверроэса в поэтической основе, Мандельштам дал Розанову ответ, защищая культуру комментария, как ни парадоксально, в духе самого Розанова, который нашел отражение в стонах «маленького еврея из Шклова».
В эссе «Место христианства в истории» Розанов также восходит к своему раннему увлечению Аристотелем как неуловимым перводвигателем (который превратил сферу бытия в место мерцающих возможностей), который также является одним из главных героев мандельштамовского текста. В этом эссе Аристотель выступает как философ, первый (и последний) среди греческих философов, который создал идею «Христианского» Творца мироздания, но который потом был погребен под арабскими, а позже и семитскими комментариями. (NB: Чувствительный к разного рода биографическим мелочам и анекдотам Розанов, без сомнений, знал одну из версий о смерти Аверроэса, в соответствии с которой знаменитый комментатор умер, раздавленный своими книгами, многие из которых явились комментариями, упавшими с полок его собственной библиотеки. Это добавляет еще один иронический оттенок к онтологии комментария Мандельштама.)
Комментарий как цвет
Итак, спросим еще раз, почему арабский орнамент вводится через Аверроэса? Во-первых, потому, что Аверроэс является знаменитым комментатором; во-вторых, потому, что его арабское происхождение и профессия философа призваны укрепить и поэтический (в данном случае орнаментальный), и онтологический статус комментария в контексте метапоэтической дискуссии, которая является одной из основных неявных тем, вплетенных в ткань «Разговора». Другой слой комментария Мандельштама обращает нашу дискуссию к метафоре, которая трансформирует Аристотеля в бабочку; эта метафора в свою очередь проводит нас через одну из основных тем всего эссе, которую мы идентифицируем как розановский крюк-комментарий; «крюк» понимается как экзегетическое изобретение, особый случай комментария. Как Жорж Диди-Губерман озвучил данное явление: «…постоянно обновляющееся и диверсифицируемое производство тысячи и одной сети сакральный смыслов». Дабы остаться в поэтическом космосе Мандельштама и круге его терминологии, приведем поэтический эквивалент «сакральных смыслов» как воплощение филологического ядра, эллинского Слова, остающегося в некотором смысле недостижимым, так как оно всегда таит в себе несколько слоев комментария.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































