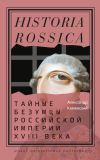Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 1"
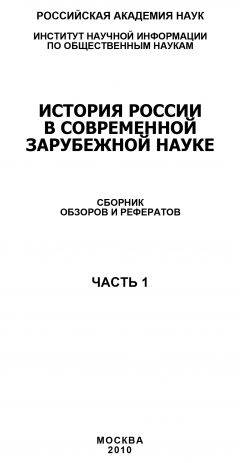
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
В изданной в Германии в 1846 г. книге Гакстгаузен, рассказывая о своих путешествиях по России, высказал идею о том, что коллективная собственность на землю и некоторые другие виды имущества является неотъемлемой частью традиционной культуры русской сельской общины. Российская интеллигенция восприняла эту идею и положила ее в основу ряда социально-политических концепций. Еще более долговечной оказалась теория Гакстгаузена на Западе, где она до сих пор имеет немало сторонников.
Отчасти под влиянием подобных настроений акты 1861 г. узаконили существование коллективного владения землей. При этом, однако, достоверность суждений самого Гакстгаузена, основанных на знакомстве с жизнью крестьян Ярославской губернии 1840-х годов, никогда не проверялась (15, с. 561–563). Именно такую задачу и поставили перед собой исследователи и пришли к выводу о том, что практически все постулаты концепции Гакстгаузена (возникшей у барона, по мнению Дэннисона и Каруса, еще до его путешествия по России) являлись ложными (насколько они поддаются проверке); во всяком случае, применительно к Ярославской губернии и, конкретнее, имению графа Шереметева Вощажниково, они в рассматриваемый период не соответствовали действительности.
Прежде всего, несостоятельным является тезис Гакстгаузена о том, что земельные переделы происходили вполне гармонично, в условиях согласия, не порождая серьезных конфликтов и противоречий. Гакстгаузен понимал, что при переделах возникали определенные проблемы, но он считал, что крестьяне легко преодолевали их, причем не столько благодаря наличию землемеров, сколько вследствие того, что сам институт переделов был глубоко укоренен в крестьянской культуре и соответствовал их основополагающим ценностям. На самом же деле, как отмечают авторы, земельные переделы порождали многочисленные конфликты, урегулирование которых порой представляло значительную сложность не только для самих крестьян, но и для землевладельцев, которые вынужденно оказывались вовлеченными в эти споры.
Столь же необоснованным являлось и представление Гакстгаузена о русской крестьянской общине как о своего рода расширенной патриархальной семье, в которой, во-первых, старейшие по возрасту мужчины были ответственны за распределение имущества между общинниками, во-вторых, никакой дискриминации при распределении земель не существовало. Между тем факты свидетельствуют о том, что, как правило, именно крестьяне молодого возраста или средних лет обычно избирались сельскими обществами для выполнения тех или иных функций, причем это не может быть объяснено лишь особенностями демографической ситуации: так, в имении Вощажниково около 15% населения были старше 50 лет, что не мешало избирать старостами, сборщиками налогов и т.д. более молодых общинников. Также не подтверждается фактами мнение Гакстгаузена о равенстве в земельном обеспечении; в некоторых случаях землевладельцу приходилось вмешиваться в этот процесс в интересах беднейших крестьян.
Не больше достоверности и в утверждениях Гакстгаузена о том, что замещение упомянутых «должностей» рассматривалось крестьянами как большая честь, и крестьяне с энтузиазмом относились к подобным поручениям. Напротив, крепостные делали все возможное, чтобы избежать этой «чести», полагают авторы. Поместные архивы полны ходатайств от крестьян с объяснениями того, почему они не могут стать старостами, сборщиками податей и т.д. Более того, часто крепостные, не желая обременять себя подобными функциями, предпочитали заплатить кому-то из соседей, чтобы тот взялся за это дело. Это свидетельствует о том, что крестьяне в большинстве своем не желали тратить свои силы на служение миру.
Не подтверждается и тезис Гакстгаузена о том, что крестьяне занимались исключительно сельскохозяйственным производством. Авторы статьи утверждают, что в Вощажниково лишь немногие крепостные жили только за счет сельского хозяйства, причем именно эти крестьяне были самыми бедными. В Ярославской губернии занимались также ремеслами, торговлей, извозом и т.д.; более того, необходимость заниматься земледелием (а этого требовал от каждого из своих крепостных граф Шереметев, владелец Вощажниково) воспринималась многими крестьянами как бремя, и до трети крепостных договаривались с другими крестьянами о том, чтобы те обрабатывали находившиеся у них в пользовании земли.
Частная собственность не была, вопреки Гакстгаузену, исключительно редким явлением среди крестьян. В 1858 г. в Вощажниково в общинном владении находилось 9176 десятин земли, а куплено крестьянами (индивидуально) было 5646 десятин. При этом, по словам авторов, частная собственность на землю начинает распространяться среди крестьян данного региона задолго до середины XIX в.
Авторы отвергают еще одно утверждение Гакстгаузена, согласно которому едва ли не единственным способом повышения благосостояния для крестьян было максимально возможное увеличение семьи, и потому в стремлении расширить численность семейства ради получения дополнительных земельных долей крестьяне побуждали своих сыновей жениться как можно раньше. Однако именно в Ярославской губернии средняя численность семьи была меньшей, чем в большинстве регионов России; так, в Вощажниково она составляла около пяти человек, что вполне сопоставимо, например, с Вестфалией. Кроме того, далеко не все домохозяйства состояли из нескольких семей; соответственно, реальность была далека от утверждений Гакстгаузена, писавшего, что вплоть до смерти отца – главы патриархальной семьи – его женатые сыновья не выделяются в отдельное домохозяйство. Опровергая тезис Гакстгаузена о том, что большая семья являлась главным источником богатства русского крестьянина, Дэннисон и Карус поднимают, по их собственным словам, более фундаментальную проблему. Для ярославских крестьян середины XIX в., по их мнению, обработка той или иной доли общинных земель была отнюдь не единственным источником дохода. Открывавшиеся для крестьян рынки земли и капиталов, возможность занятия несельскохозяйственными промыслами предоставляли крепостным крестьянам возможность выбрать одну из нескольких экономических стратегий, не укладывающихся в сформулированную бароном Гакстгаузеном концепцию. Наконец, авторы полагают, что не самые многоземельные (вследствие большей численности своей семьи) крестьяне богатели, а напротив, зачастую разбогатевшие за счет занятия промыслами или торговлей крестьяне прибирали к рукам теми или иными способами все большие земельные площади.
Последний анализируемый в статье тезис Гакстгаузена, в соответствии с которым уровень имущественного расслоения и в целом социальной стратификации в российской деревне был крайне низок, и нельзя было «унаследовать» ни богатство, ни бедность (община все равно всех уравняет), с точки зрения авторов, не выдерживает никакой критики. У крепостных существовал широкий диапазон «инвестиционных возможностей», что позволяло накапливать богатство в различных активах и передавать его по наследству (15, с. 565–574).
Таким образом, российское крестьянство – во всяком случае в том регионе, который стал объектом исследования авторов статьи – кажется им во многих отношениях очень «знакомым», т.е. весьма напоминающим крестьян различных частей прединдустриальной или раннеиндустриальной Европы. Сельское общество Вощажниково не было замкнутым сообществом многосемейных домохозяйств, жестко перераспределявшим свои ресурсы в соответствии с потребностями общинников. Напротив, это сообщество уже было интегрировано в национальную (и даже в мировую) экономику за счет механизмов трудовой миграции, ярмарок, рынков потребительских товаров, труда и капиталов. В этом обществе существовала многоуровневая социальная и экономическая стратификация и разнообразные внутренние конфликты. В то же время авторы воздерживаются от суждений по поводу того, насколько подобная ситуация была характерна для других российских регионов (15, с. 579–582). Тем не менее Дэннисон и Карус, на наш взгляд, подводят читателя к мысли о том, что именно реформа 1861 г., авторы которой находились под воздействием неадекватных представлений о действительной роли общины и характере крестьянской экономики предреформенного периода, направила дальнейшее развитие аграрного сектора российской экономики по пути, принципиально отличному от западного.
Г. Фриз подчеркивает, что, инициировав крестьянскую реформу, Александр II тем самым продолжил «любимое дело своего отца». Александру пришлось проявить политическую волю для того, чтобы довести это дело до конца: «Многие представители знати опасались, что, утратив “полицейские” полномочия – возможность принуждать крестьян работать на своих землях, лишившись прежней полной монополии на землю, они потерпят крах». Как писал один из высокопоставленных чиновников, «землевладельцы боятся и правительства и крестьянства». В то же время 360-страничное Положение, подписанное императором 19 февраля 1861 г., «было ошеломляющим по своей сложности, но одна вещь была ясна – это никак не соответствовало ожиданиям крестьянства» (17, с. 174–175).
Р. Силла, Р. Тилли и Г. Тортелла отмечают, что в России XIX в. государственные финансовые приоритеты оказывали серьезнейшее воздействие на развитие негосударственного сектора экономики, в том числе частных финансовых учреждений. «В течение XIX столетия государство стояло перед проблемой согласования своих имперских, экспансионистских амбиций с возможностями российской экономики», которая в первой половине века развивалась крайне медленно, что резко контрастировало с бурным промышленным развитием Западной Европы. Методы преодоления этого отставания оказались «деспотичными»: «Государство непосредственно, включая Царя и его министров, осуществляло значительно больший контроль над российской экономикой и финансовой системой, чем это имело место в других европейских странах». Поэтому в царской России очень немногие финансовые и кредитные учреждения были «вне надзора и регулирования финансового ведомства». Однако столь авторитарное руководство финансово-экономической сферой в России «оказалось весьма результативным и содействовало индустриальной модернизации»; к концу XIX в. промышленное развитие набрало высокий темп, а финансовая система России, действовавшая под руководством министерства финансов, была в состоянии удовлетворять потребности растущей экономики (34, с. 13).
Силла, Тилли и Тортелла, правда, делают важную оговорку о том, что все это происходило без «финансовой революции» в западноевропейском смысле, подразумевавшем реальную самостоятельность и значительную мощь частных финансово-кредитных институтов. Но «царская Россия приспосабливалась к западным буржуазным правилам: чтобы финансировать свою честолюбивую программу экономической модернизации, она оказалась вынуждена отвечать требованиям европейских частных финансовых учреждений. И с 1850-х годов страна неукоснительно соблюдала свои иностранные долговые обязательства (34, с. 13–14).
Дж. Уэст подчеркивает, что каждая модель «догоняющего развития» является по-своему уникальной. Перефразируя известное высказывание Л.Н. Толстого, Уэст пишет: «Все западноевропейские страны модернизировались одинаково, но все другие страны шли к современности своим собственным путем». История экономического развития России второй половины XIX в. является тому наглядным примером. В то время как технологии промышленного производства в значительной степени были импортированы из Европы, культурный контекст и российская институциональная система определили специфику протекания таких процессов, как первоначальное накопление капитала, учреждение новых предприятий и организация производства, рекрутирование рабочей силы и т.д., которые во многих отношениях были достаточно уникальными.
Вест считает, что российская экономика второй половины XIX столетия характеризовалась прежде всего серьезной диспропорцией (которую, на наш взгляд, Уэст все же несколько преувеличивает. – С.Б.) между масштабным государственным сектором, сформировавшимся под сенью патримониальной автократии, и гораздо более скромным частным сектором, долгое время находившимся как бы в тени государственного. Затрудняло развитие частных предприятий и то, что они должны были действовать вопреки коллективистскому идеалу – важнейшему элементу национального самосознания, уходящему корнями в крестьянскую культуру. Наконец, Уэст указывает на то, что государственные предприятия еще с петровских времен не просто централизованно финансировались, но и управлялись, как правило, представителями элитных социальных групп – аристократами либо приглашенными иностранными специалистами. Частные же предприятия, обделенные вниманием государственной власти, обычно управлялись выходцами из социальных низов – крестьян (в том числе крепостных), национальных и религиозных меньшинств, из которых особое внимание Уэста привлекают староверы (37, с. 79).
По мнению Д. Хоффмана, во второй половине XIX в. российская власть осознала то, что европейские монархи поняли двумя столетиями раньше, – «что их политическое и военное могущество зависело не только от их способности собирать налоги, но также и от экономического процветания территории, которой они управляли». Соответственно начинает проводиться политика поощрения экономического развития. К XIX столетию индустриальная революция чрезвычайно укрепила богатство и военную мощь европейских стран; но это также породило новые социальные проблемы, в частности, связанные с урбанизацией. С этими проблемами пришлось столкнуться и России (20, с. 249).
Ж. Соколофф утверждает, что и после освобождения из крестьян продолжали «выжимать все соки путем жестких бюджетных ограничений». Однако принципиально важным было то, что «в способе мобилизации рабочей силы происходит коренной переворот». Кроме того, в России популярной становится либеральная концепция, восторжествовавшая в Европе в 1830-х годах, в соответствии с которой «экономическое стимулирование сопровождается предоставлением политических прав»; в результате проводятся реформы местного самоуправления, образования и т.д. (7, с. 23).
Американский историк С. Беккер стремится опровергнуть устоявшиеся представления об упадке дворянства в пореформенной России. Он отмечает, что, согласно распространенному мнению, «дворянство вырождалось, и причиной этого было неумение приспособиться к новой жизни». Упадок дворянства якобы «делался неизбежным ввиду невежественного и неделового подхода к управлению имениями, склонности сорить деньгами и залезать в долги». Этот миф, по словам Беккера, культивировался русской классической литературой; экономисты, политические обозреватели и публицисты того времени также «описывали трансформацию дворянства в терминах упадка, происходящего от неадекватности дворянства новым условиям». Современные исследователи, как российские, так и западные, по словам Беккера, совершенно некритично восприняли эту традиционную точку зрения (1, с. 11–13). При этом основным «доказательством» якобы имевшего место упадка дворянства неизменно провозглашается резкое сокращение «абсолютного и относительного числа владеющих землей дворянских семей, а также совокупной площади принадлежавших им земель» (1, с. 308).
Американский исследователь указывает, что происходившую в пореформенную эпоху трансформацию дворянства следует рассматривать не как упадок, а как «приспособление к резкому изменению экономической и социальной жизни» (1, с. 20). Дворяне в большинстве своем оказались способны обходиться без крепостных «и вели либо собственное хозяйство, либо, что встречалось чаще, сдавали землю крестьянам. Немалое число помещиков даже прикупали землю. Получение кредита под залог земли отнюдь не означало неминуемого разорения» (1, с. 81).
При этом Беккер не отрицает того очевидного факта, что большинство дворян-землевладельцев все же расставалось с землей. Однако это «отнюдь не означает, что они всегда или обычно шли на это вынужденно и под давлением кредиторов». В большинстве случаев, продавая землю, дворяне не были принуждаемы к тому силой обстоятельств; это было выбором казавшейся для них оптимальной экономической стратегии. Капитал, вырученный от продажи земли, чаще всего вкладывался в торговые либо промышленные предприятия, где получить прибыль было гораздо проще; туда же, как правило, направлялись и средства, полученные в результате залога земель. При этом «принятие такого рода решений облегчалось как исторически обусловленной непрочной связью дворянства с землей, так и общей бесприбыльностью в России сельского хозяйства», – последнее утверждение Беккера, возможно, является чересчур категоричным.
Таким образом, резюмирует Беккер, дворянство пореформенного периода переживало радикальную трансформацию. «Смыслом этого процесса преобразований было выделение тех, кто… предпочел распрощаться с землей и попытать удачи на ином поприще. Оставшееся на земле меньшинство продолжало сокращаться по численности и по площади принадлежавших ему земель, но зато это меньшинство превращалось в группу преданных своему делу, ориентированных на рынок и на прибыль аграриев» (1, с. 81–82). Однако, на наш взгляд, среди дворян-землевладельцев было немало тех, кто, в силу разных причин не решившись расстаться с землей, оказался неспособен организовать эффективное сельскохозяйственное производство. Именно они в конце XIX в. требовали от правительственных структур оказывать масштабную поддержку дворянскому землевладению, нередко мотивируя это стремлением обеспечить сохранение главной экономической и социальной опоры самодержавной власти. Впрочем, Беккер упоминает о тех, «кому сохранение прежнего уклада жизни было дороже, чем творческое приспособление множества дворян к новой социальной реальности» (1, с. 82–83), но, кажется, недооценивает их численность и способность оказывать немалое влияние на государственную власть.
Проблемы экономического развития России и экономической политики ее властей в конце XIX – начале ХХ в. всегда привлекали пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных историков. Это вполне закономерно, поскольку именно на рубеже XIX-ХХ столетий процесс модернизации охватил, наконец, все основные сферы жизни российского общества – экономическую, политическую, социальную, правовую. При этом, на наш взгляд, первопричиной происходивших в стране перемен являлись изменения в экономике. Исключительно важная роль в этом процессе принадлежала государственной власти, которая своим активным вмешательством в экономические процессы в значительной степени определяла направление и темпы развития промышленности и сельского хозяйства.
Повышенное внимание к данному периоду объясняется еще и тем, что та или иная оценка процесса социально-экономической модернизации страны во многом предопределяла ответ на один из ключевых вопросов российской истории: была ли неизбежной революция 1917 г.?
На протяжении последних десятилетий в западной историографии идет непрекращающийся спор между «оптимистами», полагающими, что Российская империя в XVIII – начале XX в. в целом довольно успешно продвигалась по пути модернизации своей экономики, перенимая лучшие достижения стран Запада, и это поступательное развитие было прервано лишь Первой мировой войной, ставшей основной причиной революции 1917 г., и «пессимистами», убежденными в том, что особенности экономического развития страны и специфика политической системы России делали крах имперской модернизации и революционный взрыв практически неизбежными. То же самое можно сказать и об отечественной историографической ситуации начиная с 1990-х годов.
Споры продолжаются и в текущем десятилетии. Исследователей, придерживающихся «пессимистической» точки зрения, по сравнению с периодом конца 1980-х – начала 1990-х годов, стало больше; полагаем, что не в последнюю очередь это связано с очевидным «разочарованием в России» общественного мнения стран Запада. В то же время как в англо-американском, так и в германском россиеведении, по словам А.Г. Дорожкина, заявила о себе «ревизионистская традиция», представители которой, не отрицая трудностей и проблем российской модернизации, признают успехи индустриализации, подчеркивают значение промышленной политики правительства второй половины XIX в. для индустриального развития, отказываются от тезиса о крестьянстве и в целом сельском хозяйстве России как жертве индустриализации (5, с. 173), отмечают позитивные изменения в аграрном секторе российской экономики последней трети XIX – начала ХХ в. (5, с. 224.)
Существенно разнятся оценки западными исследователями уровня социально-экономического развития России на рубеже веков. Ряд историков, например Дж. Пэллот и С. Уильямс (8, c. 101–107), стремятся доказать, что отставание России от ведущих держав было не столь значительным, а уровень жизни большинства населения не таким низким, как это представлялось в большинстве исследований. Однако преобладающим остается мнение о России как весьма отсталой стране. Так, итальянский историк М. Феретти подчеркивает, что хотя Россия начала ХХ в. являлась развивающейся страной, «благодаря политике модернизации… и, в частности, индустриализации, запущенной в конце XIX в. благодаря деятельности Витте», однако она оставалась отсталой страной не только с точки зрения политики, но также в экономическом и социальном плане. Значительная часть крестьян, составлявших 85% населения страны, находилась «в состоянии квазифеодальной зависимости», порожденной малоземельем (явившимся в значительной степени следствием недостаточного наделения землей крестьян в ходе реформы 1861 г.), сохранением спустя десятилетия после отмены крепостного права обычно-правового регулирования жизнедеятельности крестьян и рядом других факторов. К тому же «именно деревня должна была заплатить цену индустриализации, в инициировании которой преобладающую роль играет государство»: ради финансирования модернизации правительство осуществляло «строжайшую фискальную политику, основанную на косвенных налогах.., которая позволяет перевести средства, израсходованные населением, – то есть, прежде всего, населением деревень, которое и без того вынуждено платить за фабричную продукцию запредельные цены, – в индустриальные инвестиции». Наконец, в целях привлечения иностранного капитала правительство стремилось обеспечить устойчивость национальной валюты – рубля «за счет экспорта зерновых, которые отнимают у крестьян»; так, в последнее десятилетие XIX в. правительство экспортировало зерно даже в неурожайные годы, «невзирая на негодование и протест интеллигенции».
По мнению М. Феретти, Россия была не просто нищей и отсталой страной, но и страной, «отмеченной невероятным социальным неравенством» – как в деревне, «где преобладает большая сельскохозяйственная латифундия», так и в городе, где рабочие были подчинены «режиму грубой эксплуатации» при отсутствии социальной защиты». Здесь необходимо отметить, что уже к началу ХХ в. масштабы латифундиального помещичьего землевладения существенно сокращаются, сравнительно с первыми пореформенными десятилетиями; в 1900–1910-х годах процесс мобилизации помещичьего землевладения протекал еще более интенсивно. Впрочем, по справедливому замечанию Феретти, такая ситуация наличествовала «во всех странах на рассвете индустриальной модернизации» (10, с. 7); при этом мероприятия правительства, инициированные С.Ю. Витте, направленные на предоставление фабрично-заводским рабочим определенных социальных гарантий, итальянским историком не отмечены.
Рассуждая о причинах революций начала ХХ в. в России, М. Феретти утверждает, что они были вызваны «социальным напряжением, которое было до предела обострено вторжением модерности в архаическую страну, нищую и отсталую… Благодаря революции стали очевидны все противоречия, порожденные политикой модернизации, осуществленной в России ради того, чтобы «догнать и перегнать» Западную Европу, направлявшуюся по капиталистическому пути развития…» (10, с. 6). При этом в России была очень сильна идея особого – отличного от западного – пути развития, «именно потому, что Россия не была Западом и сталкивалась с проблемами, отличными от тех, с которыми сталкивался Запад» (10, с. 8). Можно сказать, что М. Феретти солидаризируется с позицией Т. Шанина, в соответствии с которой для того, чтобы понять причины российской революции, необходимо рассматривать Россию начала ХХ в. как развивающееся общество (32).
Одним из основных в историографии является вопрос о характере, последствиях, цене для большинства населения ускоренной индустриализации и роли государственной власти в ее осуществлении. Известный американский историк Р. Уортман, характеризуя особенности российской индустриализации, начало которой было связано с деятельностью С.Ю. Витте, отмечает, что ради ускорения промышленного развития этот министр финансов (продолжая, впрочем, линию своего предшественника на посту главы финансового ведомства И.А. Вышнеградского) «резко повысил акцизные сборы, начал брать больше ссуд из-за границы и привлекать иностранные инвестиции в русскую промышленность». При этом «индустриализация экономики опиралась на огромные взыскания с сельского населения, которые правительство использовало, чтобы сбалансировать бюджет, субсидировать промышленность и погасить иностранные ссуды» (9, с. 367). По мнению Уортмана, экономическая концепция Витте основывалась на восходящем к М.Н. Каткову представлении «о том, что самодержавное государство может сдерживать социальное недовольство, и на вере в то, что крестьяне останутся покорными и верными подданными монарха». Однако данная политика вела к росту социальной напряженности не только потому, что от ее последствий страдало крестьянство; она также «отталкивала провинциальных дворян, ставших свидетелями того, как правительство субсидирует и поощряет промышленность, уделяя, как им казалось, слишком мало внимания их нуждам». Кроме того, политика индустриализации «привела к росту промышленного пролетариата и высокой численности рабочих в столицах». Таким образом, грандиозные замыслы архитекторов экономической политики «не учитывали опасений традиционалистов-консерваторов и питали новые социальные и политические силы, которые правительству было все труднее сдерживать» (9, с. 367–368).
С. Харкэйв, характеризуя развитие российской экономики и роль С.Ю. Витте в ее модернизации на рубеже XIX–XX столетий, называет достижения Витте грандиозными. Американский историк утверждает, что промышленность и торговля России уже находились на подъеме к началу 1890-х годов, однако темпы их роста были недостаточными. Витте смог существенно ускорить их развитие, в отличие от трех предыдущих министров финансов – Рейтерна, Бунге и Вышне-градского, которые, по мнению Харкэйва, также осознавали экономическую отсталость и стремились преодолеть ее, понимая, что страна нуждается в современной банковской системе, устойчивой валюте и крупномасштабных иностранных инвестициях в промышленность, однако немногого достигли. Столь невысокая оценка американским историком деятельности предшественников Витте представляется несправедливой. Гораздо ближе к истине, на наш взгляд, был в свое время А. Гершенкрон, писавший о «великом успехе» политики индустриализации Вышнеградского и Витте (3, с. 437). Заслуги Н.Х. Бунге, который, конечно, не может быть назван столь же убежденным сторонником ускоренной индустриализации, в осуществлении целого ряда преобразований также несомненны.
Транссибирская железная дорога, «одно из главных творений XIX и начала ХХ в.», в сооружении которой роль Витте была решающей, стала, по мнению Харкэйва, его главной заслугой. Вообще все, что Витте сделал для развития в России железных дорог и промышленности, ускорило запоздалую индустриализацию и в целом модернизацию страны. Автор убежден в том, что, не будь войн, революций и последующей Гражданской войны, здоровый экономический рост продолжался бы и далее, и Россия сокращала бы свое отставание от государств, ранее вступивших на путь промышленного развития. Все это, конечно, не означает, что Россия развивалась беспроблемно. Критика некоторых аспектов экономической системы Витте была вполне заслуженной. К этому следует добавить целый ряд сложных проблем, с которыми столкнулась Россия в начале ХХ в.: движения национальных меньшинств, упадок поместного дворянства, проблемы, порожденные быстрым ростом буржуазии и рабочего класса, и т.д. Вообще, процесс индустриализации обусловливал и масштабные социальные изменения как в городе, так и в сельской России. Поэтому многочисленные конфликты были неизбежны, но революции вполне можно было избежать (18, с. 199–201).
О первостепенной роли железнодорожного строительства в процессе российской экономической модернизации пишет и другой американский историк – Ф. Вчисло. По его мнению, вполне закономерным было и то, что личность и взгляды крупнейшего российского реформатора С.Ю. Витте в основе своей сформировались в период его работы в рамках железнодорожного хозяйства: именно благодаря своему опыту железнодорожника Витте «нашел тот социальный и культурный контекст, в рамках которого он мог мечтать о могущественной Российской империи, играющей заметную роль в европейском порядке». Создававшаяся железнодорожная сеть втягивала обширные российские территории в процесс все более интенсивного товарообмена и в конечном итоге обеспечивала грядущий рост благосостояния во всех регионах России; на достижение этой же цели была направлена таможенная политика, призванная защитить высокими тарифами молодую российскую индустрию (36, с. 81–82).
Т. Оуэн обращает внимание на то, что Россия в течение долгого времени испытывала недостаток не только в капиталах, но и в «собственной теории индустриального развития»: в течение долгого времени представители высшей бюрократии были озабочены лишь мобилизацией ресурсов для обеспечения военной мощи страны. К тому же в середине XIX в. большинство образованных людей (как интеллигенция, так и высшие сановники) в России являлись приверженцами доктрины свободной торговли, популярной в тот период и в Западной Европе. Представителей поместного дворянства и оптовых торговцев вполне устраивала ситуация, при которой Россия экспортировала зерно и импортировала высококачественные европейские товары.
Идеи Фридриха Листа, немецкого экономиста, впервые противопоставившего теории свободной торговли свою концепцию экономического национализма, практически не имели сторонников в России периода «Великих реформ»: показательно, что основная работа Листа о национальной системе политической экономии была издана в России лишь в 1891 г., спустя полвека после ее первого немецкого издания. Т. Оуэн отмечает, что решающую роль в распространении в России учения Ф. Листа сыграл С.Ю. Витте, изложивший основные положения его концепции в своей брошюре, опубликованной в 1889 г.; при этом поначалу ни одна из этих двух публикаций не привлекла особого внимания российской читающей публики (27, с. 70–71).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.