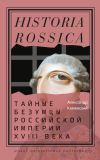Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 1"
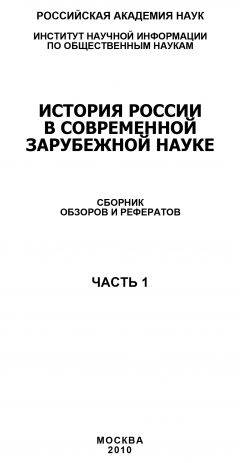
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
В книге американской исследовательницы Дж. Бербанк (32) рассматривается правовая культура крестьян, их отношение к закону и суду, их представления о справедливости. Она не разделяет мнения тех специалистов, которые утверждают, что для развития правовой культуры была необходима единая юридическая система. По мнению Дж. Бербанк, так как через волостные суды проходило большинство дел большинства населения страны, т.е. крестьян, то скорее волостные суды можно было считать основой для общей юридической системы, чем окружные суды, которые служили меньшинству подданных империи.
Система волостных судов, считает Дж. Бербанк, давала возможность бросить вызов деревенскому патриархату и во время острых социальных катаклизмов перестройки социальной жизни в деревне она служила крестьянам, утихомиривая их страсти, поддерживая их мирное, ненасильственное поведение (31, 32). О правовой культуре крестьян пишут Дж. Хартли (54), Г. Попкинс (92).
Одной из центральных в исследованиях западных историков является проблема особенностей социальной психологии, уровня развития культуры, религиозных аспектов сознания и пр.
История русского крестьянства в течение всего изучаемого периода демонстрирует элементы преемственности и изменений, причем до начала ХХ в. преемственность явно преобладала. Она выражалась прежде всего в устойчивости крестьянского общества, в его положении в социальной структуре Российской империи и в способах организации жизни крестьян. Однако главной причиной того, что созданный крестьянами мир просуществовал столь долго, являлась его способность приспосабливаться к изменениям.
К. Леонард (11) полагает, что изменения менталитета крестьянства были решающими в адаптации к рынку в период модернизации. Т. Судзуки (19) находит, что хотя неудача Столыпинской земельной реформы и была порождена многочисленными обстоятельствами, главные заключались в сохранении крестьянского общинного сознания.
В монографии проф. О. Файджеса представлена авторская трактовка культурной истории России XVIII–XX вв., которую автор понимает как столкновение и взаимодействие двух абсолютно разных культур: европейской культуры высших слоев общества и народной культуры русского крестьянства (43). Сложное взаимодействие этих двух миров имело решающее влияние на национальное самосознание.
В то время как дворяне, пишет Дж. Хоскинг (60), усваивали европейскую культуру и исповедовали современные взгляды, крестьян же в поместьях принуждали вести примитивный образ жизни. Их культура была ограничена приходской церковью, решения были единодушными, а первостепенные интересы сводились к выживанию в плохих условиях. Так сформировались два абсолютно противоположных, практически несовместимых типа сознания. Большинство дворян не задумывались о том, какую опасность таит пропасть, образовавшаяся между ними и крестьянством.
У Д. Муна (85), исследовавшего культуру деревни, уже нет этой картины пропасти, он показывает, как крестьяне меняли свои привычки, вырабатывая новые стратегии выживания, по мере чего углублялись процессы модернизации.
Д. Саундерс и С. Смит (95) затрагивают проблемы народной культуры в связи с развитием рынка. Они отмечают, что в период модернизации общество было склонно рассматривать просвещение как наиболее доступный способ разрешения крестьянского вопроса. Пик энтузиазма, или, как его определил Франк (46), «жажда колонизации деревни», пришелся на конец XIX – начало ХХ в.
Большое внимание воздействию на крестьян городской культуры уделяет Дж. Гелден (53). Важным направлением исследований стал анализ сложных и многогранных отношений между деревней и окружающим миром. При взаимодействии крестьянской культуры с городской он стал наполняться новым содержанием. Как указывает Дж. Бёрдс, «существование большого количества крестьянских дворов, базирующихся параллельно на земледельческой и неземледельческой экономике, выработало «третью» культуру – ни полностью традиционную, ни городскую – во многом не имеющую параллелей в Европе, где отсутствие правовых и культурных связей с землей часто ускоряло более полное разделение на крестьян и пролетариев» (34, с. 28). Зарождение этой культуры было связано с возникновением ряда противоречий в деревенской среде, в том числе между старыми и молодыми, получавшими большие, по крестьянским понятиям, деньги, что грозило подорвать традиционный патриархальный порядок (34, с. 29).
Как считает Каррер д’Анкосс (6), Столыпин попытался добиться поддержки со стороны общества, пробиться к нему с помощью того, что составило наиболее оригинальную часть его проекта, – настоящей культурной революции, осуществленной с помощью образования. Предполагалось, что к 1922 г. все российские дети получат образование. Для достижения этой цели были приложены громадные усилия. Но помимо стремления дать образование новым поколениям в центре масштабной культурной политики оказалась деревня целиком, мир взрослых крестьян. В деревни были направлены акушерки, ветеринары, агрономы. На университеты была возложена ответственность за поставку «этих батальонов экспертов», чтобы дать крестьянам, предоставленным самим себе, возможность пережить трудный период освобождения. Этот проект повышения интеллектуального уровня общества был с энтузиазмом воспринят среди молодежи (6, с. 159).
О том, что реформы Столыпина были нацелены на то, чтобы положить начало культурной революции в российской деревне, которая привела бы в движение население, изменила его установки, стимулировала частную и общественную предприимчивость и приблизила бы Россию к западной модели, пишет Мэйси.
В понятие крестьянского менталитета современные западные историки часто включают религиозные мотивы. Появились серьезные монографические исследования о религии в жизни крестьян. Примером тому служит книга К. Чулоса (35). На примере Воронежской области анализируется влияние религии на повседневную жизнь крестьянства, хозяйственный уклад, формирование мировоззрения, на отношение к власти в конце XIX – начале ХХ в. Автора интересует не обрядовая сторона религиозности крестьян, а то, как вера формировала их нравственные основы, как менялось отношение крестьян к религии под влиянием социально-экономических преобразований того времени.
По мнению Хартли (54), политика русских самодержцев по отношению к церкви значительно ослабила влияние как приходского, так и монастырского духовенства. Важным деструктивным моментом автор считает то, что традиционно слабая роль, которую церковь играла в образовании, была еще и урезана, и в результате духовенство не смогло обрести социальное или интеллектуальное лидерство ни в городе, ни в деревне.
Д. Во (108) поднимает такие вопросы, как отношения между церковью и государством, официальная церковь и старообрядцы, взаимоотношения православных и иноверцев, народные верования и их связь с региональной идентичностью.
Ф.-Ж. Дрейфус (40) отмечает, что славянофилы усматривали в пристрастии крестьянства к своей религии проявление патриотизма.
Что касается влияния церкви на рост грамотности в период модернизации, то большинство исследователей связывают это с благотворной деятельностью земства.
По мнению Дж. Чулоса, число грамотных крестьян в Воронежской области в 1894–1914 гг. удвоилось. При этом автор обращает внимание на то, что уровень грамотности крестьян в Воронежской области в 1914 г. был ниже средних общероссийских показателей на 25%. Впрочем, отмечает Дж. Чулос, грамотность оказалась «неэффективным оружием» в борьбе с церковной бюрократией, которая строго блюла незыблемость иерархических принципов и интерпретировала религиозные и нравственные побуждения крестьян тем, что в силу «своей темноты и невежества» они легко поддавались развращающему влиянию революционных смутьянов и городской интеллигенции (35, с. 54).
К числу наиболее дискуссионных вопросов в сфере изучения народной религиозности относится и проблема расхождения или совпадения народного и церковного православия. В одной из статей Чулос пишет, что новые исследования позволили глубже понять такое явление, как двоеверие (95). Понятие «двоеверие» родилось в конце XIX в. и основывалось на противопоставлении язычества и христианства. Однако, учитывая серьезные искажения, которые обычно несет в себе бинарная модель, пишет автор, не следует преувеличивать противоположность язычества и христианства, поскольку это лишь затушевывает их взаимосвязь. Современные ученые отдают себе отчет в трудности проведения четких границ между магическим, научным и религиозным и предпочитают говорить о «народной религии» русского, как и европейского крестьянства (с. 24). И хотя история «народной религии» в России в последнее десятилетие стала приоритетным предметом исследования, еще предстоит создать социальные, географические и хронологические модели, которые помогут понять значение местного и национального, божественного и мирского в народной религиозной культуре России (95, с. 34).
Дж. Хартли видит в крестьянской религиозности причудливую смесь язычества, магии и христианства. интеллектуальное влияние Запада распространялось лишь на привилегированные сословия (54, с. 259).
О том, что огромное значение в формировании русской национальной идентичности играли поиски «истинной веры» в XIX – начале ХХ в., пишет О. Файджес. Он рассматривает роль религиозных ритуалов в жизни русских людей, особенности православного богослужения и догматов православия в противопоставлении католицизму, а также взаимоотношения православной церкви со старообрядческой, которая, по мнению Файджеса, также являлась важным аспектом русской духовной истории и культуры. Он отмечает и то, что большую роль в религиозном сознании продолжало играть и язычество (43, с. 324).
Отношение интеллигенции к крестьянской религиозности также находит в ней отражение. Файджес (43) считает, что крестьянская вера всегда притягивала русскую интеллигенцию своей естественностью и простотой. Многие историки не разделяют такое мнение, так как считают, что интеллигенция несерьезно относилась к религиозности крестьян. Так, Чулос подчеркивает, что интеллигенция всегда считала крестьянскую религиозность суеверием, а крестьян в силу их необразованности неспособными к глубокому религиозному чувству и полагала, что весь это налет набожности основан на предрассудках и «может быть легко устраним несколькими уроками рационального мышления» (35, с. 112).
То, что и церковь, и образованная часть русского общества оказались неспособными увидеть в «наивной вере простонародья» уважение к духовным ценностям и традиционное стремление крестьян к нравственности, т.е. основным условиям нормального существования всех институтов российского государственного устройства и важнейших факторов, позволивших бы без потрясений приспособиться к быстроменяющимся реалиям жизни, стало частью общенациональной трагедии. Отмечает Чулос (35) и «обезбоженность» крестьянства, которая, по его мнению, представляла большую опасность для государства. Рост напряженности на местном уровне между епископатом, духовенством и мирянами вел к разочарованию крестьян не только своими местными священниками, но и к увеличению равнодушия к духовным и нравственным проблемам, обостренному восприятию молодежью антирелигиозной и революционной пропаганды.
Во второй половине XIX в. в ходе великих реформ вопрос о начальном образовании крестьян приобрел большое значение. Судя по тому, что доля грамотных в 1885 г. составляла около 6–8%, приобщение крестьян к образованию было действительно ограниченным. До середины 1870-х годов школьное образование для большинства крестьян-земледельцев не являлось реальной возможностью.
Распространение народного образования давало возможность нового способа для приспособления к изменяющимся материальным условиям, и позиции крестьян в отношении к этому новому средству отражали специфические отношения в сфере материальной жизни. В некоторых случаях, считает М. Гумп (4), грамотность рассматривалась как средство защиты от сил, вызывающих экономические и социальные изменения. В других случаях грамотность была средством использовать открывающиеся новые возможности, в третьих случаях представляла собой своего рода убежище от неприемлемой ситуации в деревне. Для большинства же она не имела практического значения. В конце XIX в. изменение отношения крестьянства к печатному слову с удивлением констатировали современники.
О том, что распространение образования является важнейшим фактором, характеризующим Россию как стремительно меняющееся общество, пишет Р. Уэйд (106). Он считает, что влияние образования должным образом еще не оценено, ибо забывается, что для трансформирующегося общества нет ничего опаснее полуграмотного неофита, прикидывающегося пророком. Неудивительно, подмечает Уэйд, что одни авторы оптимистично описывают модернизирующуюся Россию, а другие, напротив, склонны считать, что общество неумолимо шло к катастрофе (106, с. 4–9). В западной историографии многогранная деятельность земств, в том числе и на ниве народного просвещения, давно привлекает к себе особое внимание исследователей. Т. Эммонс (27) был одним из первых, кто попытался ответить на вопрос, чем объясняется негативное отношение крестьян к учреждению, столько сделавшему на протяжении полустолетия в области народной медицины и народного образования, агрономии и т.д. Т. Эммонс полагал, что в глазах русских крестьян земские учреждения, пусть реформированные и демократизированные, остались составной частью все того же городского, чиновничьего, дворянского «истеблишмента», требовавшего денег и рекрутов, и в данных условиях мешавшего общинному присвоению помещичьих земель.
По его мнению, нет необходимости прибегать к отвлеченным понятиям вроде «политическая культура» или «традиционный менталитет», чтобы понять крестьянскую индифферентность к земству; она основана на вполне трезвой, хотя недальновидной, оценке земских учреждений и их отношения к крестьянским интересам. Эта индифферентность, перемешанная с враждебностью, проявленная в революции, была очевидна либеральным авторам того времени. По свидетельству современников, и в первые годы по введению земских учреждений надельные крестьяне считали избрание земских гласных новой повинностью. Невосприимчивость крестьян к земству отмечает и У. Моссе (87). Но в некоторых регионах, в частности на севере России, где традиция участия народа в собраниях существовала еще в далеком домонгольском прошлом, крестьяне в большом количестве включались в эти собрания и очень хорошо выполняли там свои функции (6).
Т. Эммонс (27) полагает, что дореволюционные поборники «земского дела» ни в коей мере не считали, что земство в таком виде, в каком оно существовало тогда, – демократическое учреждение. Зато они верили, что земство обладает достаточным потенциалом, чтобы послужить культурному и экономическому развитию страны; что на основе совместной работы всех главных сословий в земстве будет проложен путь к социальной интеграции (слиянию сословий) и настоящему общественному самоуправлению.
Земство, по мнению Т. Эммонса (27), так до конца и оставалось в основном дворянским учреждением. В масштабе страны крестьянская отчужденность от земства не пощадила и третий, недворянский элемент. Дж. Хоскинг (60) подчеркивает, что земские представители избирались помещиками, горожанами и крестьянами. Система выборов в земства была основана частично на сословном, частично на имущественном принципах. Хотя крестьяне и были представлены в выборных органах власти, процент их участия оказался ничтожно мал. В земствах и городских думах преобладали представители поместного дворянства, чьи интересы и были отражены ими в большей степени.
Но что все историки положительно оценивают деятельность земства – это их огромную роль в проведении всякого рода статистических операций, агротехнической помощи и деятельность в сфере медицины и образования. Каррер д’Анкосс (6) убеждена в том, что деятельность земств была эффективной потому, что проблемы решались теми, кто хорошо знал местные условия и последствием чего явился настоящий прогресс в деревне (6, с. 121). Иной взгляд у Я. Коцониса, который считает, что именно незнание реального положения дел в деревне, неумение найти общий язык с крестьянами является существенным недостатком в работе земских учреждений в аграрном секторе (74).
Проблемы земства или кооперации и других проявлений активности образованных слоев общества – это, в сущности, проблемы русской интеллигенции. Исследователи значительно расширили представления о полемике вокруг крестьянской общины, анализируя позиции таких защитников общины, как славянофилы, и их оппонентов, ратовавших за упразднение крестьянской общины (Т. Судзуки).
А. Джонс (66) считает, что взгляды образованного общества и крестьянства принципиально расходились: интеллигенция думала о крестьянстве в категориях «развитие», «изменение», «процесс» и стремилась реформировать деревню в соответствии со своими представлениями о справедливости и прогрессе, а крестьянство о себе – в категориях «дом», «стабильность» и старалось сохранить свой образ жизни. Главный вывод А. Джонса о том, что в пореформенное время крестьянство и образованное общество составляли два мира, две культуры, был сделан еще современниками и стал общим местом уже в дореволюционной литературе о крестьянстве. Ему следуют и современные западные историки (27, 43, 54, 71 и др.). Хотя в работах Дж. Бербанк (32), К. Годэн (52) такого противопоставления уже нет.
Джонс (66), стараясь разобраться в том, шло ли крестьянство за какими-то политическими партиями в период заката империи, приходит к выводу, что крестьяне использовали и власть, и интеллигенцию в своих интересах. Например, через интеллигенцию пытались влиять на власть, а действия властей использовали, чтобы влиять на интеллигенцию. Таким образом, они добивались от властей уступок, а от интеллигенции – постоянного роста внимания к своим чаяниям, потребностям и нуждам. Джонс считает, что в последнее десятилетие имперского периода крестьяне не приняли ничего из навязываемого ни сверху, ни со стороны интеллигенции. В представлении Джонса крестьянство России успешно защитило свои узкоклассовые интересы от попыток реформирования сверху и одновременно с этим менее всего было склонно внимать популистским призывам интеллигенции. Близки к подобным выводам Дж. Брэдли (30), Р. Уэйд (106) и Каррер д’Анкосс (6). «идти в народ» – таким был благородный и оторванный от реальности лозунг интеллигенции, не подозревавшей о том, что обездоленный народ не больше был склонен доверять интеллектуалам, чем он доверял своим правителям (6).
Я. Коцонис (74) рассматривает взаимодействие между распространенными в образованном обществе представлениями о крестьянах и практикой реформирования деревни в предреволюционной России. Анализируя тексты документов представителей бюрократии и ее критиков, автор показывает, что представление об «отсталости крестьянства» пронизывает все. Подобное представление неизбежно вело к убеждению о необходимости вмешательства в его жизнь со стороны тех, кто «отсталым» не является. Но, подчеркивает Я. Коцонис, крестьянство смогло приспособиться к кооперативам и перетолковать их значение. крестьяне нередко усваивали язык приезжавших к ним представителей власти, употребляя его для достижения собственных ближайших целей или для того, чтобы оспорить ее действия.
Профессионалы, подчеркивает Я. Коцонис (74), решительно помещали самих себя по одну сторону подобных оппозиций, а крестьян – по другую и считали аксиомой, что крестьяне – жертвы своего собственного невежества в не меньшей степени, чем гнета социально-экономической системы, – не способны выразить свои интересы или неправильно их понимают. Из этого и исходила армия кооперативных деятелей, нагрянувшая в деревню после 1905 г. Оставаясь в границах образованного общества, они создали новый образ крестьянства и, вооружившись им, вступили в борьбу с дворянами-землевладельцами и чиновничеством за право говорить о «народе», выступать от имени «народа» и для «народа». Я. Коцонис (74) отмечает, что если ранее народники делали вывод, что русское крестьянство есть символ русской исключительности, то теперь новые экономисты доказывали, что крестьяне всего лишь подпадают под общее исключение из правил капиталистического развития. К таким же выводам пришел в своей работе и Мацузато (80, с. 181–182).
В пору, пишет Я. Коцонис (74), когда затянувшаяся взаимная обособленность различных сословий стала предметом напряженных дискуссий, кооперативы оказались единственным организованным массовым движением, способным объединить все сословия на добровольных началах. В отличие от местной общинной администрации, исключительно крестьянской по составу, а также от земского самоуправления, избираемого на основе сословного и имущественного ценза, а потому контролируемого дворянами-землевладельцами, кооперативы объединяли людей на основе их совместного участия в делах деревни. Они стали главной составляющей аграрной политики в период после 1910 г. В сущности, любое правительственное учреждение, которое занималось делами крестьянского хозяйства, использовало их в качестве посредников и охотно финансировало. Коцонис полагает, что именно Столыпин, постановив, что личная собственность должна вытеснить крестьянскую общинную собственность, подхлестнул ожесточенную полемику о коллективизме и индивидуализме русского крестьянства. В 1917 г. совсем не оказалось приверженцев, и они были изгнаны из деревни. Кооперативы показали, что Российская империя была в состоянии приспособиться к серьезным переменам и мобилизовать для этого людей и ресурсы поверх сословных границ. это позволило различным социальным группам делать общее дело и добиваться ощутимого экономического прогресса.
О роли крестьянства в революции 1905–1907 гг. пишут многие историки, которые по-разному объясняют спонтанность и одновременно мощь крестьянских выступлений – кто бунтарским духом, как Каррер д’Анкосс (6), кто – взрывом долго сдерживаемых настроений. Д. Мун, рассматривая проблему социальной стабильности в России со Смутного времени до наших дней (1598–1998), пишет, что вплоть до начала ХХ в. Российскую империю отличала устойчивая социальная стабильность (95, с. 54). Представления о разрывах в историческом развитии России во многом основывались на сильном преувеличении бунтарского духа русского народа. Утверждению этих стереотипов способствовало и преимущественное внимание как западных, так и российских историков к изучению «классовой борьбы», крестьянских войн и рабочего движения. Между тем восстания были исключением из правила.
Большинство историков считают, что наиболее существенные сдвиги в крестьянском сознании произошли под воздействием событий 1905 г., Столыпинских реформ и первой мировой войны, хотя уже к началу XX столетия, по мнению многих исследователей, крестьянское сознание не являлось однородным, а представляло собой сложное, противоречивое переплетение старых и новых представлений. Вопреки ранее бытовавшему мнению современные исследователи практически не оспаривают степень самостоятельности крестьянского творчества в рамках приговорного движения. Как пишет М. Вернер, крестьяне-просители не только хорошо сознавали свои интересы. Но также хорошо чувствовали, когда возникали оптимальные условия для удовлетворения их жалоб (12). Прошения свидетельствовали о многообразии форм выражения крестьянами своей индивидуальности. каждый документ по сути своей включал в себя несколько текстов. Их язык был и средством, и отражением соперничающих областей; многие из крестьянских требований следует рассматривать как постоянно изменяющиеся объекты с многими потенциальными значениями.
Десятки тысяч прошений, поданных крестьянством в ходе революции 1905–1907 гг., следовало бы считать идеальной источниковедческой базой для исторической реконструкции крестьянского менталитета в эти исключительно важные моменты русской революции, эти документы еще, к сожалению, не привлекли того внимания исследователей, которое они заслуживают.
В крестьянском самосознании, как считает Т. Шанин (25), уже в 1905 г. было глубокое убеждение в существовании огромной пропасти между крестьянским «мы» и разнообразным «они»: государство, знать, «чистые кварталы» городов, те, что носят униформу, меховые шубы, золотые очки, или даже те, кто складно говорят. после событий 1905–1907 гг. это убеждение превратилось в решающий фактор новой революции, которая закончилась иначе и сделала Россию на время более крестьянской, чем когда бы то ни было. Иными словами, формировался собирательный образ «враждебной» крестьянству силы. В итоге понятия «землевладелец», «помещик» приобрели ярко выраженные негативные характеристики.
Другой образ ассоциировался с войной и порожденным ею кризисом снабжения. «Торговцы», «купцы», «спекулянты», «буржуи», пишет Р. Сиви (18), эти знаковые элементы причислялись крестьянством к символам городской культуры, стало быть, ненависть по отношению к ним объясняется в том числе и реакцией патриархального общества на вызовы индустриальной цивилизации.
Западные историки признают, что революция 1905–1907 гг. придала дополнительное ускорение процессу размывания традиционного уклада крестьянской жизни. Серьезный удар был нанесен по авторитету отцов, общины, государства. Очевидным стал и раскол деревни по возрастному признаку.
А. Грациози (2) в традиционной для западных историков манере пишет о «плебейской жестокости», основанной на «крепком ядре первобытной дикости». Общая «варваризация» масс является для Грациози типичной характеристикой аграрного движения первых десятилетий XX в.
Основой крестьянской психики Р. Пайпс признает инстинктивное поведение, антиобщественная сущность которого лишь отчасти сдерживалась общинными порядками. Все попытки привнести в крестьянское сознание даже начатки рационального мышления и упорядочить религиозные чувства носили поверхностный характер и не определяли его поведенческие реакции. В этом контексте подлинной религией русского крестьянина Пайпс (17) считает фатализм, а идеологией – глубоко укорененный анархизм.
По мнению Т. Шанина (27), каждый регион России развивал свои формы борьбы крестьян, преследуя свои цели. Эти цели и формы крестьянских восстаний были во многом схожи. При этом они не ограничивались вопросами собственности на землю, хотя крестьяне боролись и за право владения землей, считая себя обделенными в результате реформы 1861 г. Процесс создания «снизу» альтернативной крестьянской власти на местах явился составной частью крестьянского движения 1905– 1907 гг. Этот процесс шел и через крестьянский союз, и через иные организации.
По утверждению Т. Шанина (25), революция длилась до 1907 г., достигнув пика в 1906 г., но продолжалась только в селах. В городах «власти» сумели смять революционное движение к концу января 1906 г. И крестьяне продолжали свою борьбу, что дает и ответ на вопрос, кто кого вел в этой революции. По официальному мнению властей России, интеллигенция подтолкнула на бунт крестьян. Для большевиков – пролетариат вел крестьянство. Оба этих варианта не выдерживают критики. Это была борьба крестьянства за свои цели. Борьба 1902–1907 гг. явилась определяющим моментом всего того, что произошло в 1917–1922 гг.
О том, что в этой революции не все соответствует сценарию Т. Шанина, отмечается в сборнике статей 14 авторов (в основном из Великобритании) (104), в котором исследуются события 1905– 1907 гг. прежде всего на местном материале южных, восточных, прибалтийских губерний, Казани, Воронежа, Харькова, Киева. По мнению автора вводной статьи А. Эшера, содержание книги проливает свет на событие, в котором характер крестьянского движения понят пока еще не в полной мере.
Профессор Дж. Уайт (104) пишет об общем и особенном в революционном процессе в центре и в губерниях и отмечает воздействие региональных событий на ход революции. о необходимости полнее учитывать специфику местных условий и при рассмотрении попыток определить степень сопротивления крестьян политике властей и их революционную активность высказывается А. Джонс (66).
Б. Уильямс (104), отметив изменения, происходящие в науке, и благотворность свободного доступа к российским архивам, подчеркивает, что это дает возможность заново обдумать и проблемы революции 1905 г. Она исследует причины революции и ее события в российской глубинке, показывает роль местных событий и лидеров и значимость идей местного самоуправления. По ее мнению, точно можно сказать одно – события на местах свидетельствовали о том, что революция приняла широкий размах.
Коцонис находит истоки крестьянского сопротивления в том, что крестьяне не были заинтересованы в сохранении государственного порядка, поскольку за прошедшие века так и не стали его частью; они не были способны уважать право помещиков на частную земельную собственность, так как сами долгое время были подчинены другим законам о собственности; в результате – социально-экономическое неустройство толкнуло их на насильственные действия.
Историки пишут и о событиях, предшествующих 1905– 1907 гг. крестьянские волнения 1902 г. превратили аграрный вопрос из социально-экономической проблемы в неотложное дело государственной важности. Русско-японская война повлияла на поведение крестьянства, усугубив политический кризис в стране. Отмечается в литературе и такая особенность практически всех крестьянских выступлений, как иллюзорные представления о целях, реализации своих требований. В масштабных выступлениях 1905 или 1918 гг. они проявились наиболее ярко, хотя в принципе они были свойственны практически всем без исключения крестьянским выступлениям.
В литературе долгое время общим местом для большинства работ, посвященных крестьянской тематике революций 1917 г., подчеркивалось враждебное отношение крестьян к помещикам. В целом подобная трактовка вряд ли может быть изменена. Однако уже появились существенные дополнения о неоднозначности реакции крестьян на свой классовый раздражитель. Так, Хоскинг (60), например, пишет, что после экспроприации крестьянские общины приступали к перераспределению земель, руководствуясь при этом традиционно понимаемыми принципами справедливости. Причем в этот процесс были вовлечены не только так называемые столыпинские крестьяне, но и бывшие помещики. Каждому из них полагалась определенная норма. Каждый имел право на свою долю пропитания.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.