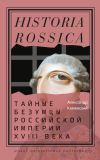Текст книги "История России в современной зарубежной науке, часть 1"
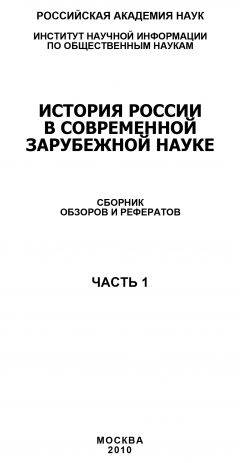
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
В другой своей работе Т. Оуэн подчеркивает роль Д.И. Менделеева в формировании политики экономической модернизации. По мнению автора, «помимо защиты (и выработки – Менделеев был основным разработчиком Таможенного тарифа 1891 г. – С.Б.) довольно простой системы высоких импортных тарифов, призванных обеспечить защиту российской промышленности, Менделеев привнес в дебаты об экономической политике многочисленные творческие идеи». Оуэн подчеркивает двойственное отношение Менделеева к бюрократической опеке отечественной индустрии. С одной стороны, ученый не отрицал возможности нерыночных форм поддержки молодой промышленности со стороны государства. Но уже начиная с середины 1880-х годов он пришел к убеждению в том, что российская индустрия достигла определенной зрелости, и потому для дальнейшего ее развития требуются не столько традиционные для России формы правительственной поддержки (беспроцентные ссуды и т.п.), сколько содействие в привлечении частных инвестиций. Это, по мнению Оуэна, служит лишним подтверждением того, что Менделеев в своей деятельности по отстаиванию интересов российской промышленности руководствовался, вопреки утверждениям его противников, прежде всего не стремлением обслуживать интересы своих партнеров в промышленных кругах, которые у него действительно имелись, в особенности среди нефтепромышленников, а «патриотической преданностью делу промышленного развития России» (28, с. 111–112).
О том, что именно частнопредпринимательская инициатива, а не поддержка государства, являлась основной причиной промышленного роста в России в предвоенные годы, пишет и У. Моссе. Это обстоятельство, по его словам, принципиально отличало данный этап экономического развития России от периода 1890-х годов, когда важнейшим фактором роста была правительственная политика. Однако эти изменения, полагает Моссе, как раз и свидетельствовали о том, что «система Витте» принесла результаты, и все более широкие слои населения (так же, как и его преемники во властных структурах) пожинали плоды его деятельности (26, с. 249).
В центре внимания исследователей остаются вопросы аграрного развития России. По-прежнему широко распространенным является мнение о глубоком кризисе, который поразил аграрный сектор российской экономики; Й. Цвайнерт пишет даже о «крахе сельского хозяйства» в конце XIX в. (13, с. 279). Но при этом ряд специалистов ставят под сомнение тезис об углублении аграрного кризиса на рубеже веков. Так, о значительном прогрессе сельского хозяйства и росте уровня жизни крестьянства пишет С. Уильямс (8). Наиболее же развернутая аргументация об отсутствии аграрного кризиса в России приводится в монографии известного американского исследователя П. Грегори, посвященной экономике дореволюционной России, где эта тема является одной из центральных. Он утверждает: «Кризис был ограничен районами старой культивации, в масштабах же национальной экономики никакого кризиса не было» (4, с. 247–248.).
Свое мнение об отсутствии в России аграрного кризиса, одним из важнейших признаков которого, по словам Грегори, должно было бы служить наличие в сельском хозяйстве страны организационных механизмов, мешавших ему «развиваться темпами, достаточными для поддержания современного экономического роста», исследователь аргументирует, рассматривая динамику совокупного объема производства, производительности труда в сельском хозяйстве и жизненного уровня сельского населения России. При этом Грегори отмечает, что ранее как в российской, так и в западной литературе «большинство дискуссий об аграрном кризисе не было основано на прямых данных о жизненном уровне деревни. Вместо того, чтобы доказать его существование, привлекаются косвенные доказательства, такие как налоговая задолженность крестьян, акцизные выплаты, увеличение арендных ставок и доклады о растущем обнищании» (4, с. 32).
По данным П. Грегори, «рост реального дохода на душу населения в России с 1861 по 1913 г. был сравним с показателями других стран», и в частности, в период форсированной индустриализации и «предполагаемого аграрного кризиса… российский рост производства в расчете на душу населения примерно равнялся западноевропейскому». Поскольку же Россия являлась преимущественно аграрной страной, продолжительное снижение среднедушевого дохода крестьян неизбежно привело бы к уменьшению (или, во всяком случае, отсутствию роста) соответствующего общенационального показателя; однако этого не происходило. П. Грегори представляется несостоятельной и гипотеза о проводившейся властями политике «голодного экспорта», при которой увеличение объема сельскохозяйственного производства на душу населения могло бы согласовываться с понижением жизненного уровня крестьян. Российское правительство не обладало «в сельской местности властью, достаточной для того, чтобы заставить крестьян принудительно отдавать произведенную ими продукцию. Свидетельства о налоговых задолженностях показывают, что крестьяне весьма вольно относились к прямым налоговым обязательствам… Опора государства на косвенные налоги подкрепляет предположение о том, что прямыми налогами невозможно было заставить крестьян продавать зерно против их собственного желания» (4, с. 35).
О росте жизненного уровня сельского населения в рассматриваемый период свидетельствует, по мнению Грегори, прежде всего существенное увеличение количества зерна, которое крестьяне оставляли для собственного потребления: «Между 1885–1889 и 1897– 1901 гг. стоимость зерна, оставленного крестьянами для собственного потребления, в постоянных ценах выросла на 51%, тогда как сельское население увеличилось на 17%. Таким образом, потребление зерна в сельском хозяйстве росло в три раза быстрее, чем сельское население». В тот же самый период, по данным, обработанным в свое время С.Г. Струмилиным, «с учетом инфляции, реальная средняя поденная плата сельхозрабочего выросла на 14%», что опять-таки было бы невозможно в условиях общего падения реальных доходов крестьян (4, с. 36–37). Таким образом, снижения жизненного уровня деревни по всей стране не происходило; соответственно, полагает Грегори, нет оснований говорить об аграрном кризисе. Впрочем, американский исследователь делает важную оговорку: хотя для понимания закономерностей экономического развития страны «основное внимание следует уделить функционированию сельского хозяйства в целом», однако «региональные различия имеют большое значение для объяснения политических и социальных действий» (4, с. 30). На наш взгляд, это в полной мере относится к действительно имевшим место кризисным явлениям в сельском хозяйстве центральноевропейской России.
О тормозящем влиянии общины на развитие российской экономики пишут Т. Дэннисон и А. Карус. Они подчеркивают, что распространившееся в России в середине XIX столетия предубеждение в пользу крестьянской сельской общины как неотъемлемой части культуры русского крестьянства и в начале ХХ в. по-прежнему определяло умонастроения значительной части российской интеллигенции и немалой части бюрократии, что делало проведение антиобщинной политики весьма затруднительным (15).
Р. Сил особо подчеркивает роль крестьянской общины – «мира» не только как структуры, обеспечивавшей взаимодействие крестьян ради достижения их общих интересов, но и как «морального сообщества», служившего основой для коллективной идентичности и солидарных действий российских крестьян вплоть до первых лет большевистского режима (33, с. 200). Сравнительно с сельскими общинами в других странах поздней индустриализации (таких, например, как Япония), общинные порядки в России были существенно более эгалитарными: распределительная деятельность была важнейшей функцией русской общины. К тому же после отмены крепостного права российские власти воспринимали «мир» как инструмент, способный обеспечить более или менее эффективное управление сельским населением и взимание налогов и выкупных платежей с крестьян. Принцип солидарной ответственности и определения миром размеров налогообложения каждого конкретного домохозяйства был, по мнению автора, поддержан крестьянством (33, с. 201). Таким образом, после реформы 1861 г. община не только не распалась, но, напротив, укрепилась, став официальным владельцем перешедших к крестьянам бывших помещичьих земель. Принцип круговой поруки был призван гарантировать не только выполнение финансовых обязательств крестьян перед государством, но и оказание помощи домохозяйствам, оказавшимся по тем или иным причинам (вследствие пожара, смерти главы семьи и т.п.) в сложной ситуации.
К началу ХХ в. «мир» принимал на себя и новые функции, такие, как забота о состоянии местных дорог, поддержка создававшихся образовательных учреждений, создание местного суда, «напоминающего систему жюри», помощь сиротам и инвалидам, т.е. те функции, которые царское правительство намеревалось осуществлять через свои собственные сельские и муниципальные административные учреждения.
Р. Сил считает, что общинные порядки в России в начале ХХ столетия были весьма прочны. Когда правительственная политика в отношении общины изменилась, «самые серьезные конфликты в сельской местности были спровоцированы “миром” ради того, чтобы защитить устоявшиеся нормы и общинные интересы от внешних угроз – действий должностных лиц либо домохозяйств, пытавшихся действовать в разрез с общинными интересами» (33, с. 203). Поэтому вполне закономерно, что большинством крестьян реформы Столыпина приняты не были (33, с. 209).
В то же время один из виднейших американских русистов Р. Пайпс полагает, что, хотя в целом в осуществлении масштабной программы преобразований Столыпин потерпел провал, аграрная реформа стала его единственным крупным начинанием, в котором он преуспел (6, с. 224).
Констатируя, что на рубеже XIX–XX вв. подавляющее большинство населения России составляло крестьянство – «наименее современная», самая традиционная социальная группа, Д. Хоффман утверждает, что несмотря на бурные дискуссии по аграрному вопросу, среди интеллигенции – марксистской и немарксистской – существовало широкое согласие по поводу того, «что крестьянство должно было быть преобразовано, модернизировано». Против этого выступали лишь «некоторые популисты» – народники, влияние которых Хоффман, на наш взгляд, недооценивает, как и количество приверженцев «самобытнических» идей. В конечном итоге, по словам Хоффмана, в необходимости преобразовать жизнь крестьян убедилась и российская элита, причем в начале ХХ в. она уже «была готова вмешаться, часто авторитарными способами, дабы заменить крестьянское суеверие и автаркию рационализированным и модернизированным образом жизни» (20, с. 248).
Позитивно оценивается столыпинская экономическая политика в монографии А. Ашера. Отмечая, что комплексная программа реформирования едва ли не всех основных сфер экономики, государственного управления, местного самоуправления и т.д., сформулированная Столыпиным, была чрезвычайно амбициозной, Ашер полагает, что и за 20 лет спокойного развития, которые Столыпин считал необходимыми для ее осуществления, она едва ли могла быть реализована в полном объеме, и тем более невозможно было добиться реализации основных целей, поставленных перед собой премьером, за тот сравнительно короткий срок, что был отведен ему историей. Именно поэтому, считает Ашер, многие историки говорят о провале Столыпинских реформ. Однако, не отрицая того, что во многих своих начинаниях Столыпин потерпел неудачу, А. Ашер утверждает, что и достижения его были весьма значительными. Столыпин преуспел в реализации своих личных реформаторских инициатив в нескольких «критически важных» областях, причем в значительной степени – благодаря своей готовности действовать решительно и жестко. Так, аграрная реформа, которую Ашер считает едва ли не наиболее значительной реформаторской инициативой российского правительства конца XIX – начала ХХ в., была бы немыслима без той энергии и настойчивости, которую проявил при ее разработке и осуществлении П.А. Столыпин. Кроме того, Столыпин «преуспел в осуществлении принципа объединенного правительства, что было важнейшим шагом в рационализации административных процедур на высшем уровне власти. При его преемнике Коковцове этот принцип был подорван… потому, что Коковцов не обладал достаточной волей, чтобы реализовывать этот принцип» (14, с. 392–393). В данном случае оценка Ашером достижений Столыпина представляется несколько завышенной: как известно, и в период его премьерства практика вмешательства монарха в деятельность ведомств «через голову» премьера не была устранена (в последние же два года премьерства Столыпина, как отмечает П. Уолдрон, многих членов правительства никак нельзя было назвать единомышленниками Председателя Совета министров (35, с. 189). При преемниках Столыпина эта практика получила гораздо более широкое распространение, как и вневедомственные влияния на деятельность исполнительной власти.
Признавая, что к 1911 г. в отношениях Столыпина с монархом возникла значительная напряженность, Ашер полагает, что Николай II все же едва ли решился бы отправить в отставку своего премьера, достойной замены которому просто не было. У Столыпина же были и силы, и возможности (хотя не столь благоприятные, как в первые годы его премьерства) для продолжения реализации своего реформаторского курса. А. Ашер считает, что, не будь Столыпин убит в 1911 г., он, скорее всего, оставался бы главой правительства и сделал бы все возможное, чтобы не допустить втягивания России в войну.
По мнению Ашера, Столыпин, «подобно всем выдающимся государственным деятелям, …был сложным человеком, готовым добиваться своих целей различными способами». Однако несмотря на то, что он вынужден был проводить политику лавирования, на протяжении всей его карьеры «политическая стабильность, экономическое процветание и национальное единство были его руководящими принципами как общественного деятеля». Ашер подчеркивает, что программа реформ в основном сформировалась у Столыпина еще до его назначения премьером и даже до революции 1905 г. – в период его деятельности на губернском уровне власти (14, с. 395).
В то же время в ряде исследований ставится под сомнение сама правильность выбора приоритетов аграрной политики Столыпина. Так, авторы монографии «Крестьянская экономика, культура и политика Европейской России. 1800–1921» утверждают, что общинное землевладение само по себе отнюдь не препятствовало сельскохозяйственному прогрессу; более того, «хотя нововведения чаще всего инициировались крестьянами, обладавшими собственностью на свои земли, …распространялись они быстрее именно в общинных районах». По мнению авторов, в российских условиях зачастую именно общинные механизмы стимулировали распространение новых орудий и технологий (29, с. 50–51). Этот вывод сделан главным образом на основании работ известного сторонника общинных порядков неонародника К.Р. Качоровского.
Э. Джадж проанализировал эволюцию переселенческой политики в России конца XIX – начала ХХ в. Справедливо отмечая, что в течение долгого времени правительство не слишком способствовало развитию переселенческого движения крестьян, Джадж видит причину этого в опасении власти подорвать социальную стабильность и утратить социальный контроль над процессами, протекавшими в российской деревне (21, с. 75).
Не отрицая того, что подобные опасения действительно имелись у некоторых представителей высшей бюрократии, позволим себе предположить, что главной причиной отсутствия внятной переселенческой политики являлось все же отсутствие необходимой организационной структуры и должного финансового обеспечения переселений, организация которых была связана с неизбежными и весьма серьезными затратами. К тому же в условиях неприкосновенности общинного строя крестьянского землевладения, при котором уход из общины означал утрату крестьянской семьей причитавшихся ей надельных земель, о действительно массовом переселенческом движении речи быть не могло, что констатирует и автор.
Как отмечает Джадж, к началу 1900-х годов у представителей имперского правительства крепнет осознание того, что организация крестьянских переселений должна стать одним из основных инструментов решения проблемы аграрного перенаселения в центральных губерниях европейской части России. При этом опыт переселенческой политики практически отсутствовал. По мнению Джаджа, принятие закона о переселениях в 1904 г. стало закономерным результатом изменения отношения властей к этой проблеме: переселения, должным образом организуемые и контролируемые, рассматривались теперь высшей бюрократией как механизм стабилизации обстановки и способ упрочения социального контроля. Принятие этого закона означало также и то, что теперь власть рассматривала более состоятельных крестьян как свою основную опору в деревне, стремясь побудить беднейшую часть сельского населения покинуть наиболее проблемные европейские губернии. Закон требовал от общин выплачивать переселенцам компенсацию за оставляемые ими земли. При этом решение вопроса о том, создавать ли сельскую общину на вновь осваиваемых землях, оставлялся на усмотрение переселенцев. Все это, по справедливому утверждению Джаджа, означало, что власть постепенно начинала менять свое отношение к общине уже накануне первой революции (21, с. 88–89).
Фактически закон начал действовать с 1906 г. В новых условиях он (после внесения в него в 1906 г. определенных изменений) стал применяться гораздо более широко, и переселенческое движение приняло существенно больший размах, чем изначально предполагали его разработчики (21, с. 90).
В целом ряде исследований характеризуется влияние указанных экономических процессов на социальную структуру общества, и в связи с этим ставится вопрос о наличии либо отсутствии в России начала ХХ столетия социальной базы, необходимой для продолжения как экономических, так и политических реформ. С. Беккер правомерно отмечает, что весьма непростой процесс перехода от сословного общества к классовому в российских условиях оказался особенно болезненным – прежде всего потому, что «до самого конца старого режима традиционные статусные различия формально поддерживались» самодержавной властью, стремившейся сохранить традиционную социальную базу и гарантировать сохранение своей политической монополии. Однако этот курс, явно противоречивший самой логике социально-экономического развития пореформенной России, вел лишь к обострению социальных противоречий и тем самым подрывал позиции власти (1, c. 317).
Р. Маккин, рассматривающий в своей статье особенности идущей в западной историографии полемики между «оптимистами» и «пессимистами» в понимании российской модернизации, сам безусловно принадлежит к лагерю последних. Формулируя «фундаментальный вопрос», имел ли в России конституционный режим после 1906 г. мало-мальски серьезную социальную базу, он утверждает, что ответ на этот вопрос может быть лишь безусловно отрицательным. По его мнению, «преобразованная автократия» не имела твердых сторонников своего курса ни среди разлагающихся сословий, ни среди формирующихся классов (23, с. 43–44). Дворянство в начале ХХ столетия было далеко не монолитно с точки зрения экономических интересов (они были принципиально различными у представителей бюрократии, землевладельцев, отстаивавших, по мнению Маккина, главным образом свои эгоистические интересы, промышленников, многие из которых также принадлежали к дворянскому сословию, и т.д.) и политических предпочтений. Российская буржуазия также была далека от формирования собственной идентичности (как показали, в частности, исследования Т. Оуэна (27; 28)). Именно этим, по словам Маккина, во многом объяснялась слабость либеральных партий в России, которые, вопреки преобладавшему в советской исторической науке представлению об их буржуазной классовой природе, на самом деле как раз и не имели твердого буржуазного ядра. «Кроме того, этнические различия и межрегиональная экономическая конкуренция еще более разделяли торговцев и предпринимателей. По этим причинам оказалось невозможно создать отдельную политическую партию, выражающую интересы предпринимательского класса». Промышленники в большинстве своем избегали участия в публичной политике, стремясь вместо этого защитить и продвигать свои экономические интересы через неполитические организации типа Союза торговли и промышленности и «посредством закулисного влияния в министерских коридорах» (23, с. 47). Что же касается крестьянства, то оно вплоть до 1917 г. по-прежнему оставалось социальной группой, если и не «изолированной от государства и гражданского общества», то в значительной степени отчужденной от них. Столыпинская аграрная политика, по мнению Маккина, не увенчалась успехом, встретив сопротивление большей части крестьянства. Само понятие о частной собственности так и не проникло сколь-нибудь глубоко в крестьянскую массу. Отношение крестьян к земле продолжало определяться их традиционной этикой в большей степени, чем соображениями экономической рациональности. Наконец, рабочий класс, которому в 1905 г. «номинально были дарованы многие права», на деле правительственной «политикой полицейского государства» (Polizeistaat) был, по мнению Маккина, исключен из процесса становления гражданского общества (23, с. 48–49).
О причинах роста социальной напряженности в деревне пишет и Ф. Фюре. По его словам, крестьянам проще было смириться с превосходством феодальной аристократии – помещиков: превосходством традиционным и потому в известной степени легитимным. «В предшествующих обществах неравенство имело законный статус, освященный природой, традицией или провидением. В буржуазном обществе идея неравенства протаскивается контрабандой, она находится в противоречии с представлениями людей о самих себе, но тем не менее присутствует повсюду, определяя и жизненные ситуации, и человеческие страсти. Не буржуазия изобрела разделение общества на классы. Но она превратила такое разделение в постоянный источник страданий, ибо облекла его в идеологию, лишившую его легитимности» (11, с. 23). Поэтому принять вновь возникавшую сельскую буржуазию, тем более – признать неравенство внутри собственно крестьянской среды – чисто психологически крестьянам было гораздо тяжелее. Быть может, в России это проявлялось особенно болезненно: слишком стремительно начал проникать капитализм в сельское хозяйство страны, а крестьяне долгое время были связаны массой всевозможных ограничений (11, с. 22–23).
Свою оценку процессов социальных изменений в России конца XIX – начала ХХ в. в их соотношении с динамикой политических институтов дает американский историк П. Уолдрон. Он считает, что основная проблема России на рубеже XIX–ХХ вв. заключалась в том, что процессы динамичных экономических и социальных изменений не сопровождались своевременным преобразованием политической системы государства. Последствия отмены крепостного права, «индустриализация, развитие местного самоуправления стали мощными стимулами для роста российского среднего класса. Свидетельством этого, по мнению Уолдрона, является бурный рост в 1890–1900-х годах количества и значимости профессиональных организаций, ассоциаций торговцев и промышленников. Вакуум, образовавшийся было вследствие упадка дворянства, начал постепенно заполняться энергичным средним классом. Однако данные социальные изменения не нашли должного отражения в политических структурах Российской империи. И в Государственной думе (после Третьеиюньского переворота), и в Государственном совете наибольшим влиянием обладала традиционная элита (дворянство), не говоря уже о том, что именно представители дворянства обладали наибольшими возможностями влияния на деятельность правительства по неофициальным каналам. Налицо была ситуация, когда во власти доминировали представители социальных сил, более всего терявших от либеральных реформ. А те силы, которые могли стать социальной опорой реформаторского курса, и прежде всего растущий средний класс, были слабо представлены во власти, оказавшись вынуждены использовать трибуну профессиональных и предпринимательских ассоциаций для артикуляции своих политических требований, вместо того чтобы отстаивать свои позиции в парламенте. В этом, по мнению Уолдрона, заключалась фундаментальная причина поражения Столыпина. Третья дума, на поддержку которой в продвижении своих реформ премьер так рассчитывал, не могла стать ему необходимой опорой, по мнению Уолдрона, во-первых, потому, что депутатский корпус не выражал интересы большей части общества (отметим, однако, что на это крестьянское большинство Столыпин не мог бы опираться ни при каких обстоятельствах, и избранная по более демократичному закону Дума неизбежно оказалась бы в жесточайшей оппозиции к его курсу – деятельность Первой и Второй думы стала тому нагляднейшим подтверждением. – С.Б.), а во-вторых, потому, что премьер вынужден был искать поддержки представителей того социального слоя, который более всего терял от его преобразований (подобная оценка интересов всего российского дворянства в начале ХХ в. представляется нам явно неадекватной. – С.Б.). Именно поэтому, считает П. Уолдрон, в своем стремлении к обновлению России Столыпин потерпел поражение (35, с. 181–184).
Американский историк С. Величенко поднимает вопрос о наличии у правительства необходимого инструментария для проведения комплексной социальной и экономической политики. Величенко утверждает, что, вопреки распространенным представлениям о крайней забюрократизированности аппарата управления Российской империи в начале ХХ в., численность имперской бюрократии была совершенно недостаточной для страны, стремившейся занять свое место в ряду наиболее высокоразвитых держав, сближая Россию по этому показателю скорее с колониями европейских государств, чем с метрополиями. И именно «недоуправляемость» была причиной многих кризисных явлений, возникших в процессе модернизации: в то время как в западноевропейских государствах «большой чиновничий штат был необходим для предоставления современных услуг, которые давали гражданам больше возможностей и больше альтернатив, чем было у их прадедов». Величенко утверждает, что в Российской империи малый размер бюрократии «умерял аппетиты самодержавия, и недостаток чиновников центральной администрации… помогает объяснить медленные темпы модернизации страны… Малочисленный бюрократический аппарат, плохо справляющийся с повседневными задачами, едва ли создавал практический стимул для перехода от осознанной приверженности народа сельским связям на основе родства и патронажа» к новым формам общественных отношений и новой идентичности (2, с. 104–105).
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что в западной историографии продолжается дискуссия по ряду ключевых проблем истории социально-экономической модернизации дореволюционной России. В центре внимания исследователей находятся следующие проблемы:
– масштабы и характер использования государственной властью опыта наиболее развитых западных держав в процессе модернизации;
– принципиальная возможность обеспечения самодержавной властью эффективной экономической модернизации;
– соотношение стратегических целей социально-экономического развития и применявшихся властью инструментов их достижения; последствия форсирования государством модернизационных процессов;
– «цена» модернизационной политики для большей части населения России;
– характер и темпы эволюции социальной структуры общества, и в связи с этим проблема социальной базы осуществлявшихся преобразований;
– соотношение процессов индустриального и аграрного развития.
Литература
1. Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. – М., 2004. – 344 с.
2. Величенко С. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. – М., 2005. – С. 83–114.
3. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. – М., 2004. – С. 420–447.
4. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.): Новые подсчеты и оценки. – М., 2003. – 256 с.
5. Дорожкин А.Г. Промышленное и аграрное развитие дореволюционной России: Взгляд германоязычных историков ХХ в. – М., 2004. – 351 с.
6. Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры. – М., 2008. – 252 с.
7. Соколофф Ж. Бедная держава: История России с 1815 года до наших дней. – М., 2007. – 884 с.
8. Уильямс С. Либеральные реформы при нелиберальном режиме: Создание частной собственности в России в 1906–1915 гг. – М., 2009. – 332 с.
9. Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. Т. 2: От Александра II до отречения Николая II. – М., 2004. – 796 с.
10. Феретти М. Безмолвие памяти // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 6. – С. 5–13.
11. Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. – М., 1998. – 564 с.
12. Хоскинг Дж. Россия и русские: В 2 кн. – М., 2003. – Кн. 1. – 494 с.
13. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805–1905. – М., 2007. – 410 с.
14. Ascher A. P.A. Stolypin. The search for stability in late imperial Russia. – Stanford, 2001. – 468 p.
15. Dannison T.K., Karus A.W. The invention of the Russian rural commune: Haxthausen and the evidence // Hist. j. – Cambridge, 2003. – Vol. 4, N 3. – P. 561–582.
16. Dixon S. The modernisation of Russia, 1676–1825. – Cambridge, 1999. – 267 p.
17. Freeze G.L. Reform and counter-reform, 1855–1890 // Russia: A history. – Oxford, 2002. – P. 170–199.
18. Harcave S. Count Sergei Witte and the twilight of imperial Russia: a biography. – N.Y.; L., 2004. – 323 p.
19. Haywood R.M. Russia enters the railway age, 1842–1855. – N.Y., 1998. – 635 p.
20. Hoffmann D.L. Conclusion // Russian modernity: Politics, knowledge, practices. – L., 2000. – P. 245–260.
21. Judge E.H. Peasant resettlement and social control in late imperial Russia // Modernization and revolution. Dilemma of progress in late imperial Russia. – N.Y., 1992. – P. 75–93.
22. Marker G. The age of enlightment, 1740–1801 // Russia: A history. – Oxford, 2002. – P. 114–142.
23. McKean R.B. The constitutional monarchy in Russia, 1906–17 // Regime and society in twentieth–century Russia. – L., 1999. – P. 44–67.
24. Modernisation in Russia since 1900. – Helsinki, 2006. – 331 p.
25. Modernizing Muscovy. Reform and social changing seventeenth century Russia. – L.; N.Y., 2004. – 489 p.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.