Текст книги "Работа над ролью"
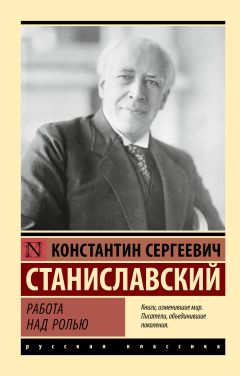
Автор книги: Константин Станиславский
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
– Я тоже заступлюсь за многие прежние традиции, красивые условности, установившиеся приемы, интонации, ударения, ставшие традиционными, – заговорил премьер труппы своим мягким тенором. – Стихи нельзя говорить, как прозу, а «Горе от ума» не реальная драма, а театральная пьеса со всеми условностями театра, и было бы напрасно их скрывать.
– В архив! – загудели опять голоса.
Реплика премьера еще больше обострила страсти. Все заговорили сразу, бросились в бой.
– Дайте говорить, не перебивайте! – крикнул режиссер, держась за звонок, точно за руль в опасном месте при надвигающемся шквале, едва удерживая порядок. – Я хочу слышать со сцены мелодию стиха Грибоедова, хочу любоваться его звучностью, как арией в итальянской опере!
– Грибоедов и итальянская опера! – разгорячился другой маститый. – А «миллион терзаний» Чацкого не нужен?
– Я не говорю, что мне не важны идеи Грибоедова, – спокойно возразил премьер. – Речь шла о стихе и музыке, которые я люблю в театре.
(Премьер говорил всегда не то, что думал, да так, чтобы ему возражали, говорили то, что ему интересно.)
– В таком случае, по-твоему, Грибоедову дороже всего были его звучные рифмы? И ради них он сел писать пьесу? – уточнил кто-то из артистов.
– Я не знаю, что именно заставило писать Грибоедова, но не сомневаюсь, что и рифмы были ему тоже дороги, – необыкновенно спокойно заявил премьер.
– «Тоже» не значит «прежде всего», «в первую очередь»? – спросил тот же артист. – Но кроме рифмы и музыки стиха что ты любишь в «Горе от ума»?
– Свободный дух Грибоедова, – заметил премьер.
– Прекрасно. Теперь скажи по правде – ты видел в какой-нибудь из постановок, чтобы этот свободный дух Грибоедова был передан на сцене должным образом?..
– Отчего же, были прекрасные исполнители, – заявил премьер.
– Кто? Назови их имена.
– Самарин, Щепкин, Ленский, Шуйский.
– Ты их видел?
– Нет.
– И я их тоже не видал. Значит, они не в счет.
– Я видел моего милого Сашу Ленского, – опять запел свои воспоминания старый режиссер. – Превосходно играл! Превосходно!
– И он по-настоящему передавал все дорогие Грибоедову мысли, идеи, оттенки и, главное, чувства? – скептически вопросил все тот же студент.
– А кто знает, какие мысли, идеи и чувства ему были дороги? – попытался старый режиссер навести спор на главную тему.
– Как «кто знает». Разве ты не умеешь читать между строками?
– Нет.
– Так я тебе прочту.
– Прочти.
– Ну, попробую… любовь к России.
– Все Чацкие любят Россию и громят ее врагов, да еще как! – поддразнил старый режиссер.
– Разве любовь только в этом и состоит, чтобы громить других?
– По-моему, да. А по-твоему, в чем? – спросил старый режиссер, прикинувшись простачком.
– В заботе, в страдании о дикости и неустройстве отечества, – подсказал кто-то.
– Понимаю, – согласился Бывалов. – А еще?
– В желании образумить тех, кто мешает прогрессу, убедить их в ошибках, сделать лучше, – дополнила одна из молодых сотрудниц.
– Тоже понимаю, голубоглазая блондинка, – поощрил режиссер.
– Вот в этом-то и закорючка, – сказал мой любимец. – Все Чацкие орут, грызут землю, рвут страсть в клочки, но они не любят Россию. Ты не ори, а люби, вот тогда я поверю, что ты Александр Грибоедов или Александр Чацкий.
– Чего же вы еще требуете от моего друга Саши Чацкого? – стал допытываться режиссер.
Все прекрасно понимали его маневр, но притворялись непонимающими и помогали поставить беседу на правильные рельсы.
Я должен был уйти до конца беседы…
Меня позвали в комнату правления.
– На какой же срок вы просите отпустить вас? – обратился ко мне с мертвым лицом и сонной интонацией председатель Рублев.
– Пока до конца сезона.
– До конца сезона… вот как-с.
– Ах, тезка, тезка! Красавец! Не ожидал! Мы вас так любим, а вы… – воскликнул присутствовавший при нашей беседе старый актер.
– Валерий Осипович! – остановил его председатель.
– Извиняюсь.
– Какие мотивы побуждают вас обращаться с просьбой об отпуске в самый разгар сезона? – спросил председатель.
– Мотивы?.. Несчастье, катастрофа! – ответил я с дрожью в голосе. – Я сломал ногу, упал в люк, и у меня сделалось сотрясение мозга; подхватил тиф со всевозможными осложнениями!
– Вот как-с, понимаю-с! Однако вы ходите и, слава богу, бодры, полны сил, – сонно улыбнулся председатель.
– Я хожу ногами, но моя душа замерла на месте. Поймите!.. Моя душа получила ужасное сотрясение. У меня душевный тиф с сорокаградусной температурой! Неужели вся важность болезни и катастрофы в том, что глаз видит поломы и физические страдания? Но душевные страдания, болезнь и катастрофа во сто раз опаснее и хуже, особенно для нас, артистов, которые играют на сцене не ногами, а душой. Будь у меня сломана нога, меня вынесли бы на сцену на носилках, и я мог бы говорить. Но с больной и потрясенной душой я не могу выходить и играть на сцене.
– Тезка! Тезка! Родной! Радость наша! – взвыл Валерий Осипович и, оглядываясь на сидевшего невдалеке режиссера Бывалова, приемы которого копировал Валерий Осипович, воскликнул: – А как же Лизавета Николаевна?
– Я призываю… – бесстрастно замямлил председатель, обращаясь к нему.
– Извиняюсь, извиняюсь, – галантно поклонился Валерий Осипович, важно откинувшись на спинку стула и закатив глаза.
– Вы поймите, – снова начал я, обращаясь к председателю, – дело не в том, что я не хочу играть. Напротив, я бы очень хотел. Мне ведь нелегко переживать то, что я переживаю, и просить то, что прошу. Дело не в том, что я не хочу играть – я не могу: не могу нравственно, духовно. Если бы не мог физически, то и разговоров бы не было. Я прислал бы вам короткую записку: сломал, мол, себе ногу, полгода играть не смогу, – но беда в том, что я внутренне, духовно, невидимо не могу, и раз невидимо, то и неубедительно, и никто не верит. Вот ведь что ужасно!
– По части невидимых мотивов я как человек практики не большой знаток. По этому делу следует обратиться к специалисту.
– Ваше мнение? – спросил председатель у заведующего труппой М. – Что вы скажете об отпуске артиста Фантасова?
– Валерий Николаевич слишком большая фигура в нашем театре, чтобы его болезнь могла пройти без серьезных последствий для дела, – польстил он мне. И эта лесть, покаюсь, не была мне неприятна, но не помешала воспользоваться случаем, чтобы свести некоторые старые актерские счеты.
– Вероятно, поэтому вы и назначаете меня дублировать Игралову, когда ему неугодно себя беспокоить для неинтересных ролей, – упрекнул я его.
– Дублеров назначаю не я, а режиссер, – ощетинился М.
– Я призываю вас… – тихо промямлил председатель, не отрываясь от бумаги, которую читал. – Итак, что вы предлагаете? – повторил он свой вопрос.
– Нам ничего не остается, как в спешном порядке заменить Валерия Николаевича во всех ролях. Это очень большая работа, так как он несет сейчас на своих плечах весь репертуар. На ближайшей же неделе, пока будут происходить репетиции, придется возобновлять – также в спешном порядке – все пьесы с Играловым.
– Они не сделают сборов, так как слишком заиграны, – заметил кто-то.
– Это делается не для сборов, – пояснил заведующий труппой, – а для того, чтобы не закрывать театр. Будь налицо Волин, можно было бы возобновить его пьесы. Но он еще не вернулся из отпуска, и наше положение безвыходно.
– Как видите, моя судьба зависит не от специалиста, а от вас, человека практики, – обратился я к председателю, теряя терпение.
– Понимаю-с, – пробормотал председатель, – пусть практика и отвечает за меня. Каково положение счетов? – обратился он к главному бухгалтеру.
– На двадцать восьмое расходов пятьсот одна тысяча двести семьдесят рублей, приход триста восемь тысяч двести семьдесят четыре, итого минус сто девяносто два девятьсот девяносто шесть.
– Долг на мне? – спросил председатель.
– Вся сумма аванса забрана, и даже с излишком.
– Забрана… – повторил председатель, – вот как-с, понимаю-с… Другие ресурсы театра?
– Какие же ресурсы? Председатель – вот наш единственный ресурс.
– Обо мне пока нужно забыть.
– Тезка! Тезка! Финально скажу, – взволновался Валерий Осипович…
– Я призываю…
– Извиняюсь!
– Роль Генриха я предлагаю передать Игралову, – распорядился М. – Ему же отдать и роль Ростанева.
– Что?.. Ростанев – Игралов?! Откуда же он возьмет нерв для роли? Темперамент, ритм, добродушие, детскость, весь образ? Лучше совсем снять пьесу с репертуара, чем ее калечить.
– Конечно, лучше бы совсем снять с репертуара, – искренне согласился М., – да нельзя…
Как? Игралов, этот красивый самовлюбленный холодный резонер, техник, представляльщик, и вдруг – наивный ребенок, правдолюбец Ростанев! В тех местах, где он, не помня себя, бешено мчится к правде, Игралов будет кокетничать, позировать, показывать не самую роль, а себя в роли. Но больше всего обидно мне то, что я должен хладнокровно смотреть, как распоряжаются моими собственными созданиями, в которых течет моя кровь, бьется мой пульс, живет мой дух. У матери отнимают ее собственного ребенка и тут же на глазах отдают сопернице, которая не умеет, не будет и не может любить ее дитя.
Это насилие приводило меня в бешенство.
– Вы уже ревнуете? – поймал меня Д., давно уже следивший за мной.
– Нет. Я не ревную, а глубоко оскорблен отношением театра ко мне.
– Каким же отношением? – уточнил он спокойно.
– Как «каким»! Берут мои роли и на глазах у меня делят их между собой.
– Да, они с удивительной готовностью торопятся исполнить ваше желание.
– Мое? – воскликнул я в недоумении.
– А чье же? Разве не вы попросили отпустить вас на весь сезон? А чтобы это стало возможным, надо предварительно заменить вас во всех ролях.
Я осекся.
– Как вы думаете, весело им портить ансамбль лучших пьес репертуара и брать на себя скучнейшую работу по спешной замене главного исполнителя? Шутка сказать: перерепетировать шесть старых, набивших оскомину пьес.
– Как глупо! – признал я. – Я единственный виновник всего происшедшего и своих собственных теперешних волнений, и я же обвиняю других, ни в чем не повинных.
– Беда, когда заведутся дублеры! – продолжил гипнотизировать меня Д. – А если триблеры, то еще хуже! Я слышал одним ухом, что режиссеры находят необходимым на роль Генриха вводить сразу двух исполнителей.
– Двух? – переспросил я с тоской.
– Да, – подтвердил Д., – иначе Игралову придется выступать ежедневно.
– Ежедневно? – переспросил я с чувством большой обиды за театр.
– Да, ежедневно, – спокойно подтвердил Д., добивая меня – Когда вы вернетесь назад в театр, вам уже придется играть ваши роли не каждый раз, не каждую неделю, а через каждые два раза, то есть по разу в три недели. Это неприятно, так как после длинного перерыва роль играется не свободно, с увлечением, а с оглядкой, точно с тормозами, которые мешают отдаваться творчеству целиком.
– Да, вы правы, – согласился я.
В это время старик режиссер Бывалов очень громко, – вероятно, чтобы я слышал, – заявил:
– Из сюртука Фантасова можно сделать не один, а два костюма, сразу для обоих дублеров, и останется еще на жилетку для триблера.
При этом он утрированно смеялся, театрально топтался на месте и корчился как бы от распиравшего его толстый живот смеха.
Признаюсь, я не предвидел, что мои костюмы будут перешиваться. А как же мои муки, которые я пережил, когда часами простаивал перед зеркалом, отыскивая линии и складки, передававшие задуманный внешний образ роли? То подтянешь в плечах, то в спине, то подберешь фалду, то спустишь один бок панталон, то приподымешь другой. Вот мелькнула и снова исчезла линия, которая так долго чудилась… И снова ищешь ее… закалываешь… Но глупый портной, который всегда и все лучше знает, приноровил мои требования к своему трафарету, и стало еще хуже, чем было… И снова стоишь перед зеркалом или сам берешься за иглу. А если находишь то, что искал… боже, какая это радость! Как бережешь найденное! И вдруг теперь, в благодарность за все мои страдания, у меня на глазах спокойно раздирают мои ризы и мечут между собой жребий, кому они достанутся! Ведь костюм артиста – это та же картина художника. Мы тоже ищем линии и краски! И вдруг берут картину и режут ее! Почему? Да потому, что картина слишком велика для рамки! Какое варварство, кощунство! Да нет, этого быть не может, Вывалов дразнит меня!
Нo меня ожидало еще большее испытание. По равнодушно-грустному лицу У. видно было, что он готов терпеливо принять самые резкие выходки с моей стороны. Я знал это выражение его лица, поэтому сразу насторожился, предчувствуя недоброе.
– Вы разрешите Игралову пользоваться вашими музейными вещами? – спросил он безнадежно-индифферентно, точно граммофон.
– Какими вещами? – переспросил я почти резко.
– Музейными, – пояснил У. увядшим, бесстрастным голосом.
– Например? – едва не выкрикнул я.
– Древним германским поясом, который вы надеваете в роли Генриха, мечом из «Цезаря».
– Как? Игралову передать и роль Антония? Это назло мне, что ли?
Я чувствовал, как краснеет мое лицо, шея, затылок…
«Неужели я на протяжении нескольких лет таскался по грязным лавкам антикваров, рылся во всяком хламе и тряпье для того, чтобы угодить господину Игралову? – подумал я, пытаясь совладать с гневом. – В руках моего соперника эти чудесные старинные вещи примелькаются зрителям и сделаются привычными, банальными».
– Нет, музейных вещей я никому не даю, да и сам пользуюсь ими редко, – ответил я как отрезал.
– Хорошо, не дадите – так не дадите. Я так и передам, – проговорил необыкновенно спокойно бедный У., пожимая плечами и тихо, бесстрастно отходя от меня.
– Да полноте терзать себя, – ласково, точно любуясь моей актерской ревностью, прошептал мне Д., обнимая меня за плечи. – Играйте сами все старые роли, а от Чацкого, так и быть уж, откажитесь.
– От какого Чацкого? – так и вцепился я в Д.
– От грибоедовского! – спокойно подтвердил он.
– Разве он назначен мне? – с дрожью в голосе уточнил я.
– Да, а вы что, не знали?
Это известие было так неожиданно, лестно и радостно для меня, что я готов был простить театру и режиссерам все их обиды.
Давно я не играл молодой роли. Пора. После предыдущих успехов – это хорошо…
Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног.
Это будет иметь успех! – соображал я, мысленно примеряя на себя новую роль.
– Ну, прощайте! – протянул мне руку Д. – Так и поступите… А Чацкого пусть отдадут Игралову… У дам он пройдет первым номером.
До этой коварной реплики Д. чашки весов точно сравнялись: мне так же трудно было решиться играть старые роли, как и отказаться от них. Но теперь, когда Чацкий точно свалился ко мне с неба, одна из чашек сразу перевесила.
Пусть решает Творцов. Как он скажет, так и поступлю…
Но Творцова уже не было в театре. Спектакль кончился, и в актерской передней я встретил Игралова, Рассудова и Ремеслова, которые надевали шубы, чтобы идти вместе ужинать. Они пригласили и меня. Я согласился.
– В сущности говоря, меня надо поставить в угол, а вас – высечь, – почти строго и уже совершенно для меня неожиданно сказал мне Творцов, когда я на следующий день зашел в его кабинет-уборную.
– За что? – удивился я.
– За вчерашнее, – разгорячился Творцов. – Какой же вы артист, коли не можете справиться с собой? Вся наша техника в том и состоит, чтобы ровно в восемь часов выходить на сцену и увлекаться пьесой, которая объявлена на афише. А вы хотите сидеть у моря и ждать погоды. Посчастливится – урвете кусочек вдохновения, тогда сделаетесь Мочаловым или Сальвини на две с половиной секунды. Вы – трагик двадцать девятого февраля.
– Что же делать, я такой: придет вдохновение – и я живу; нет вдохновения – я пуст.
– Так имеют право рассуждать художники, писатели, композиторы. Они могут творить у себя дома, и притом когда им заблагорассудится. А мы – раз, два, три! Что-то сделали с собой, о чем-то подумали, что-то вспомнили и заплакали настоящими слезами или засмеялись: искренне, честно, без подделки, – и притом не для того, чтобы плакать и смеяться вообще, беспричинно, механически, а потому, что обстоятельства жизни роли, помимо нашей воли, заставляют нас плакать или смеяться.
– Не умею по заказу! – возразил я.
– Знаю, что не умеете… Так учитесь.
– Этому нельзя научиться.
– Что? – сразу ощетинился Творцов. – Повторите, что вы сказали, и я перестану с вами кланяться. Дилетант вы, а не артист. Как вам не стыдно так унижать ваше искусство!
– Какое же тут унижение?
– А вы воображаете, что это честь искусству, когда у него отнимается всякая техника, всякое умение, всякая работа? Не существует искусства без виртуозности, без упражнения, без техники. И чем крупнее талант, тем больше они нужны. Отрицание техники у вас, дилетантов, происходит не от сознательного убеждения, а от лени, от распущенности. А искусство прежде всего порядок, гармония, дисциплина души и тела. Как же вы, артист, не знаете этого, когда даже ребенок, школьник или простой солдат и те понимают значение дисциплины.
– Школьник, солдат – это одно, а артист…
– А артист, по-вашему, должен целый день гулять по пассажам, в цилиндре и лайковых перчатках? Или сидеть в кофейне с барышней, а вечером жить возвышенными чувствами гениального Гамлета, которого в течение десяти лет денно и нощно создавал еще более гениальный Шекспир. Но Фантасов, оказывается, гениальнее их обоих. Ему не надо десяти лет, ему не надо и работать, не надо думать, даже готовиться к роли. Достаточно посидеть с барышней в кондитерской и съесть побольше пирожков… И вдохновение готово! Непостижимо! Пробыть несколько лет в школе, прослужить столько же в театре – и не понимать значения систематической работы и артистической, творческой дисциплины! В солдаты вас определить! Там вас заставят понять дисциплину!
– Солдат и создан для того, чтобы его муштровали.
– Неправда, он создан, чтобы сражаться, брать в плен врагов. Вот для чего ему нужна дисциплина! И какая!.. Сильнее самого страха смерти. Потому что, если у него не будет именно такой, более, чем страх смерти, сильной дисциплины и выправки, он не решится, не сможет идти на смерть, побороть в себе страх. А дисциплина против его воли – механически толкает его на врага. То же и в искусстве. Если бы у вас была артистическая дисциплина, выправка… Да какая! Несравненно более сильная, чем страх публики, и не только сознательная, а доведенная до подсознания, до механической приученности, то, во-первых, с вами никогда не случилось бы того, что было третьего дня, а во-вторых, вам бы и в голову не пришло отказываться, как вчера, от ваших обязанностей, от нравственного долга перед театром, от честного слова артиста, которое сильнее всякого контракта. Все это – распущенность, отсутствие дисциплины, а без нее нельзя завоевать зрителя, нельзя взять в плен тысячную толпу, совершенно так же как без дисциплины нельзя быть солдатом и брать в плен неприятеля.
– И у меня есть дисциплина, и техника, и все, что нужно артисту, когда я чувствую вдохновение. Главное в искусстве – почувствовать, тогда все приходит само собой.
– Что-о-о? – закричал Творцов, вскочив со стула и выпрямившись во весь рост.
– Я говорю, что все дело в том, чтобы переживать, чувствовать роль, и тогда…
– Ка-ра-ул! – во все горло на весь дом завопил Творцов.
Даже сторож, подбежав к двери, долго стоял у нее, прислушиваясь к тому, что у нас происходит. Но как только Творцов отошел в противоположный угол комнаты, сразу все затихло, он тяжело опустился в кресло и молча постарался успокоиться. А я так поражен был его неожиданной выходкой, что остолбенел от удивления и тоже молчал и не двигался. Наконец, успокоившись, Творцов подошел к столу, около которого я сидел, не глядя на меня, подал руку и сухо проговорил:
– Прощайте. Больше нам говорить не о чем.
– Что же такого я сделал?
– Не стоит объяснять. Все равно не поймете, – заупрямился Творцов.
– А все-таки…
– Когда специалист своего дела говорит другому специалисту, что весь секрет искусства только в том, чтобы почувствовать, пережить роль, и что тогда придет и техника и все… – я умолкаю, в недоумении и с грустью развожу руками. Вы бы лучше сказали: «Чтобы хорошо играть, надо хорошо играть», – или: «Чтобы ходить, надо только ходить», «чтобы говорить глупости, надо говорить глупости», «чтобы вдохновиться, надо только вдохновиться»! Для чего же нужна внутренняя техника, как не для того, чтобы возбудить чувство и вызвать переживание, а за ним, быть может, и само вдохновение? Другие, вроде вас, говорят мне: «Чтобы почувствовать, надо только пережить роль». Есть и такие, которые говорят: «Все дело в том, чтобы схватить главную суть», – или: «Только бы зажить, и все придет само собой». По-вашему, нужно сначала переживание, а потом уже техника. А по-моему, раз вы правильно зажили, то тогда не надо никакой техники. Все само собой пойдет.
– Я же это и говорю, – поторопился я оправдаться.
– Нет. Вы говорите совсем другое. Вы ждете случайного переживания и вдохновения. Оно бывает, но двадцать девятого февраля, а в остальные дни надо уметь естественно вызывать переживание, каждый раз и при каждом повторении творчества. Вот для этого-то и нужна внутренняя техника. Сперва техника, а потом переживание, а не наоборот, как у вас. Техника – для переживания, а не переживание – для техники. Когда роль пережита, девяносто девять сотых творчества уже сделано; довольно одной сотой, чтобы выявить пережитое.
Но вначале, когда еще нет пережитого, надо девяносто девять сотых техники и лишь одну сотую переживания.
– В таком случае я не гожусь ни в солдаты, ни в артисты. И тем более мне надо уходить.
Честное слово, я шел с самыми лучшими намерениями, чтобы остаться, согласиться на все, не только на старые роли, но и на Чацкого, но потому ли, что я не выношу Творцова в таком состоянии, или потому что не терплю, когда меня ругают, во мне что-то закаменело. Вероятно, это упрямство, которое стоит колом в душе, как одеревеневший сосуд у склеротика. Может быть, это от актерского самолюбия, следы сильной артистической избалованности, самовлюбленности?..
Но и Творцов упрям в своей ненависти к актеру-дилетанту в дурном смысле слова. Раз попав на линию борьбы с ним, он неумолим, настойчив и жесток.
Нашла коса на камень, и наша встреча не сулила ничего доброго. Я это чувствовал, но что-то внутри подталкивало и обостряло нашу обоюдную непримиримость. В таком состоянии можно наговорить друг другу таких вещей, о которых будешь сожалеть месяцы. В таком состоянии надо просто разойтись.
Но расходиться не хочется. А хочется дразнить свое недоброе чувство, излить побольше желчи – это облегчает.
Творцов приоткрыл дверь уборной, позвал сторожа и приказал ему никого не принимать. Потом он запер дверь на ключ, подошел ко мне сзади, обнял, поцеловал меня в затылок и сказал:
– Не скрывайте от меня ваших слез, плачьте вволю.
И я, конечно, заплакал. Потом мы крепко обнялись, причем я ему смочил щеку своими слезами, и он их не вытер.
Я уверен, что, если бы его спросили, почему он так поступил, то он ответил бы: «Эти слезы – особенные, чистые, святые, артистические!»
Творцов посадил меня свое кресло, а сам сел рядом на стул и принялся терпеливо ждать, пока я оправлюсь и начну говорить. Я рассказал ему о том, как всегда имел успех, как радовался каждому выступлению, постепенно дошел до вчерашнего кошмарного спектакля, который стал последним в моей артистической карьере, так как, не находя сил подвергать себя новым пыткам, я решил навсегда оставить сцену.
Творцов слушал меня так, как умел только он один.
– Ну, слава богу, кризис наступил. Теперь все пойдет прекрасно, – заключил он мою исповедь.
Признаюсь, я не ожидал такого результата моей исповеди и удивленно смотрел на Творцова.
– Вы удивлены? – продолжил он, нежно глядя на меня. – Я вам объясню, чему радуюсь. Видите ли, в чем дело: прежде, когда вы имели успех у мамаш и тетушек, у гимназистов, у женщин и, наконец, у самого себя, вы были простым любителем, который забавлялся искусством. Потом, поступив в театр и встретившись с профессиональными трудностями нашего дела, вы ловко применились к ним и выработали себе для облегчения актерского дела сценические приемы игры и благодаря этому добились максимума актерского успеха при затрате минимума творческих сил. И тогда вы продолжали нравиться психопаткам и себе самому. Вчера, наконец, искусство дало вам жестокий урок. Оно мстительно и не прощает. Теперь вы поняли, что искусством нельзя забавляться, нельзя и эксплуатировать его; ему нужно только молиться и приносить жертвы. Вот этому искусству вы и начнете теперь учиться. Наступает новый период вашей артистической жизни. Вы превращаетесь в истинного артиста с серьезными, а не любительскими, запросами к себе. Вы будете любить не себя в искусстве, а, наоборот, самое искусство в себе. Вам будет труднее удовлетворить себя, но зато вы будете нравиться больше, чем раньше, серьезной части публики. Такое превращение не может совершиться безболезненно, и вам предстоят мучения; мало того, вам предстоит научиться любить ваши муки творчества, так как они приносят сладкие плоды.
– Что же я должен теперь делать? – спросил я.
– Вот что, дружочек, – подхватил он мое обращение. – Прежде всего я буду хлопотать о том, чтобы вам был дан отпуск, но не для отдыха, а, напротив, для усиленной работы. Вы будете работать, с одной стороны, на репетициях «Горя от ума», где вам придется пробовать Чацкого (сердце у меня екнуло), а с другой стороны – в школе, под моим непосредственным руководством. Там я как раз только что начал читать весь курс сначала – всего две лекции прочел. Чтобы догнать, я их повторю вам как-нибудь с глазу на глаз. Хотите сегодня вечером?
Конечно, я согласился.
– Таким образом, в школе вы будете работать над самим собой. Там мы будем устанавливать правильное сценическое самочувствие, при котором только возможна творческая работа. А в театре на репетициях вы будете работать над ролью. Здесь я научу вас, как подходить к ней, как искать в пьесе и в себе духовный материал для создания внутреннего образа роли; я объясню на практике законы и природу творческого процесса. Вы удивитесь, как быстро к вам будет возвращаться уверенность, но на этот раз крепкая, непоколебимая, обоснованная. Через месяц-полтора усиленной работы вы уже попроситесь на сцену.
– А как вы думаете, дадут мне отпуск?
– Это самая сложная из всех моих забот, – признался Творцов. – Беда в том, что ваш отпуск бьет по карману. Придется снять на месяц несколько пьес с вашим участием. Чем мотивировать такую меру? Вашим теперешним состоянием? Они не поймут его и скажут, что я размяк и, как всегда, балую актера. Только истинный артист поймет то, что с вами происходит, а где у нас истинные артисты? Чувствов, вы да, пожалуй, отчасти Рассудов, но он больше понимает, чем чувствует.
– Таким образом, приходится переучивать все сначала, – не без горечи заключил я.
– Нет, надо только продолжать учиться.
– Почему же вы раньше не говорили мне, что я иду не по правильному пути?
– Потому что вы меня об этом не спрашивали, – спокойно заявил Творцов. – Есть вопросы, о которых не стоит говорить с актером, пока он сам о них не спросит. Было время, когда я на всех перекрестках читал лекции. И что же? Все разбегались от меня как от чумы. Теперь я стал умнее и решил молчать, пока сам актер не дорастет до потребности спросить.
– И что же? Неужели, кроме меня, никто еще не спросил? – удивился я.
– Рассудов постоянно спрашивает, но ведь он больше для летописи, чем для искусства.
– А Чувствов? – полюбопытствовал я.
– Он еще дозревает, но уже начинает ходить вокруг меня и прислушиваться. Он еще только кандидат.
– А еще кто? – продолжил я допрос.
– Больше никто, – ответил равнодушно Творцов.
– А ученики?
– Спрашивают, но ведь они умеют только слушать, но еще не умеют слышать. Это очень трудное искусство: уметь смотреть и видеть, слушать и слышать.
– А вне театра у вас есть ученики?
– Учеников нет, но есть интересующиеся моими исканиями. Я их держу в курсе моих работ. Они мне помогают, делают опыты, выписки из научных книг.
– Кто же эти люди – актеры?
– О нет, любители.
– Почему же вы замахали руками, точно я сказал ересь?
– Вы лучше меня знаете, что актеры невнимательны и меньше всех любят свое искусство; они не говорят, не философствуют о нем, не изучают его. Мало того, они гордятся тем, что у них нет никакого искусства, а есть только одно вдохновение. Это делает их особенными людьми.
– Почему же это так?
– Потому что актеры учат роли, интересуются только ими одними. Покажите им, как играется такая-то роль, они возьмут из показанного одну тысячную, разбавят этот чужой материал своими актерскими штучками, приемчиками. Получится роль, с которой можно иметь успех. Из нескольких таких ролей создается репертуар, который можно пускать в оборот. Актеры ищут в искусстве легкого успеха, приятную жизнь, ремесло, скоро находят и… успокаиваются однажды и навсегда.
В это время Творцову принесли из дома обед, так как он должен был остаться в театре для заседания дирекции, на котором он надеялся провести мое дело.
Я захотел узнать в тот же день результаты его хлопот и потому решил остаться в театре, закусив в театральном буфете вместо обеда…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































